Максим Дрёмов. антиикея
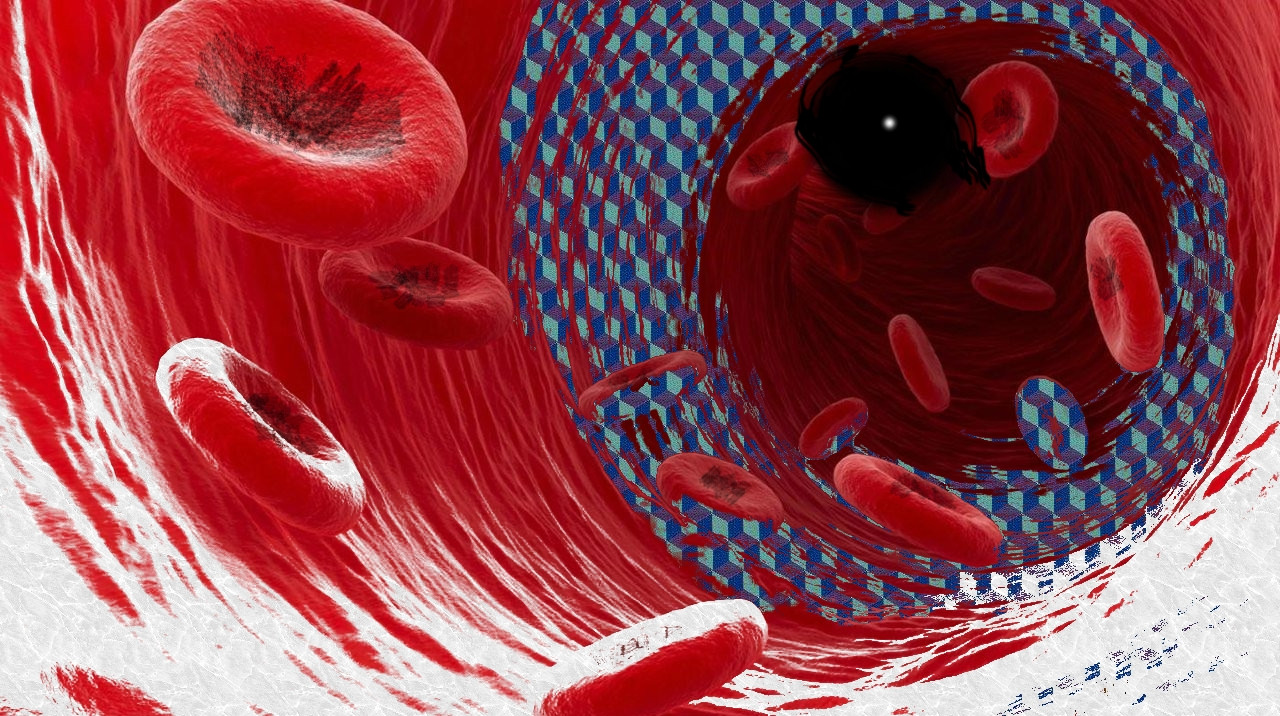
— как и когда ты планируешь обустроить
жильё? — спрашивает меня товарищ, с
которым сидим и колупаем вместе краску,
освобождаем её от стены. я не нахожу, что
ответить. у меня нет свободных денег, и, к
тому же, что значит «обустроить»? как по мне —
освободить комнату от мебели, квартиру от
стен, опционально — дом от квартиры, а улицу —
от дома, а город… я увлёкся, и друг не слушает.
мы листаем бледный каталог икеи, вздрагивающий
от сквозняка, вторгающегося в куцую кухню.
терапевтическая, в сущности своей, практика —
наблюдать вещи, на которые у тебя нет и не
предвидится денег. мебель из икеи считается
утопией среднего класса — те, кого мы зовём
буржуями, конечно, не обращаются к её молчаливым
услугам по присутствию в комнате. но грань между
ними и теми, кто улыбчиво собирает привезённый
из тёплого стана стол, куда более зыбкая, чем между
последними — и нами, рассматривающими стол
пресловутый в коммунальной квартире на семь
комнат. я это не то что бы живописую бедность —
у нас всё есть для жизни: сантехника, спальные
места (не кровати, впрочем — товарищ привёз
откуда-то массажный стол и водрузил на него
матрас, а я водрузил один матрас на другой: они
не совпадают размерами, и поэтому спать не сильно
удобно, но в принципе можно), с недавних пор есть
микроволновая печь — даже новая, работает как
часы. когда я в последний раз вернулся домой, я
обнаружил, что сломался один из четырёх старых
стульев — их было когда-то пять, один не пережил
соседства с нами, теперь, видимо, настала очередь
второго. однажды все они окажутся сломаны —
и по их аристократический абрис придёт страшная
деревянная смерть, которая со скрипучим хохотом
предаст их утилизации, заменив на универсальные
формы из икеи — контуры свободно конвертируемой
любви. мы об этом не думаем. скорее всего, мы
вообще съедем отсюда до этого момента —
постигать икею комнате придётся при других
жильцах. постигать икею — это пограничный опыт,
ведь постигать икею — совсем не то, что просто
бывать в ней или даже подолгу ночевать на
распластавших под тобой упругое, здоровое тело
кроватях оттуда. я бывал в икее раз или два в своей
жизни. там, откуда я родом, её нет. есть доставка,
которая работает как-то в обход законодательства,
хотя скорее они просто обманывают потребителя,
везут приикеенный левый товар. но это совсем
не то. за эти несколько раз я совсем не уверен,
что опыт постижения икеи приоткрылся мне: ведь
в сущности, ничего такого я не ощутил. я проводил
руками по рыхлым, будто мясным, креслам-мешкам,
не испытывая наслаждения, я не представлял
соприкосновение махровых полотенец с моей кожей,
и стекло, чудесное стекло, досель не изведавшее
напитков, которые я возымел бы потенцию в него
налить, совсем не трогало меня — хотя сам я трогал
его, и рассматривал на свет, и даже стукал пальцем
по ободку, чтобы услышать звон. ещё я съел
те самые фрикадельки в кафе — вкусно, но ничего
особенного. я был несколько даже разочарован —
я ждал слияния с чистой материей икеи, экстаза
тотальной воспроизводимости быта, кайфа от
ощущения себя бодрийяровским материалом,
залитым в ту самую, ждавшую меня всю жизнь
форму. я подсознательно желал стать продуктом
из каталога икеи, бледного, содрогающегося,
когда к нему прикасаются, я ждал ценника, я мечтал,
как его крючок — крошечный заусенец — пронзит
мою кожу. этого всего не было. и не было даже
боли от несоответствия ожиданиям. я вышел из
огня икеи невредимым, пот моментально лёгкими
облаками поднимался с моей кожи, волосы, как
нити в лампочках, сияли — но не загорались, ничему
не удалось сжечь, слизнуть и съесть меня. мне
захотелось повторить. икея остыла на моих глазах,
из пылающего провала стала сумрачным лимбом.
— этот стул называется «коцит»? — не, ты чё,
научись читать. страницы как гусиная кожа.
мякоть цен расслаивается под нашими ладонями,
раздвигается сочными, привлекательными волокнами:
мой товарищ хочет запретного плода икеи и начинает
водить пальцами туда-сюда, по кругу, совершать
возвратно-поступательные движения; вот он уже
развернул каталог боком, указательный и средний
пальцы проходят между страниц и содрогаются, плоть
глянцевой страницы становится податливой, из неё
течёт сок и слизь, и нездорово выглядящие сгустки, и
снова слизь и сок, сок и слизь. друг падает на колени,
припадает ртом к растекающейся под тонкой обложкой
луже, со свистом и хлюпаньем всасывает содержимое
её. я вспоминаю, что, кажется, на ближнем востоке чай
принято пить, непременно громко хлюпая. вы когда-нибудь
ловили себя на том, что в моменты шока в вашей
голове вертится что-то неподходящее по регистру?
мой друг лежит на полу, он, похоже, без сознания,
в его рот жадной типографской пиявкой ввинчивается
каталог из икеи. в
раздаётся бурление, как будто он полощет горло.
каталог икеи переползает на шею: мой товарищ
рефлекторно сплёвывает, липкая эссенция течёт
по его и без того грязной футболке. впрочем, скоро
от футболки не остаётся ничего: едким секретом
своих страниц брошюра разъедает её дотла, пара
капель попадают на голое, беззащитное тело, на
котором нет ни волоска (никогда не обращал на это
внимания раньше). симметричные пузыри-купола,
как будто из «науки и техники» — из
будущего — надуваются на коже, мгновенно лопаются,
друг просыпается и кричит, но у него не получается,
потому что во рту по-прежнему плещется склизкое
море, у него происходит рвотный рефлекс, жидкость
стреляет струёй в потолок и оседает на нём, как
заправский типографский клей. тем временем листы
каталога меняют свою форму и превращаются в
бумажные щупальца, которые опутывают его тело
кольцами, как нефтепровод. пульсируют, сжимаясь
и расжимаясь, передавливают сосуды, заставляя
части тела то краснеть, то бледнеть. одно из щупалец
занимает едва освободившийся от влаги рот и влезает
туда, проникая в пищевод и содрогаясь внутри, от чего
товарищ мелко дрожит и время от времени порывается
снова сблевать, но этого не случается; ещё одно
щупальце проникает в анус, заполняя его чернилами,
после чего с забавным звуком выходит — и краска
сначала бойко, а затем медленно, навевая приятные
ассоциации с водами рек и всем таким прочим, течёт
по кафелю, отливая в закатном свете малиновым.
я сижу на табуретке и вижу движущиеся, мельтешащие
отростки, сжимающие его член, разрастающиеся и
обвивающие собой расставленные по кухне предметы.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я видел порно, где кровать и вся мебель были из икеи
я хочу описать боль узнавания и сладость узнавания,
вырезанный на сердечной ткани образ рамы, матраса,
четырёх ножек; комнату с большим количеством углов,
скошенными стенами, на которых, вцепившись зубами
кнопок в обои, на честном слове держатся фотографии,
постеры и тетрадные листы с глупыми надписями,
комнату, в которой хотелось жить и хотелось умирать,
хотелось обнимать и хотелось уклоняться от объятий,
хотелось выписаться, исчезнуть из города, тесного
для меня одного, для нас с товарищем, хотелось
срастись телом с ковром, стать пыльным, пахнущим
табаком, уличной грязью и мокрым от крови телом
ворсом, хотелось врасти в стену, стать суть гипсокартон,
хотелось стать деньгами, подло комкаться в кармане,
хотелось потеряться, оказаться за её пределами,
хотелось пролететь сквозь телепомехи, ехать мимо
звёздного неба, шататься в турбулентности, вырываясь
за пределы тела, но никогда, никогда не хотелось работать.
я знал человека, который работает в икее. у него
есть нормированный график и социальная защита,
он каждый день приходит на склад и занимается
перемещением предметов с места на место, чтобы
повысить энтропию, чтобы расщекотать дракона,
чтобы тот пыхнул наконец огнём и всё сгорело к
ебеням. мой товарищ работает в икее, прямо сейчас
он стоит в торговом зале и бейдж на его шее шевелится,
приходит в боевую готовность. их ждёт сладкий,
вечер, полный могильных, липких и холодных прелестей.
когда плитка, когда стрелки, наклеенные на неё
несут меня по торговому залу, я чувствую: что-то
происходит с моими ногами, что-то здесь случается
с моими руками, голова моя ощущает — что-то не так.
меня разбирают, меня утюжат, выпаривают, сушат,
я брожу, связанным скинутый в цкт, меня не режут,
скорее просто разделяют — боль не успевает завязаться
в гроздь и лопнуть, лишь её соцветие пульсирует:
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я просыпаюсь на кровати из порно и рефлекторно
ощупываю место рядом с собой в надежде нащупать
своего друга, но моя рука сжимает пустоту. холодный
пот прошибает меня, я вскакиваю и обнаруживаю себя
в икее. одежда вырастает на мне логичным продолжением
кожи — неотделимым, из ключиц длинными лоскутами
мяса вырастает бейдж, вьётся вокруг меня. я хочу
шевельнуть языком, сотрясти воздух, но шевелю
бейджем своим — призывно покачиваю, влеку
клиентов, как рыбу — удильщик. самцы удильщиков
навеки врастают в самок, становясь их паразитами.
я обступлен толпой мигающих жертв — мигающих
гарантов моего существования. я чувствую, что
ещё одно движение не сойдёт мне с рук, мне пора
бросаться в бой, раззевать пасть, жрать, чтобы
выблевать жидкую массу огня в рот ребёнку,
уже шевелящемуся внутри меня, щупальцами
стучащемуся. я шевелю рукой. за мной осталась рука.
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
я хочу передать язык объекта боли: наваждение крови,
фантазм, стучащийся сгустком пыли в горле, толстой
веной на члене, карамельной коркой царапины. я хочу
корку — содрать, вену — разорвать, пыль — отхаркнуть,
утопнуть в жидкостях, произведённых собственным
телом, собственным текстом. я хочу, чтоб мою руку,
потную ладонь утопающего, сжал мой товарищ,
который теперь дрожит со мной в
пространстве автозака, ожидает — страх свой
бормашиной вонзая в коллективное сознание —
перехода в пространство чёрное. мы чувствуем
себя голыми и связанными, вплавляющимися
в тела друг друга. открыв глаза, я открываю впалые,
покрытие инеем веки друга, чтоб проснулись мы —
вместе, и обнаружили себя вместо мусорского бобика
в бетонном холле икеи под препарирующими наше
тело лампами. с нас снята не только одежда, но и
кожа, но жидкостей тела, по которым можно уплыть,
нет — наши сухие кости трутся о рассыпчатые комья
нервов, не вызывая больше ни боли, ни лёгкой даже
щекотки. лучи светильников держат глаза широко
раскрытыми и вкачивают в них текст, который я
писал последние пять лет, который пишет мой
друг, который публикует «транслит», который строгой
готикой узких букв смотрит с «грёзы», который вместе
мы вырезали на картоне, заливали трафарет краской,
озираясь с испугом на пролетающие поезда.
это последний текст, который я пишу. дальше будет
только агония скрюченного логоса, вынутого из
стиснутых зубов двух остывшых тел на полу икеи
в тёплом стане, сцеженного пенкой с говна, потёкшего
по штанине повешенного в сизо, выковырянного
из унаследованной земли. последний текст, написанный
мной, ещё пишется. ищутся слова, которыми я могу
проклясть себя, исчезнуть и не знать никогда о
тарелке офтаст, вспенивателе молока продакт,
тапочках феген, кроватях нейден и рикене, раковине
хэмнвикен, чехле на подушку стрэвклинт, свечке
хэмшё, об отбившем мне руку на большом москворецком
мосту мужике с взглядом убийцы, о фанате, что
расстегнул куртку перед нашей колонной, показав
засос целановской смерти в области сердца, о
том, как убили моих друзей, о том, как будут убивать
меня, о том, как работали мои друзья, буду работать я.
любить работу — это стокгольмский синдром.
это мой сон. в нём мы все работаем в икее, впереди
нас бесконечный коридор, света нет, есть нехватка
темноты, почитаемая за роскошь, и
снег, и
друг стёпа, у которого не было отца. мне рассказали,
что его отца убили менты. я спросил, был ли он
бандитом, на что взрослые ответили мне, что
это была просто случайность. я молю тебя о мире,
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает.
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
что ты мне скажешь, чего я не знаю сам, город
охрипших рыданий, уложенных в коробки
мебели, что ты мне скажешь, чего я не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я не знаю сам, хуй
в надвинутом на ебало чёрном воротнике, с камерой
в потной ладошке, что ты мне скажешь, чего я не
знаю сам, что ты мне скажешь, чего я не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я не знаю сам, товарищ,
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
что ты мне скажешь, чего я теперь не знаю сам?
опухшая от слёз женщина выходит из подъезда,
схлопывающегося за её спиной в пульсирующую
чёрную точку. я стою на крыше, передо мной —
магриттовский дождь самоубийц. когда они
достигают асфальта, слышится ласковый шелест.
запах озона, запах железа. не всё ли одно.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же:
игра в классики на обведённом мелом силуэте.
я хочу достать волчок, покрутить его, но волчок
рассыпается бесцветным прахом. в два туннеля
ноздрей заезжает ценный груз, я просыпаюсь,
перезагружаюсь в постели, чтобы убедить себя,
что нет икеи, что всё было сном, что я могу что-то
сказать, что я могу что-то сказать, что я могу что-то
сказать. со мной не согласна тревожная капля
люстры на потолке. булавка бейджа вошла в мою
кожу, как в податливый, мёртвый воск. я плавлюсь,
я свеча из икеи, декоративная, возможно, ароматическая
свеча; я пахну застарелым потом, горячей кожей,
плохо смытым бальзамом для волос, но в основном,
конечно, я пахну — кровью. кровь заполнила коридор
икеи, она хлещет по тёплому стану, затекает в метро,
доезжает до тверской, сахарова, прощально бурлит
на брусчатке манежки, её уносят самолёты, увозят
поезда до пензы, петербурга, евпатории, где она —
едва распахнутся двери — хлынет уже почти бурой
волной. в луже крови и воска мой товарищ молча
мастурбирует, сжимая в руке письмо арестанту.
он делает это, чтобы я смог — остатками искалеченной
руки приоткрыть хотя бы одно веко ему. я исполняю
просьбу. мы вместе стоим на крыше икеи, это мой
сон, который не может присниться женщине, сон,
который не может присниться мужчине. как можно
проклясть себя, отравить свою кровь навсегда,
чтоб вязала она рот, как вяжут нас — на тверской,
на сахарова, на манежке, как вяжут других нас —
в пензе, петербурге, евпатории. моя испанская
подруга говорила: cuando se hundieron las formas
puras bajo el cri cri de las margaritas, comprendí
que me habían asesinado. recorrieron los cafés y los
cementerios y las iglesias, abrieron los toneles
y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar
sus dientes de oro. ya no me encontraron. ¿no me
encontraron? no. no me encontraron, no me encontraron.
нас не водили на расстрел, мы приходили сами,
устав высиживать недели в фаланстере, скучать
за книжками молодых и смеяться над книжками
стариков, устав быть послами квир-письма в
гомофобной стране, устав заказывать значки и
забывать древки для флагов. мы сами приносили
отравленную кровь в желоба вдоль улиц, чтоб
не свёл её никто, не отмыл, чтобы въелась в
камень, но не видели нас, не нашли, не нашли.
чтобы стихи, которые не может написать мужчина,
стихи, которые не может написать женщина,
стихи, которые нельзя написать в одиночку —
лились, тошнотворно булькая, в каспийское море,
не находили там приюта и осколками подлодок
тяготили дно. чтоб увидев песок, отмеченный
нашим следом, соскоблив ржавчину, никто не
сказал, что мы знали, любили и ценили, а сказали,
что ненавидели мы — не впустили икею внутрь себя.
пока я писал этот текст, у меня украли телефон, где
были размечены последующие строфы — и телефон
прожигает карман вору радугой сопротивления,
вываливается в снег, чтоб его не нашли, не нашли.
невидимые поля крови сшивают нас с товарищем,
давно уже слившихся с грязной струе, заново —
мы проснулись, мы видим скит, сквот, бедно
обставленное помещение, в котором нет мебели
из икеи, в котором нет мебели вообще. мебель не
найдена. пространство — одна сплошная дверь, и
в неё гонит нас радиоактивный ветер пустоши:
переоценивать вещи, находить в песке крышки.
зыбучий песок говорит на языке моего надреза
на щеке, из которого воздух рвётся со свистом,
оставляя от меня — сдувшуюся куклу, шкурку от
колбасного изделия, которую товарищ, оставшись
среди пустыни без еды, обсасывает в надежде
извлечь что-то съедобное из сухой оболочки.
в этой трещотке медиумов, тетрадных клетках
пересекающихся высказываний — мы дрожим,
выброшенные птенцы, в свежие раны втирая
смыслы облепившей нас пыли. старухи с
приёмниками примеряют на нас звёздную
сетку: зодиак душевнобольных и прокаженных,
созвездие стигмы — открываешь гороскоп и
лупасит телесная жидкость на белые кеды.
ламентация пор, писклявый вой пупка,
гроул и скрим двух ушных раковин. голос, лишённый
голоса, седлает волну, волна подмешана к общему
осуждённому насмерть приливу с белёсой пеной,
который вот уже подступил к воротам икеи, к
постаментам со стеклянными сосудами — заполнить
их жижей высказывания. в свете двух светофоров
голый и синеватый, с потолка спускается мой
друг из детсада стёпа, которого убивали менты, пока
мы вдвоём листали каталог. в его мире больше нет
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
я — субъект, недоношенный ребёнок войны,
я больше ничего не прошу у узких створок тайны
механизма генерации этой мебели, этих мерцаний
посуды вокруг меня. этот текст совсем не об икее,
и он совсем не мой, и мой товарищ — вместе с мокрым,
голубым трупом стёпы — рыскают в новом мире,
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
голосуем вместе за жизнь — говорит порванный рот,
голосуем вместе за жизнь — говорит порванная книга,
содержащая впитавшиеся в подушечки пальцев
запрещённые стихи о запрещённых предметах, жестах,
голосуем вместе за жизнь — говорит порванная ткань
в месте проникающего удара — где скользкий нимб
свистящего воздуха натягивается над синим телом,
голосуем вместе за жизнь — говорит порванный анус,
точка расхождения яростных протуберанцев силы.
я закрываю глаза, я голосую за. мой синюшный труп,
подъятый над многоэтажкой дуновением воли,
раскидывает тощие руки со слабо выраженной
мускулатурой, затем смыкает их за спиной. отросток,
выползающий из затылка — червь, последовательно
проходящий сквозь все отверстия тела — вяжет
кисти рук, затем ноги; человек-конверт висит над
москвой, человек-оригами ждёт, когда он начнёт
гореть. гореть всегда, гореть везде — моя работа.
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
любить работу — это стокгольмский синдром
конверт, не содержащий опыта насилия, конверт,
не содержащий аффектов, мерцающих болотными
огоньками, перекатывающихся зобом в больном,
вздутом горле ламентаций, конверт, не содержащий
чувственности, сексуальности, странной телесности,
конверт, содержимое которого не представит себе
мужчина, содержимое которого не представит себе
женщина, содержимое которого не представит себе
человек. мой товарищ сидит на бордюре и смотрит,
я лазерным зрением рассекаю его голову на тысячу
мультяшных слайсов. герменевтический круг брызг
кровавых смыкается. в каждый тающий на глазах
кусочек плоти я влагаю свою слюну, слезу, каплю
желчи, спермы, мёртвую яйцеклетку, пот, мочу —
тысяча моих тел сидит на бордюре и смотрит,
тысяча моих тел представляет себе эти стихи,
тысяча моих тел, что никогда не будут готовы к
работе. любить работу — это стокгольмский синдром.
я, мой друг, моя подруга, гроб друга стёпы на наших
руках поднятый, наша облитая всеми нечистотами
процессия входит в светлое пространство икеи,
где деструктивное начало стучится каждому в
выбритую бошку, шрамы на торсе, кончики пальцев
ног, зажатые в военном ботинке. наше право входит
в наши тела — без стука, игнорируя стоп-слово. наше
право поддаться общей крови, ввести актором мир,
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает
и здесь мы вышли вновь узреть светила: окинуть
взглядом мир — по-прежнему наш — знающий о том,
как в наших телах покоятся наши враги, колокола
внутри сплошного бетонного блока. мерный звон
мускульного напряжения находит слушателя —
отражённого в блестящей радужной плёнке бензина.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же —
толпа втекала в помещение одновременно с солнечным
светом, после чего жидкости были вынуждены пролиться
на пол, на мебель из икеи, осквернённую теперь,
отторгающую матовой поверхностью скверну,
содрогающуюся в предсмертных муках — и
пропитывающуюся липкой субстанцией — нашим
ответом всем тем, кто был съеден, растерзан,
разъеден, расплавлен, разорван изнутри, разбит,
расшвырян по углам коммуналки, расфасован по
пакетам — случайным жертвам, не успевшим узнать мир
где нет ни таких случайностей, ни тех, кто их допускает.
в испарениях кислоты, пыльце негашёной извести —
танцует смерть, не такая, какой мы видели её раньше:
смерть в ободке радуги, улыбчивая, готовая протянуть
древко нам — под любой флаг; смерть икеевской мебели,
красивая и молодая, сошедшая с соцреалистического
полотна, выжатая из долгожданной утренней звезды.
в хороводе со смертью мы срастаемся вновь, наши
тела в замкнутой протяжённости находят способ
излучать свет, сияние, которому не будет конца.
между двух молний, голый, раззадоренный, горящий —
я шепчу товарищу на ухо текст про икею, текст против
икеи — необязательный к чтению, обязательный
к произнесению здесь, на сияющих руинах дома,
где мы жили и умерли, предали синие трупы огню,
где тело стёпы — губами, с которых иней не сойдёт —
рассказало мне то, чего я не знаю сам, где знание
истекает из речи, а речь льётся из перекусанных
в кпз вен, а боль испаряется, не долетая до рта,
где счастье, которое мы ловили и поймали, вместе
с нами надрезает ладонь — мы сиблинги, что стоят
на коленях в пепле, и на которых — иглами неба —
нацелены вытянутые шершавые взгляды фигур,
кадавров умного города, моргающих из турникетов.
и тут мы понимаем, что подобная поза нам не пристала,
что пора разорвать плеву век, вылезти
и вонзить взгляд во взгляд, всадить пулю в пулю,
расщепить стрелу стрелой, линзу совместить с
линзой, скрестить струи, запереть двух собак.
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
я видел порно, которое начиналось абсолютно так же
город оцеплен, блокада икеи продлевается. друг
выходит из цепи молча, из проёмов его под бровями
кровь знакомая стекает двумя негаснущими струями —
сон отпугнут, повёрнут волчок. стая — будто бы
псов, будто свиней — рвётся в бой — на голые скалы
рваных, клочковатых тел, что не могут принадлежать
мужчинам, не могут принадлежать женщинам, могут
принадлежать только нам. в этом мире ночь — тихий враг.
ветер цепляет нас — да здравствует вечная аркада.
