Реза Негарестани. МЕЖДУ ПОНИМАНИЕМ И ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ["Интеллект и Дух" - глава 1]. Часть II.
Как мы и обещали ещё на прошлой неделе, выкладываем здесь вторую часть нашего перевода первой главы книги Резы Негарестани "Интеллект и дух". А для тех кому легче читать пдф, прилагаем ссылку на пдф с полным текстом.
И чтоб вам всем попасть под "вал ноэтического разукоренения"!
Серия трансформаций
Первый контакт интеллекта с объективным интеллигибельным миром — это столкновение со своей основополагающей структурой. Делая эту структуру интеллигибельной, geistig интеллект позволяет себе вмешиваться в собственную структуру и, тем самым, не только трансформировать себя, но и достигать такого представления о себе, которое не ограничивается тем, что кажется текущей и непосредственно данной тотальностью. Таким образом, можно сказать, что адекватное самопонимание ведёт к возможности самотрансформации, а конкретная самотрансформация открывает путь к объективному самопониманию.
Следовательно, самоотношение не акцентирует структуру интеллекта неизменной идентичностью, а трансформирует её. Подобно акту указания на точку, акту, который одновременно артикулирует то, чем точка является, и трансформирует её из чего-то фиксированного в динамический жест, — формальное самоотношение одновременно артикулирует интеллигибельность самосознающего сознания [self-conscious mind] и в то же время смягчает его фиксированную данную идентичность.[51] Это логика самоотношения как динамического процесса, в котором идентичность «того, что ссылается» и «того, на что ссылаются», «того, что действует» и «того, на что действуют» определяются единством их трансформаций. В данном случае идентичность — это единство группы трансформаций, которые, следуя сквозь её вариации, выявляют инвариантные черты. Это ни в коем случае не слабая интерпретация идентичности, но скорее её строгое понятие, не подразумевающее ни фиксации, ни простой реляционности.[52] Нет никакой несовместимости между строгим, точным понятием идентичности и понятием идентичности, основанным на её изменениях и трансформациях.[53] Если geist обладает идентичностью, это ещё не означает, что его идентичностью должна быть сущность или вещь. Именно деятельность geist’а определяет его идентичность посредством серии трансформаций, которые являются его историческими воплощениями в рамках его понятия.
Автореферентная деятельность geist’а — это конструктивный процесс, подобно тому, как акт указания [pointing] или референции следует рассматривать не как отношение, но строго как трансформацию. Роль формального самоотношения состоит в том, чтобы учредить интеллигибельность geist’а в качестве способного конституировать собственную трансформацию и иметь историю, а не просто природу. Но артикуляция данной интеллигибельности на деле равнозначна трансформации geist’а и vice versa[54]. Указывая на себя как на точку объединения или конфигурирующий фактор, geist воздействует на себя; и воздействуя на себя, он осуществляет навигацию в пространстве собственного понятия. Он меняет собственную конфигурацию. Указывая же на собственную концепцию, ориентируясь в пространстве этого понятия и удаляясь от видимостей того, что представляется верным в локальной перспективе, geist может исследовать возможности собственной реализации. История geist’а — которая есть история интеллекта — это последовательность самотрансформаций, в соответствии с собственным понятием, понятием, чьё конкретное содержание открыто для пересмотра. Эта последовательность или же история, как будет показано в главе 4, необходимо должна мыслиться как вне-темпоральная серия трансформаций. Как мы увидим далее, в своей подлинной форме, это история, постигнутая в соответствии с точкой зрения из никогда.
Осознавая себя за пределами данного отношения идентичности, geist должен сперва сделать интеллигибельной свою основополагающую структуру, условия собственной реализации. Ибо только действуя на объективную интеллигибельность этих условий, geist может реконституировать и осознать себя в соответствии с собственным понятием. Формальный автореферентный акт geist’а, таким образом, не подразумевает непосредственного отношения — пути, ограниченного данным, — или привилегированного доступа к тому, что представляется непосредственным. На самом деле, как будет продемонстрировано далее, в порядке сохранения своей интеллигибельности, geist должен адаптироваться и действовать за пределами уровня данного и проявлений, в соответствии с новым порядком интеллигибельности, касающимся того, что не манифестировано в качестве раскопанного современными науками. Автореференция или самораспознавание посредством такого порядка интеллигибельности порождает другую форму трансформации и сигнализирует о новом этапе geist’а.
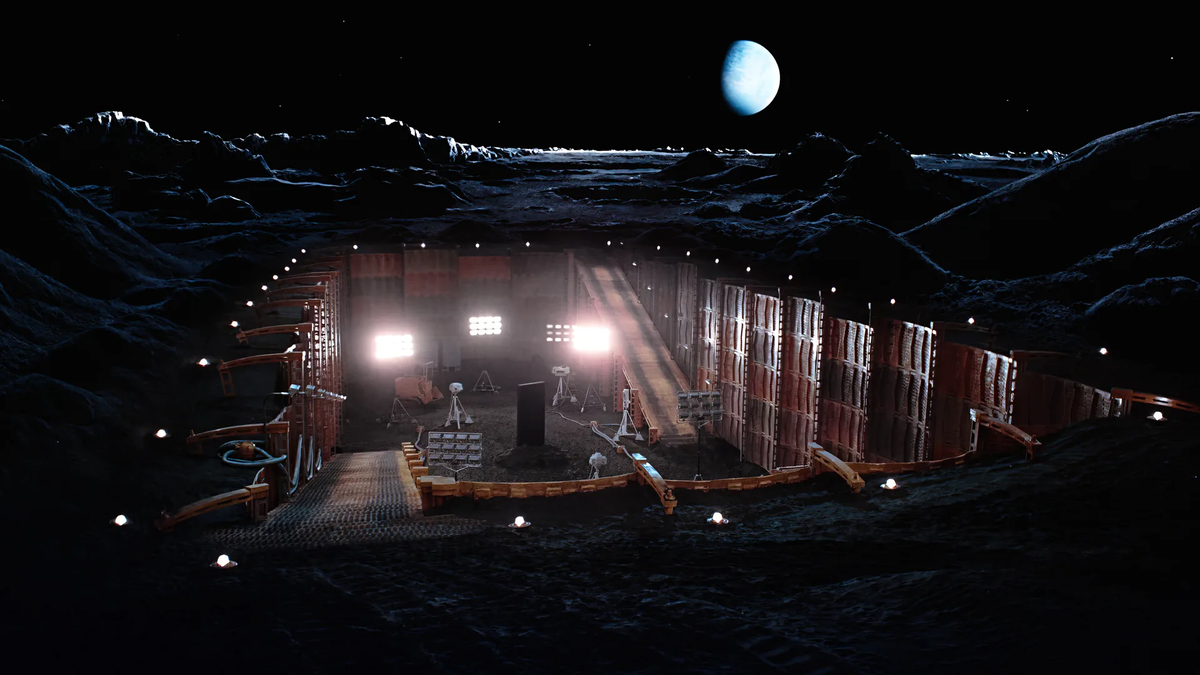
История как уточнение того, что значит быть артефактом понятия
«[Дух] есть в себе движение, которое есть познавание, превращение указанного в-себе[-бытия] в для-себя[-бытие], субстанции — в субъект, предмета сознания — в предмет самосознания, т. е. в предмет в такой же мере снятый, или в понятие. Это движение есть возвращающийся в себя круг, который своё начало предполагает и только в конце его достигает. — Поскольку, следовательно, дух необходимо есть это различение внутри себя, его целое, будучи созерцаемо, противостоит своему простому самосознанию; и так как, следовательно, целое есть то, что различено, то в нём различают его созерцаемое чистое понятие, время, а также содержание или в-себе[-бытие]; субстанция как субъект заключает в себе лишь внутреннюю необходимость проявить себя в самой себе как-то, что она есть в себе, [т. е.] как дух».[55]
Продолжающийся труд науки по углублению порядка интеллигибельностей, относящихся к независимому от сознания [mind-independent], не-манифестированному, не-данному, производит качественный сдвиг в структуре интеллекта. Наука (Wissenschaft) охватывает не только науку о сознании и эмпирические науки, но включает в себя также историческую науку и Науку логики, которая есть наука мышления об интеллигибельном единстве сознания и мира, мысли и бытия — об автономии первого и инаковости второго.
Для того чтобы обнажить порядок интеллигибельностей и воздействовать на него, чтобы развязать его трансформационные способности, сама структура интеллекта должна претерпеть трансформацию. Наука, занимающаяся экскавацией порядка интеллигибельностей, ответственна также за качественные трансформации в структуре и истории geist’а. Под постижением здесь понимается «приведение к пониманию», поскольку, согласно Гегелю, цель духа состоит в конкретном обретении собственного понятия и формировании нормативного понимания себя, а также осознании себя в соответствии с этим пониманием, а не данной природой или значением:
"Дух производит своё понятие из себя, объективирует его и, следовательно, становится бытием собственного понятия; он начинает сознавать себя в объективном мире, и, таким образом, может обрести спасение: ибо как только объективный мир подчиняется своим внутренним требованиям, он реализует свою свободу. Когда же он определяет свою цель таким образом, его прогресс приобретает более определённый характер, поскольку более не сводится к простому росту количества. Можно также добавить, что, даже основываясь на свидетельствах нашего обыденного сознания, мы должны признать, что сознание должно пройти через различные стадии развития, прежде чем осознает собственную сущностную природу".[56]
Интеллигибельность geist’а пребывает в его свободе — свободе, которая не просто свободна от ограничений, но свободна делать что-то. Это свобода, которая выражается в интеллекте. Она означает способность geist’а конституировать для себя историю, а не только прошлое или природу. Но способность конституировать историю может быть реализована только через способность утверждать понятие самого себя и тем самым трансформировать себя в соответствии с этим понятием. Это то, что уже подразумевает формальный порядок самосознания. Сознание влечёт за собой самоотношение, которое не есть простое данное отношение идентичности, но то, что оно делает, чтобы стать точкой объединения для интеллигибельности себя и своего неограниченного мира. Понятие сознания как точки объединения, соответственно, расширяет порядок интеллигибельностей (как себя, так и реальности).
Но что означает для понятия сознания такое расширение порядка интеллигибельностей? Это значит, что всякое конкретное или данное содержание этого понятия будет снято, и только форма останется необходимо и неизменно. Пересмотр содержания понятия geist’а — его конкретной идентичности и контингентной конфигурации — это и есть история geist’а. Это именно то, что подразумевает понятие прогресса. Размышляя о geistig прогрессе, необходимо снять привычную интуицию о прогрессе темпоральном: марше из прошлого в будущее. Вместо этого понятие прогресса следует понимать преимущественно в смысле когнитивного процесса — поэтапного растворения всех данных и достигнутых тотальностей мышления в порядке различения между тем, что является для сознания конкретным и случайным, и тем, что для него является необходимым и универсальным, — в том, что может стать социально-конкретным и явным. Прогресс, понятый в таком смысле, ни линеарен, ни сущностно темпорален. Свобода и интеллект, таким образом, совпадают в вопросе того, что значит иметь историю и в достаточной степени прорабатывать её следствия. Последствия обладания историей, перспективы становления объектом понятия и трансформации соответственно с ним — относятся к области интеллекта, который всегда находится в процессе, не будучи ни дан, ни осознан в своей совокупности.
Гегель — заклятый враг данности, и потому он переносит борьбу с ней из сферы мысли в сферу действия. Geistig интеллект упраздняет не только теоретические данности, но также данности праксиса и истории. Определяя прогресс geist’а как уточнение того, что значит быть артефактом понятия, чьё содержание может и должно быть пересмотрено, Гегель придаёт понятию прогресса первостепенное значение в борьбе с данностью. Geist должен выходить за пределы данности и разрабатывать собственное понятие, но лишь для того, чтобы и дальше конкретизировать значение этого движения против данности, действуя и трансформируя себя в соответствии с понятием, отрицающим все конкретные, манифестированные и данные содержания.
Кантовский трансцендентальный поворот был серьёзной атакой на данность. До Канта чувственный мир — чувственные данные — воспринимался как средоточие структуры и категориальных форм, в то время как сознание было куском воска или же чистым листом, с готовностью принимающим эти данности. С трансцендентальным поворотом Канта ситуация перевернулась. Теперь данные стали чистым листом, а сознание — структурирующей и конфигурирующей точкой. Но Гегель продвинул кантовскую атаку ещё на один шаг, утверждая, что, поскольку сознание является объектом собственного структурирующего понятия и обладает историей, оно должно на практике устранять данности — т. е. предполагаемые завершённые совокупности — собственной истории. Гегелевский трансцендентальный поворот, таким образом, не только касается формальной автономии мысли, но и её конкретной объективной исторической свободы. То, как это соотносится с тем, что Уильфред Сэлларс назвал «мифом о данном», будет обсуждаться в последующих главах в самых разных видах.[57]
История geist’а есть динамика между его позитивными и негативными концепциями. Только признав себя одновременно позитивным и негативным конфигурирующим фактором, как обеспечивающим свободу, так и препятствующим ей, дух может превзойти себя и испытать свободу самореализации. Если он хочет расширить свои возможности по модификации себя, для максимального увеличения функциональной автономии интеллект должен относиться к условиям требуемым для собственной реализации, — естественным или же нормативным — как к равно негативным и позитивным ограничениям: негативным в той мере, в какой они должны быть преодолены для повышения автономии от условий реализации, и позитивным в той мере, в какой эта автономия не может быть увеличена, покуда условия реализации не будут определены и использованы для эффективной трансформации. В рамках такого двоякого подхода к условиям реализации раскрывается отношение интеллекта к своей естественной истории. Для того, чтобы интеллект стал артефактом собственного понятия, чтобы он мог развиваться и качественно трансформировать себя соотвенно с собственным понятием, он должен учитывать свои естественные условия реализации в качестве препятствий, которые надобно преодолеть. Но для того, чтобы преодолеть их, он должен определить свои естественные ограничения с целью их модификации или замены альтернативными реализаторами, более соответствующими его собственному понятию.
Несмотря на то, что интеллект обладает естественной историей, без переориентации, перепрофилирования и пересборки естественной истории, он перестаёт быть интеллектуальным. Увеличение интеллекта и расширение возможностей geist’а останется крайне неправдоподобной мечтой, если не подвергнуть пристальному анализу его естественную историю, различая его позитивные и негативные ограничения. Но интеллект, не разрабатывающий нормативную концепцию того, каким он должен быть, — что неизбежно приводит к пересборке и пересмотру своей естественной конституции и множественной реализации, — ещё более неправдоподобен. Переучреждение нашей природы требует, чтобы мы не забывали о естественной истории и условиях воплощения, поскольку «то, какими мы должны быть» не может не учитывать структурно-материальные ограничения реализации. Но «не забывать нашу естественную историю» не означает вышеизложенного переучреждения нашей природы, если только мы не придерживаемся режима конечных причин в природе, согласно которому [объективные] причины того, каковы вещи, и [субъективные] основания того, какими вещи должны быть [causes and reasons], бесшовно соединяются. Более того, природные ограничения — это лишь один набор ограничений среди прочих (социальных, лингвистических, экономических и т. д.).
Интеллект распоряжается своей данной природой, исходя из истории собственных обязательств и требований, ибо история интеллекта всерьёз начинается только с кумулятивной переработки своей данной конституции, путём постепенного отказа от данности во всех её манифестациях. Когда же речь идёт о geist’е, уместнее говорить во множественном числе — об историях, хрониках, реконституциях, а не об истории и конституции. Для интеллекта реконституция — есть адаптация к новым режимам, преследующим определённые цели и выводы, которые сами по себе открыты для пересмотра. Фактически, ошибочность таких заключений побуждает интеллект к самокорректирующему подходу. Реализация сознания сводится к модификации условий его реализации. Это то, что подразумевает функция от функционализма сознания. Как только сознание осознаётся как конфигурирующий фактор, путь к полному функциональному анализу сознания становится неизбежен; а этот путь, в свою очередь, ведёт к полной реорганизации сознания, его систематической искусствефикации.
Искусственность — это реальность сознания. Сознание никогда не имело и не будет иметь данной природы. Оно становится сознанием, позиционируя себя как артефакт собственного понятия. Осознавая себя как артефакт собственного понятия, оно становится способным трансформировать себя соответственно со своим необходимым понятием, прежде всего, идентифицируя, а затем замещая и модифицируя собственные условия реализации, отключая и включая ограничения. Сознание есть ремесло применения себя к себе. История сознания, таким образом, — это во многом история искусствефикации. Всё и вся, захваченное этой историей, подлежит всестороннему переучреждению. Всё невыразимое будет расколдовано теорией, а всё сакральное — осквернено практикой.
Несколько замечаний о теории, структурирующей функции сознания, и рационализирующих мощностях
Поскольку с термином «теория» зачастую обращаются вольно, вплоть до того, что слово «теоретический» стало расплывчатым, если не бессодержательным прилагательным, необходимо предоставить минимальный критерий того, что подразумевается здесь под теорией или теоретичностью, как внутренне связанной с понятием и идеей сознания, и, что более важно, с неустранимой корреляцией между интеллектом и интеллигибельным. Теоретическая рамка трёхчастна ⟨L, S,U⟩, где:
● L — это язык для теории, т. е. язык с присущими ему эксплицитными формальными измерениями, семантическим богатством и транспарентностью.
● S — это структура, связанная с сознанием в качестве фактора концептуализации или структурирования. Структура представляет собой чётко дифференцированные и упорядоченные n-арные отношения R (⟨R.lexicals, R.names, R.ends, R.entities, R.aspects, R.processes, R.domains[58]⟩) и операции O (⟨O.lexicals, O.names, O.ends, O.entities, O.aspects, O.processes, O.domains⟩) между многосторонними аспектами, элементами, или же частями сущности, области или процесса, такими как:
— R.lexicals присваивает каждому отношению набор лексических элементов [lexicals] l. Лексические элементы обозначают свойства отношений или сущностей и могут рассматриваться как другой кортеж ⟨l, l.names, l.type⟩, где, например, l.type присваивает каждому лексическому элементу тип.
— R.entities присваивает каждому отношению набор сущностей.
— R.ends присваивает каждому отношению цели (т.е. целевой объект, аспект).
И т. д.
Для создания n-арной реляционно-операциональной рамки (связывающей вместе отдельные сущности, аспекты, процессы и т. д. в самом широком смысле) потребуются также иерархии обобщений сущностей, аспектов, процессов и областей. Например, обобщение набора процессов P можно обозначить как P.gen⊆PxP. Это позволило бы нам говорить о таксономических отношениях между двумя и более процессами. Если процессы p1 и p2 являются дочерними процессами, то они наследуют лексические элементы и связи между ассоциированными процессами и т. д. от своих родительских процессов.
С появлением структуры, мы более не говорим о вещах в мире, но исключительно о структурах (сознания) или объективных фактах о мире[59].
● U — это универсум дискурса или пространство обширных данных, предоставляемых с целью концептуализации или объяснения. Например, целые числа или биологические виды могут быть представлены как универсумы дискурса[60].
Теория становится абсолютно систематичной, когда L понимается как язык и логосы, а именно, как логика и математика. В дополнение к традиционным платоновским логосам, — которые будут представлены в следующей главе, — мы должны также включить сюда вычисления в специфическом понимании современной теоретической информатики (отличном от определений логики и математики, но фундаментально соотносящимся с ними), как генерирующей рамки языка в его семантической и синтаксической широте. В этом смысле вычисление является тем, что устраняет жёсткое различие между языком и логосами. Тем не менее, для построения абсолютно систематической теории самой важной модификацией является принятие U за неограниченный универсум дискурса, в котором можно формировать теоретические утверждения («Это тот случай, когда…») без каких-либо априорных ограничений масштабов такого универсума. В противоположность ограниченному универсуму дискурса (например, целым числам или числам вообще), неограниченный универсум дискурса характеризуется абсолютной открытостью его охвата в отношении учёта данных, предоставляемых языком и логосами, и тем, что позволяет выработать все связи, взаимозависимости и различия между тематическими компонентами, а следовательно, позволяет и возможность систематизации.
Критически важно не перепутать то, что мы называем данными, — с чувственными данными или же сенсорными данностями. Концепт данных, рассматриваемый в этой книге, тесно связан со структурирующей функцией сознания и будет подробно разработан в последующих главах в соответствии с двумя фундаментальными классами данных: классом аксиоматическим (или формальных данностей) и классом кандидатов на истинность, который генерирует отличную от аксиоматического разновидность структур. Как мы увидим в финальной главе, абсолютно систематическая теория интеллекта или же программная концепция философии, чьей главной заботой является создание высшей формы интеллекта, работает преимущественно с данными в качестве кандидатов на истинность, и только во вторую очередь в контексте специализированных областей аксиоматических данных.
Следуя за Пунтелем, тройственность можно сократить как ⟨S, U⟩[61], где S возникает в результате комбинирования всех возможных синтаксических и семантических структурирующих способностей сознания. Определение теории как кортежа означает, что элементы должны рассматриваться с точки зрения всей совокупности их отношений. Упорядоченность кортежа предполагает, что все три элемента L, S и U сочетаются друг с другом. По этой причине, любая систематическая теория должна эксплицировать то, каким образом эти элементы держатся вместе в её рамках. Такая артикуляция должна рассматриваться скорее как сущностный аспект презентации теории как таковой, чем как предмет метатеоретического рассмотрения или рефлексии о представленной теории.
Поскольку экспликация отношений между структурой и универсумом дискурса в действительности является артикуляцией связей между логической функцией сознания, как структурирующим фактором, и рассматриваемыми данными, предоставленными логосами или рационализирующими мощностями сознания, — в разработке соответствия S и U любая подлинно систематическая теория должна исследовать, каким образом она продолжает философию сознания. К философии сознания я, в частности, отношу то, как вопрос сознания обрамляется в рамках немецкого идеализма, в котором речь идёт о конкретном движении между понятием сознания — как комбинацией существующего физического воплощения и необходимой логической функции, — и идеей сознания, как полной реализацией данного понятия и соответствующего ему объекта. Поскольку без логосов нет интеллигибельности[62], то без интеллигибельного вопрос об определении рамок интеллекта это пустая мысль. Разрабатывая теорию таким способом, мы можем отбросить метафизически скользкое совокупление сознания и мира, и вместо этого говорить о теории и объекте, принадлежащих к семейству фундаментальных формальных дуальностей (но не дуализмов) — таких, как структура и бытие (Пунтель), бытие и небытие (Платон) или разумность и чувственность [sapience and sentience] (Брэндом).
Самости как функциональные единицы и артефакты сознания
Движение и прогресс geist’а представляет собой конструирование сложных рациональных агентностей посредством нормативных (а не естественных) эволюционирующих форм самосознания. Сообщество рациональных агентов может опираться на модель самосознания в порядке осуществления собственной свободы, разрабатывая сперва самопонимание, а затем трансформируя себя в соответствии с ним. Возводя собственную концепцию и учреждая свои трансформирующие практики, в качестве сообщества рациональных агентов, geist становится способным конструировать более совершенные модели самосознания, и таким образом, структурировать различные виды самосознательных самостей. Но как утверждалось ранее, это движение зависит от того, насколько geist является усердным, компетентным и систематичным в раскрытии порядка интеллигибельностей, имеющих отношение к нему и к неограниченному миру, который ему со-объёмен. Можно сказать, что движение Духа проецирует конкурирующие модели самостей и соответствующие им способы осознания.
Ранее мы видели, что необходимая связь между пониманием и трансформацией является ключом к свободе Духа — «производить понятие себя из самого себя и становиться бытием своего собственного понятия» — то есть, конституировать не природу, а собственную историю. Самости, составляющие конфигурацию geist’а, есть по существу рациональные самости, что реализуют себя исключительно посредством формального порядка самосознания или разума. Для geist’а они лишь функциональные единицы. Превосходные режимы интеграции или когнитивных единств geist’а строятся на этих функциональных единицах и их логических ролях (например, на способах коллективной организации самостей, способах обогащения дискурсивного контекста их деятельности, способах социальной разработки их когнитивной значимости, и так далее). То, что составляет апперцептивные самости как функциональные составляющие geist’a, является формальной социальной конфигурацией geist’а как такового — формальной в том смысле, что она представляет собой регулируемое правилам дискурсивное пространство или же публичный язык. Подобно искусственной мультиагентной системе, geist является конфигурацией — равно конфигурирующей и конфигурируемой — дискурсивно-апперцептивных рациональных мыслящих самостей. Так или иначе, эта система структурирована не посредством простой коммуникации или социального объединения, но логическим или инференциально-семантическим пространством. Наделённая глобальной качественной деятельностью мультиагентная система есть то, что конституирует и что конституировано различными типами взаимодействий между локальными компонентами или, в данном случае, деятельностью мыслящей самости — теоретическим и практическим постижением. В то время как geist синтезирует единство апперцепции, именно интеграция апперцептивных самостей в их распознавании друг друга положительно модифицирует качественную деятельность geist’а, которая, в свою очередь, обусловливает более развитые когнитивно-практические самости. Эту схему следует рассматривать прежде всего как формальную систематичность распознавания — то, что, как мы увидим далее, может быть выражено в чисто логических, лингвистических и вычислительных терминах. Далее, она может рассматриваться как конкретный социальный проект коллективного распознавания, как объект теоретических и практических — в самом широком смысле того, чем теория и практика может быть, — трудов и вмешательств. Даже если формальная социальная систематичность сознания не является достаточным средством для осуществления последнего, без адекватного схватывания и мобилизации формальной социальности сознания любое конкретное устремление потерпит крах. Как в формальном, так и в конкретном социальном измерении сознания, никто никогда не имел своего собственного сознания. Сознание когнитивно лишь в том смысле, что оно распознавательно на протяжении всего пути — вычислительно, логически, лингвистически и социально.
Путать сознание с мозгом означает не только стирать формальное (т.е. не-субстанциональное) различие между мышлением и бытием, но кроме того попадать в ловушку непоследовательного церебрализма, для которого сознание становится данностью головного мозга индивидуального агента. Социальная манифестация низведения сознания до уровня индивида, где всегда можно указать на данный головной мозг, это и есть то, что Гегель называл индивидуальным, или точнее индивидуалистическим упрямством — сознанием, «увязшим»[63] в собственном «своенравии»:
«Так как не вся полнота его естественного сознания была поколеблена, то оно в себе принадлежит ещё определённому бытию; собственный смысл (der eigene Sinn) есть своенравие (Eigensinn), свобода, которая остаётся ещё внутри рабства. Сколь мало для такого сознания чистая форма может стать сущностью, столь же мало она, с точки зрения распространения на единичное, есть общий процесс образования, абсолютное понятие; она есть некоторая сноровка, которая овладевает (mächtig ist) лишь кое-чем, но не общей властью (Macht) и не всей предметной сущностью».[64]
Разногласия разумности
Люди являются функциональными единицами сознания. И под человеком мы подразумеваем рациональную самость, дискурсивно-апперцептивный интеллект или разумное существо. Утверждение человека в качестве составляющей сознания всегда рискует спровоцировать неприятные воспоминания о социокультурно заряженной человеческой исключительности, как наследии консервативного гуманизма. Но все разногласия по поводу человеческой разумности [sapience] так или иначе возникают из незаконного смешивания разумности, понятой как формальное качество, способное охватить любую чувственность, которая структурно удовлетворяет условия его реализации, — и разумности, понятой как субстанциональное качество, ставящее одно существо выше других существ. В то время как первая концепция разумности может быть адекватно понята как функциональная диаграмма или минимальное, но поддающееся пересмотру описание способностей, необходимых для мышления и действия, — вторая представляет собой конкретный отчёт о человеке, который описывается набором случайных характеристик и способностей. Разумность не есть бытие; она есть необходимая и положительно ограниченная форма или же Идея в гегелевском понимании этого термина. Необходимая, поскольку без этой формы распознавание мира и чувствующих существ или, говоря шире, пространство интеллигибельности — невозможно. И положительно ограниченная, поскольку её реализация опирается на необходимые условия и благоприятствующие ограничения, являющиеся как каузальными, так и логическими. Разумность — это формальный критерий, sui generis[65] форма — и поэтому не следует рассматривать её как субстанциональную сущность или сущее. Соответственно, рассматривать разумность как вид или ранг в порядке существ — значит опускать различие между тем, что формально, и тем, что субстанционально, между мышлением и бытием, [субъективными] основаниями и [объективными] причинами. Разумная сознательность — относящаяся к порядку самосознания или разума — не является чувственным сознанием. Она является необходимой формой для осуществления изменений в структуре чувственности через становление площадкой для особого рода логико-вычислительных деятельностей, суждений, умозаключений и концептуализаций. Разумность, таким образом, маркирует проникновение логико-концептуальных функций, как нового класса широких регулятивных функций, в чувственную деятельность. В двух словах, человек как форма лишь указывает на глубокое соответствие между интеллектом и интеллигибельным, структурой и бытием: на тот факт, что без интеллигибельного в широком смысле интеллект является просто идеологической фиксацией и что без труда интеллигибелности говорить об интеллекте нет никакой возможности. Отступление от труда интеллигибельности в пользу интеллекта или не-человеческого интеллектуального поведения это верный способ запутаться между тем, что является интеллектуальным объективно, и тем, что является интеллектуальным субъективно. Говоря иначе, консервативный гуманизм и антропоморфизация Вселенной подкрадываются к нам в тот момент, когда мы отвергаем разумность как набор позитивных/позволяющих ограничений мышления и деятельности — или же форму и идею человека — в качестве символа труда интеллигибельности.
Выражение Питера Вульфендейла «переформатирование Homo Sapiens»[66] предполагает, что разумность является качественным изменением в классах и типах деятельности чувственности, которое возникло благодаря качественно отличному классу деятельности. Любая чувственность, подпадающая под подобную деятельность или функциональную форму, будет сущностно отрегулирована и переформатирована.
Разумная сознательность [sapient awareness] отнюдь не репрезентирует новый ранг в порядке существ, но артикулирует конструктивный принцип или форму, что упраздняет господство человека как биологического вида. Очевидная конфигурация человеческого вида — и любой прочей чувственности, попадающей под это воздействие, — растворяется и ассимилируется в новых единствах безличного сознания. Переформатируя чувственное сознание посредством логико-концептуальных функций, разумная сознательность ослабляет регулирующую роль своего материального субстрата — будь то биологического или социального. Она постепенно освобождает собственные условия реализации от своей природной конституции. Синтезируя структуру, в рамках которой возможно нести ответственность как за мышление о чём-то (суждение), так и за делание чего-то (действие), она увеличивает собственные когнитивные, теоретические и практические свободы. Рационально эволюционируя в самость, способную относиться к себе как к артефакту, — рассматривая себя в качестве артефакта собственного Понятия, — она выдвигает понятие разумной агентности, поддающееся реализации в прочих артефактах. Далёкая от того, чтобы быть достигнутой целостностью, человеческая разумность есть то, что разрывает свою привязанность к какому-либо особому статусу или данному значению. Она есть артефакт, принадлежащий истории сознания как истории искусствефикации. Когнитивное изучение того, «что значит быть человеком», или того, «в чём заключается разумность», принимает форму систематических упражнений в разработке объекта развивающегося Понятия. Говоря кратко, разумная сознательность есть когнитивно-практический проект, благодаря которому реализация человека строго подчинена изменениям в содержании понятия человека. В той мере, в какой структура этого понятия формально конституирована и описывает человека не посредством возврата к субстанциональным сущностям, но с точки зрения необходимых структурирующих способностей, возникающих благодаря различным наборам материальных реализаторов, — она расширяет перспективы реализации разумности, распространяя их на область артефактов как чистых объектов ремесла и процессов искусствефикации. Однако, это вовсе не означает превращения артефактов в хранилище для консервации и воспроизведения канонического портрета человека, относящегося к области биологии и социокультурного партикуляризма. Разумная сознательность — это конструктивный принцип производства самости, наделённой содержательной сознательностью; ни эссенциалистская идентичность этой самости, ни границы и качества содержательной сознательности, в соответствии с которыми она постигает и трансформирует себя, не являются фиксированными. Разумность есть конструктивная деятельность, а не структурно фиксированная сущность. С точки зрения этой конструктивности, утверждать, что разумность есть, в качестве чувственного, нечто животное — это упражнение в предвзятом догматизме: оно ставит предел возможным реализациям формы разумности, ограничивая их конкретной физической или биологической организацией.
Дело в том, что текущее воплощение человека представляет собой и разумность, и чувственность, как артефакт понятия, так и биологически воплощённое животное. Но то, что делает нас людьми — людьми в качестве разумности [sapience], — это формальное, а не субстанциональное. Эта автономная, регулируемая правилами форма не является измерением человека в качестве чувственного или природного вида. Различие между разумностью человека (разум) и чувственностью человека (Homo sapiens sapiens), в конечном итоге, является формальным различием между мышлением и бытием. Разделительной линией между формальным различием и субстанциональной неразличимостью. Из этого следует, что не только современный homo sapiens, но и любое чувствующее существо может являть разумность настолько, насколько оно удовлетворяет минимально необходимым условиям формальной автономии мышления, в которых наша чувственность схвачена. Эти необходимые условия мы рассмотрим в следующих главах. Смотря на нашу животность как люди, мы говорим: «Я вижу в тебе бездну интеллекта, но во мне ты не видишь ничего». Только в силу нашей разумности, мы критически сознаём себя как чувственность среди других чувственностей, как интегрированные связки рациональных и не-рациональных процессов. Различие между разумностью и чувственностью не есть субстанциональная черта биологического вида, и оно ни в коем случае не должно сводиться к homo sapiens или общепринятому изображению человека. Конечно, всегда можно возразить, что мышление в природе повсеместно и, в конечном счёте, разумность является чувственностью. Ответа Лоренца Пунтеля должно быть вполне достаточно, чтобы разделаться с этой путаницей:
«Дискуссии, мотивированные вопросом о том, “мыслят” ли (обладают ли сознанием и т. д.) животные (или конкретные виды животных), обычно имеют вздорный вид. В отсутствие критерия мышления нелепо задаваться вопросом о том, мыслит или нет данный вид животных. Но вот какой критерий имеется: тип “мира”, соответствующий онтологической конституции данного вида существ. Если этот мир (Welt) является чистой (и следовательно, ограниченной) окружающей средой (Umwelt) — и следовательно, небезграничным Welt — тогда нет никакого “интеллекта” в том подлинном смысле, который полагается в данной книге, потому как этот смысл предполагает, что “миры” существ, способных мыслить, являются неограниченными (как в случае с человеческими существами). Разумеется, если ассоциировать с термином “мышление” другой концепт, тогда некий род не-человеческих животных вполне может “мыслить”. Но в таком случае вопрос сводится к чистой терминологии».[67]
Всё, что Пунтель говорит о мышлении, можно слово в слово повторить и в отношении сознания. Мышление sapience определяется в терминах постигаемого им мира, а мир sapience не имеет каких-либо ограничений на то, что может быть спрошено или помыслено. Мышление sapience со-объёмно всему.
Быть человеком — это единственный способ перестать быть человеком. Альтернативные выходы — будь то отсоединение чувственности от разумности или же обход разумности в пользу прямого взаимодействия с технологическим артефактом — не смогут вывести за пределы человеческого. Скорее, они приведут к культуре когнитивной мелочности и самообмана, которая является повседневной пищей для самых ограниченных и утилитаристских политических систем, существующих на планете. Освобождая чувственность от так называемого гнёта разумности, человек не становится ни постчеловеком, ни животным, но лишь возвращается к идеологически заряженному «биологическому шовинизму»[68], разумность должна его преодолеть, поскольку сама идея консервативного гуманизма искажает случайное и обусловленное частностями, выдавая его за необходимое и универсальное. Отбрасывая человека в надежде на немедленный контакт со сверхинтеллектом или самореализацию технологического артефакта, мы либо тайно подчиняем будущее заранее поставленным задачам консервативного гуманизма, либо соглашаемся с будущим, которое становится простой телеологической актуализацией конечных причин, а следовательно, воскрешением изжившего себя аристотелевского слияния [субъективных] оснований и [объективных] причин. Человеческая разумность есть единственный проект по выходу.
Полагая в качестве короткого пути к свободе сомнительную метафизическую альтернативу человеку, мы не можем обойти стороной труд преодоления затруднительного положения человечности. Таким образом мы бы попросту растворили проблему вместо того, чтобы решить её. По иронии судьбы, предлагаемые антигуманизмом альтернативы идее человека, на деле заканчиваются поддержкой самых консервативных антропоморфных черт под видом некоей догматической фигуры инаковости. Таким образом, антигуманистические альтернативы как таковые заранее отвергают geistig ресурсы, необходимые для диагностики и снятия консервативных черт и характеристик человека, и становятся слугами того самого консервативного концепта человека, от которого изначально намеревались бежать.
Непосредственно в качестве людей мы должны примириться — психологически, когнитивно и этически — с непростым фактом того, что значит быть человеком: невозможно есть пирог человечности, не вкушая последствий. Как только мы начинаем относиться к себе как к обладателям прав и правомочий, как только мы говорим, что должны или не должны думать и делать, как только мы различаем порядок вещей и реагируем на него в соответствии с тем, что считаем правильным, насколько бы ни было оно далеко от истины, мы предаём себя безличному порядку разума, к которому принадлежит разумность, — порядку, что сотрёт наш явный автопортрет.[69] Когнитивный Рубикон пройден. Подчиняясь этому безличному порядку, мы должны осознать, что-то, чем человеческое является — то, что мы представляем собой здесь и сейчас, — будет преодолено этим самым порядком. Разум — это игра, в которой все мы являемся лишь мимолётными игроками, и раз мы не можем этого исправить, так позволим же себе играть достойно, руководствуясь интересами игры и её последствиями. Будучи переходным воплощением разумности, мы можем лишь распознавать нашу смешанную животную природу и тот факт, что именно способность к такому распознаванию — распознаванию того, что, в качестве чувственностей, мы абсолютно не исключительны, — а также способность принимать во внимание последствия бытия разумным для дальнейших выводов, и делает нас особенными. Через созревание и взросление разума, определение и значение человека освобождается от любой якобы субстанциональной сущности или фиксированной природы. Формальное обозначение «человечность» становится титулом, подлежащим передаче, правом, которое может быть предоставлено или приобретено вне зависимости от принадлежности к конкретному естественному или искусственному наследию, предрасположенности или структуре, поскольку бытие человеком отнюдь не является правом, приобретаемым по факту рождения, благодаря биологическому происхождению или наследованию. Титул «человек» может быть передан чему угодно, способному перейти в область суждений, чему угодно, удовлетворяющему критерию сознаваемой и сознающей агентности, будь то животное или машина. Переплетение проекта эмансипации человека — как в смысле негативной свободы от заранее установленных или созданных нами ограничений, так и в смысле позитивной свободы делать что-либо или становиться чем-либо — с искусственными перспективами человеческого интеллекта является логическим следствием человеческого, как права подлежащего передаче.
Рациональная интеграция, суждение и генерация дальнейших способностей
Тип самости, требуемый для установления необходимой связи между пониманием и трансформацией geist’а, функционально определяется его ролью в принятии рациональной ответственности (в суждении): использованием своего рационального единства для рассмотрения набора обязательств в качестве оснований за или против других обязательств. Это и есть мыслящая самость или же дискурсивно-апперцептивный интеллект: интеллект, сознающий свой опыт с помощью рационального единства самосознания, опыт которого структурирован понятиями сознания. В отличие от бога или иных воображаемых интеллектов, такой интеллект не имеет прямого контакта с реальностью кроме как через посредство собственных geistig конфигураций.
Поскольку мыслящие самости являются функциональными единицами, представляющими качественный набор активностей (суждений и оснований), их формальная (семантически-прагматическая) и конкретная социальность может приводить к качественным изменениям в структуре geist’а или активностях, посредством которых эти самости идентифицируют себя, индивидуально и коллективно. Иными словами, в каждом его измерении коллективная конфигурация мыслящих самостей и рациональных агентов — синхронно во времени или диахронически сквозь время — определяет курс конкретного проекта самосознания. Сознание обладает конфигурацией — последовательностью самопредставлений и самотрансформаций, — которая растянута во времени. Geistig деятельность, таким образом, не только распознавательно-когнитивна, но также припоминательно-реконструктивна. Мыслящие самости, в таком случае не просто локус суждений, обеспеченных распознавательными измерениями рациональных обязанностей и авторитета, — то есть, способностью взять на себя ответственность за различные типы (концептуальных) нормативных оценок. Они также являются локусом припоминательно-реконструктивного суждения — способности распространять подтверждение распознавания на воспоминания об истории. Здесь мы имеем в виду способность geist’а осознавать и оценивать свою конституированную историю как представленную авторитетами и обязанностями прошлых суждений. Рациональные самости, таким образом, определяются также их осознанием содержания этих суждений, решений, деятельности, конфликтов, ценностей и переменных, которые конституировали их историю и привели к текущей конфигурации.
Для того чтобы обладать таким сознательно-содержательным опытом (erfahrung) истории и эпистемологическим сцеплением с ней, у geist’а должна быть возможность представить себе реконструкцию своих прошлых трансформаций и конкретных реализаторов таковых (т.е. деятельность и ограничения, которые к этим трансформациям привели). Соответственно, припоминательная реконструкция истории концепций и трансформаций должна пониматься как сущностная черта самоотнесённой логики сознания, согласно которой сознание не только распознаёт свои структурные трансформации во времени как собственный единый опыт, но также использует этот опыт для генерации новых способностей, для исправления или переписывания своих ценностей и неценностей, для конструирования себя иным образом. Получается, что для интеллекта История есть порядок интеллигибельности и, тем самым, условие его возможности. Всякая конфигурация «Я» или мыслящих самостей (всякое мы) — это только часть этой истории, а не её совокупность. То, чем мы были, в настоящий момент снимается в том, что мы есть, а то, чем мы будем, — снимается в истории интеллекта. Для интеллекта мы всего лишь историческая интеллигибельность, которая делает его возможным, но не сковывает его.
Как только рациональная самость, как основная функциональная единица geist’а, сконструирована, geist способен постигнуть историческое понятие себя — историческое единство — и воздействовать на него. Это историческое единство или интеграция требует, на определённом уровне, распознавательно-когнитивного принципа «синтеза изначального единства апперцепции через рациональную интеграцию с моделью синтеза носителей нормативного статуса, апперцептивных самостей, и их сообществ с помощью взаимного распознания»[70]. На другом уровне это влечёт за собой припоминательно-реконструктивный принцип «синтез[ирования] рационального (включающего последствия и исключающего несовместимости) актуального единства через интеграцию обязательств прошлых суждений»[71]. Только когда рациональные самости конкретно включат эти два принципа в своё представление о том, что думать и что делать, они смогут увидеть истину о себе, как о продолжающейся истории интеллекта, и осознать, что их свобода заключается в свободе сознания как исторического артефакта собственного понятия: необходимой связи между самопониманием и самотрансформацией, которая должна быть налажена достаточным образом. Понятие истории, таким образом, есть не что иное как необходимая — динамическая — связь между пониманием и трансформацией. Конкретная актуализация данной истории, однако, является вопросом тщательной распознавательно-когнитивной борьбы рациональных самостей.
Конституируя собственную историю, geist обретает силу самосовершенствования или же способность оценивать и развивать свою историю посредством высших режимов самосознания, которые позволяют geist’у формулировать и осуществлять более тонкие и всеобъемлющие понимания и трансформации себя. Иначе говоря, разработка истории как эмансипационной деятельности является результатом конструирования и организации рациональных самостей, включённых в рамки высших geistig единств, с помощью которых они могут конкретно трансформировать себя.
Историческая осведомлённость, как сущностная конструктивная и критическая способность
Обеспечивая себя описаниями относительно своих предыдущих трансформаций, и придавая этим описаниям форму, которая может быть исторически выражена и оценена, рациональные самости могут разрабатывать адекватные теории и практики для реорганизации и трансформации себя. Этот процесс является социально-историческим эквивалентном рационального единства сознаний. Историческое сознание — это особый вид сознавания, характерный для дискурсивных, оперирующих концептами, самосознательных существ, способных применять принцип рациональной интеграции к истории своих трансформаций, предоставляя познанию эксплицитно историческую роль. Агентность рациональных самостей в осуществлении таковой трансформации указывает на то, что они отвергли каждую данность в своей истории, так же как и всякого бога или deus ex machina[72]. Агентность в её конкретном смысле не есть только рациональная автономия. Это также и осознание того, что всё, что представляется автономным, самопостигающим процессом или вещью, — будь то теологическое, естественное или технологическое — без рациональной агентности остаётся практической данностью, докритической подростковой фантазией, заблуждением упрямого и раболепного сознания.
С помощью развития исторического сознания, geist способен идентифицировать негативные и позитивные тенденции прошлого, отказываясь от первых и взращивая последние. Таким образом, историческое сознание обеспечивает мыслящие самости принципом саморазвития с помощью оценки и коррекций последовательностей их самотрансформаций — которые не только являются их трансформациями, но и в той мере, в какой это происходит в реальном мире, также оказывают положительное и негативное влияние на мир, в котором они обитают. Припоминательная реконструкция традиции — предшествующей последовательности исторических трансформаций — открывает для рациональной оценки ранее принятые цели, обязательства и концепции. Цели становятся объектами понимания и подвергаются пересмотру, а в случае необходимости, отвергаются. Именно такая подверженность задач своеобразной оценке и пересмотру, нормы которых сами по себе могут быть дискурсивно переоценены, предотвращает вторжение предзаданных задач (вне зависимости от того естественны они или нормативны) в концепцию коллективного общего интеллекта.
Применяя принцип рациональной интеграции к своему темпоральному проявлению, geist проводит когнитивное исследование условий, необходимых как для его темпорального синтеза, так и для синтеза темпоральности как таковой. Это прагматическая составляющая проекта коллективного общего интеллекта по трансформации себя путём пересмотра связей между темпоральными категориями прошлого, настоящего и будущего. Но важнейшая его составляющая заключается в переэкзаменовке и переосмыслении природы темпоральности — даже если это означает отказ от привычных темпоральных концепций и категорий. Осознавание сознанием [minds consciousness] собственной истории есть, в конечном счёте, исследование истории как интерфейса между субъективным временем и объективным временем, временны́ми формами и бесформенностью времени.
История geist’а, понятая должным образом, есть распознавательно-когнитивная технология. Это не только семантическая паутина, сквозь которую явленные реализации geist’а (самопредставления и самотрансформации) могут стать ясны и открыты для анализа, но также и научная среда для разработки когнитивных средств и практических технологий по подчинению явной реализации — т. е. видимости тотальной истории — конкретной трансформации, научно обоснованно снимающей то, что прежде считалось завершённой исторической тотальностью в продолжающемся процессе тотализации, а именно, истории. Концепт революции geist’а требует научного вмешательства в историю для трансформации того, что представляется судьбой или исторической тотальностью, — в надлежащую историю, в которой все достигнутые тотальности являются лишь мимолётными манифестациями.
И здесь мы подходим к гегелевской идее, согласно которой самопонимание geist’а как того, что есть само по себе (мимолётная реальность его явленной реализации), должно быть подчинено тому, чем geist является для себя (то, за что он себя принимает, или же его работа понимания). Происходит это потому, что «то, чем он себя осознаёт» восприимчиво к корректировке и уязвимо перед глубинными изменениями, вытекающими из подрыва видимости новым порядком интеллигибельности, что является итогом систематического проекта когнитивного исследования или же науки. Таким образом, то, что считается условиями, необходимыми для реализации geist’а, не может ограничиваться плеядой различных конкретных режимов самостей, их организации и институтов, отражающих явную реализацию geist’а. Эти условия должны включать в себя также развитие когнитивных и практических инструментов для приведения явленных реализаций geist’а к рациональному единству высших и более адекватных режимов сознавания [consciousness]. Только после того, как явленная тотальность будет понята как видимость, как мимолётная реализация, она может быть конкретно преодолена. Под «адекватными» здесь понимаются как более изобильные формы содержания и контекстуальной осведомлённости, так и чувствительность данных режимов сознавания к ресурсам (когнитивным, практическим, материальным) и разнообразным интерсубъективным отношениям между сущностями, охватывающим широкий спектр экономических и прочих отношений.
Наличное бытие geist’а[73]
"Дух должен познаваться в своём собственном внешнем проявлении как в некотором бытии, которое есть, мол, язык — видимая невидимость его сущности.[74] […] Тем самым мы снова встречаемся с языком как наличным бытием духа. Он есть сущее для других самосознание, которое непосредственно как таковое имеется налицо и, будучи “этим”, всеобще"[75].
Как самосознание, так и историческое сознание требуют распознавательных и припоминательных, ретроспективных и проспективных когнитивных способностей. Но эти способности могут быть приобретены только с помощью языка, в качестве строительных лесов для организации сообщества носителей нормативного статуса апперцептивных самостей. Именно здесь на первый план выходит роль языка как наличного бытия geist’а и порождающей платформы, на которой сознание обретает форму и развивается во времени. В своей самой базовой и необходимой форме язык — это всего лишь дискурсивная речь (обыкновенный естественный язык). Интерфейсом между синтаксическим и семантическим в таком естественном языке является взаимодействие или же прагматика социального использования синтаксически-символических словарей, которые постепенно обеспечивают новые уровни семантической сложности и концептуальной выразительности. Понятия языка — это не просто ярлыки или классификации, но описания. Существуют понятия, которые не только описывают, но и позволяют когнитивное моделирование посредством контрфактических высказываний. Семантическая сложность во всём её богатстве, таким образом, включает в себя различные уровни понятий, возможностей их использования и соответствующие режимы рациональной интеграции, обеспечиваемые ими. Роберт Брэндом различает структурные уровни семантической сложности понятий, обеспеченных прагматическим взаимодействием между синтаксисом и семантикой, следующим образом:
— Понятия, которые только маркируют, и понятия, которые описывают;
— Составные и самостоятельные концептуальные содержания, выявляющие различие между содержанием понятий и силой их применения;
— Понятия, уже выраженные простыми предикатами, и понятия, выразимые только сложными предикатами.[76]
В своём специализированном формате, как инфраструктуре всех теоретических структураций мира, язык сущностно формален. Значение формальных языков заключается в их способности к тому, что Катарина Дутиль Новаес называет «десемантификацией и ресемантификацией»[77]. Это способность формальных языков к отделению и абстрагированию от всякого конкретного содержания (тематическая независимость) таким образом, чтобы быть общеприменимыми в различных контекстах. Десемантифицирующая способность формальных языков равносильна эксплицитной пересборке сознания за пределами всякого конкретного индивидуального опыта или контекстуального значения — формальные языки как протезы расширенного познания и эпистемологической возможности. Отделённая от какого бы то ни было конкретного содержания, «десемантификация позволяет применение рациональных стратегий, отличных от наших базовых стратегий, усиливая, таким образом “изменяющий сознание” эффект рассуждения с помощью формализмов»[78]. Кроме того, формальные синтаксические языки могут быть эксплицитно вычислимы. В этом заслуга Ноама Хомского, выдвинувшего идею иерархии формальной грамматики или синтаксиса, в которой сложность синтаксиса артикулируется в терминах вычислительной сложности. Иерархия Хомского классифицирует различные типы синтаксиса (рекурсивно-перечислимый, контекстно-зависимый, контекстно-свободный и регулярный) с точки зрения необходимых для их производства комбинаций порождающих процессов, формальных грамматических свойств, которые их определяют, и автоматов, необходимых для их вычисления.[79]
Наконец, в своём наивысшем режиме язык отсылает к искусственным общим языкам — языкам, в которых полная иерархия синтаксической сложности (формальных языков) и полная иерархия семантической сложности (естественных языков), исчисление, понимание, десемантификация, ресемантификация и семантическое обогащение существуют бок о бок, усиливая друг друга. Прежде чем продолжить, позволим себе кратко рассмотреть феномен языка — хотя тема языка и его роли в формировании мыслительной деятельности (суждений и умозаключений) более детально будет рассмотрена в главах 6 и 7.
Акцент на принципиальной для сознания роли языка это старая тема. Но что было огромным упущением в изучении роли языка для сознания, так это глубинная логико-вычислительная структура самого языка, в которой язык может рассматриваться и как многоуровневая синтаксическая сложность, и как многоуровневая семантическая сложность. Здесь язык это ни средство прямого доступа к реальности, ни система публичного дискурса, но рамка взаимодействия-как-вычисления, включающая в себя различные классы семантической и синтаксической сложности, а также когнитивно-практические способности, связанные с ними. Такое интерактивное вычисление допускает качественное сжатие данных и избирательность сжатия, значительно уменьшая размер внутренней модели агентности при одновременном повышении её сложности, форматируя и модулируя поведение агентности, а также стабилизируя многоагентную эпистемологическую динамику, без которой ни для какой агентности невозможно ни осознание себя, ни опыт. Опирающийся на такое вычислительное интерактивное измерение, язык является, прежде всего, двигателем для генерации качественно отличных когнитивных способностей. Это именно то, что изменяет форму поведения интеллекта не по степени, а по типу (например, лингвистическая агентность отличается от нелингвистической по типу, а не по степени).
Архетипической фигурой, стоящей за языком, является вычислительная дуальность или взаимо-действие. Взаимодействие — это преобладающий феномен в языке, и оно может быть параллельным, синхронным, асинхронным, типизированным, нетипизированным, детерменированным или недетерменированным. Интерактивные системы действуют онлайн, они открыты и реагируют на множество потоков входных данных. Взаимодействия регулируются вычислительными дуальностями. Говоря проще, эти дуальности означают обмен ролями между двумя и более процессами или формами поведения, которые ограничивают друг друга, приводя к генерации дополнительных ограничений и правил, которые повышают сложность поведения тех, кто вовлечён во взаимодействие. В теоретической информатике такие взаимодействующие дуальности называют «открытые упряжи»[80] [open harnesses]. Открытые упряжи и ограничивают поведение взаимодействующих систем (отсюда ограничивающая коннотация слова «упряжь»), и впрягают их в новую конструкцию (поведение более высокого уровня сложности). Сталкивая две системы друг против друга, они принуждают системы корректировать своё поведение и расширять способности, как в игре, запрягающей одного игрока для интеллектуального ответа другому, где совокупность игры всегда превосходит своих игроков. Но это не игра в смысле теории игр: как предмет логики и теоретической информатики, игры взаимодействия лишены точных целей, возможности игры на вылет или предопределённой стратегии победы и процедурных правил того, как в игру следует играть. Вместо этого, правила игры естественным образом возникают из взаимодействия как такового. Взаимодействие есть средство усложнения процессов. Говоря словами Жан-Батиста Жуане:
«Каким бы расплывчатым ни было понятие процесса, определённо, в его природе не только эволюционировать (среди эффектов, производимых процессом, появляются его собственные трансформации), но также и оказывать влияние на другие процессы, взаимное влияние. Кратко говоря, процессы действуют и взаимодействуют. Каким бы ни был его технологический аспект, каково бы ни было его воплощение, сущность процесса полностью вовлечена в его (потенциальное) динамическое поведение: оценке подлежат не только его возможные участи, но также полный набор возможных операциональных эффектов, которые он вызывает в контексте взаимодействий всех возможных процессов. Что касается семантики, то ответ, который дают процессы, таким образом, это радикально новый тип, претворяющий перформативный способ выражать значение: действие — это способ, которым процессы говорят»[81].
Но в отличие от типовых интерактивных процессов, логико-вычислительные взаимодействия языка обладают способностью возрастающего включения взаимодействий нижнего уровня в рамки взаимодействий высокоуровневых (т.е. взаимодействий с большей семантической сложностью, или, говоря в терминах Вульфиндейла, взаимодействий, которые переформатируют взаимодействия нижнего уровня), а также на разных уровнях формулировать стабильные лингвистические единицы со своими специфическими правилами трансформации. Именно в контексте сложной сети взаимодействий эти правила приобретаются и стабилизируются; некоторые могут быть контекстно зависимы, другие могут быть повсеместно применимы. Семантические значения или же смыслы — это абстракции лингвистических выражений и правил трансформации для их использования, которые, в результате взаимодействия, как выводятся, так и применяются в своих стабилизированных формах.
Реализация сознания или общего интеллекта немыслима без языка — не только в качестве структурирующего построения, но и как необходимой обширной вычислительной рамки для генерации когнитивных способностей высшего порядка (теоретических и практических суждений). Подобно тому, как нет структуры в мире без структурирующего сознания, — нет сознания и неограниченного мира без структурирования языка и его неограниченной вселенной дискурса, в которой всё может быть подвергнуто сомнению и подчинено систематической теоретизации. Общий язык (в отличие от того или иного языка) не имеет границ и пределов. Точно так же, как мы не можем ступить за пределы сознания, чтобы получить прямой доступ к реальности, мы не можем ступить за пределы языка, являющегося каркасом сознания. Выходя за пределы одного языка, мы лишь обнаруживаем себя в пределах более общего языка.
«Говорить о пределе, установленном языком (или этим языком), значит, лингвистически, находиться за предполагаемым пределом. Предел является пределом только в том случае, если за ним что-либо есть, поэтому отождествление предела и языка, означает также вход в лингвистическое пространство, позволяющее говорить о том, что находится за пределом, и, тем самым, сводить на нет идентификацию “предела” как предела языка, который свидетельствует о нём, как о пределе».[82]
Феномен языка во всей его синтаксической и семантической сложности не может быть схвачен вне логико-вычислительной лингвистики взаимодействий, в которой прагматика (значение как употребление или дискурсивная осмысленность) лишь самая верхняя видимая инстанция. Поскольку сознание или общий интеллект без языка немыслимы, а язык требует рамки взаимодействия, идея о том, что сознание или общий интеллект могут быть реализованы в чём-либо помимо сообщества агентов, сомнительна. Люди являются сознательными и сознающими агентами постольку, поскольку у них есть социальность. Аналогичным образом, идея искусственной реализации общего интеллекта не в рамках многоагентной системы, а в одиночном агенте — это что-то из старомодной научной фантастики двадцатого века. Искусственный общий интеллект — это продукт взаимодействий, будь то между людьми-воспитателями и машинами-детьми или же между машинами, перешедшими в область искусственных общих языков.
С этой целью общий интеллект следует рассматривать не только как репертуар существующих когнитивных способностей, но также как генерирующую рамку для реализации новых когнитивных способностей путём адаптации к синтаксически-семантическим ресурсам языка. Именно лингвистически заряженная способность пролиферировать, диверсифицировать и максимально увеличивать теоретические и практические способности, которая отличает общий интеллект от сложных каузальных и регулируемых паттерном процессов, что демонстрируют мощный, хотя и ограниченный диапазон поведения. Внутреннее сходство между общим интеллектом и языком, как социально встроенной конструктивной средой для развития и реализации способностей сознания, указывает на социальные основы общего интеллекта. Не существует предзаданных ограничений спектра и типа когнитивных технологий, которые могут быть получены путём экскавации «видимой невидимой сущности» geist’а или языка. Возможности того, что может быть сделано с языковыми областями, столь же непостижимы, как и возможности того, что язык может сделать со своими пользователями.
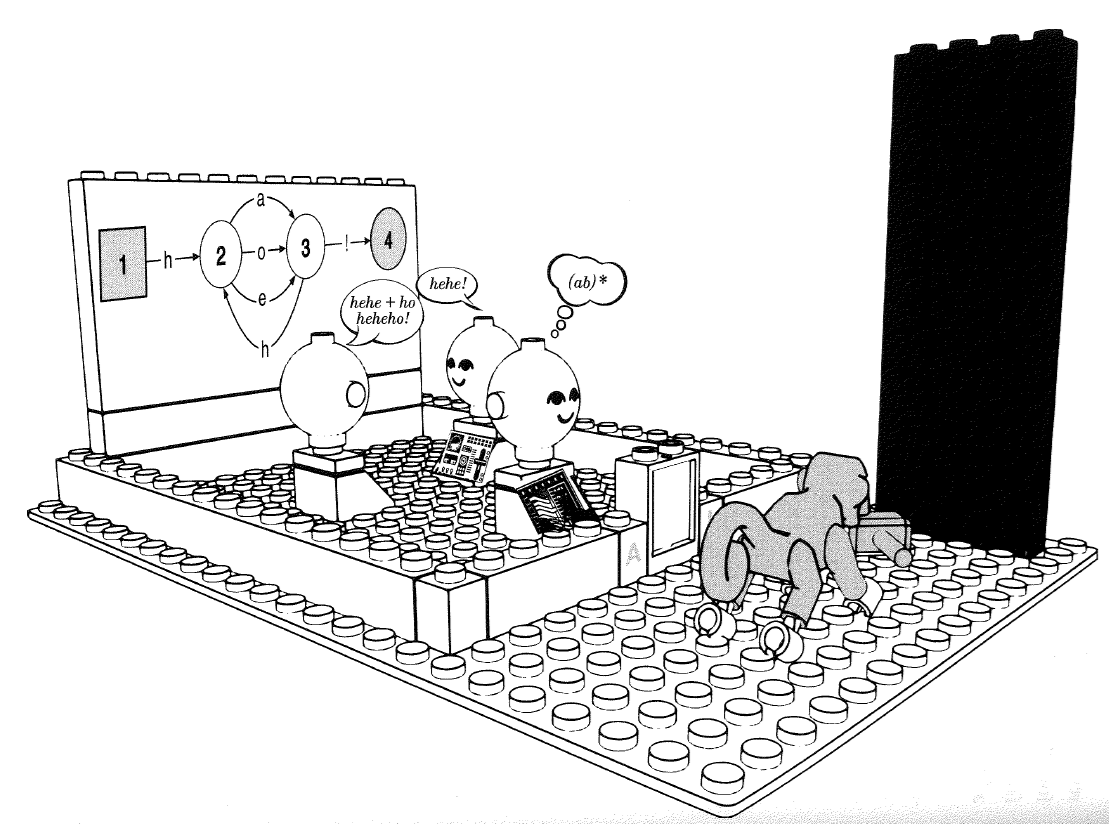
Необходимые и достаточные связи между пониманием и трансформацией
Представив обзор сознания не как идеального объекта, но как социального проекта, теперь мы можем переключить внимание на последствия разработки такого проекта и участия в нём.
Гегелевская систематическая разработка geist’а с функциональной точки зрения имеет как конструктивное, так и критическое значение. Функциональный анализ духовной или же geistig борьбы — т. е. борьбы духа за становление объектом собственного понятия, уточнение содержания этого понятия и разработку способностей, позволяющих актуализировать себя в качестве объекта собственного понятия, — раскрывает то, каким образом осуществляется эта борьба, и каким образом она может вырождаться и вызывать патологии сознания и социальные явления, связанные с ними. Такой тип анализа подготавливает почву для более глубокой диагностики, с помощью которой возможно определить подлежащее изменению и обозначить те структурные соединения или материальные образования, которые следует рассматривать в качестве площадки для этой борьбы. Именно в этом смысле глубокое функциональное изображение geist’а Гегеля — как того, что имеет историю и способность рассматривать собственную историю в качестве среды интеллигибельности, где все достигнутые целостности являются преходящими тенями и видимостями, — закладывает фундамент для коммунистического проекта Маркса как действительного движения, конкретно и определённо отрицающего текущее положение дел, историческую данность. Изобличение истории как новой области интеллигибельностей, требующей особого типа теоретических и практических познаний, выявляет те места, где борьба и вмешательство необходимы для достижения последовательного и конкретного освобождения от текущего положения дел, воспринимаемого как историческая тотальность.
Важность функционального изображения geist’а заключается в том, как это изображение высвечивает ключевые способности и виды деятельности, посредством которых сознание в качестве социального проекта может быть дополнено и усилено. Среди этих видов деятельности основными являются понимание и трансформация; оба представляют собой работу сознания, но только в одном случае больший акцент делается на систематической теоретизации, а в другом — на конкретной практике. Однако, ни в коем случае они не могут быть друг от друга отделены: они взаимно усиливают друг друга в той мере, в какой являются неразрывно связанными.
Сущностное самосознание эксплицируется необходимой связью между самопониманием и самотрансформацией как двумя различными, но связанными активностями: постижением (т.е. приведением к пониманию) себя в мире, и трансформацией себя в соответствии с самопредставлениями[83]. Каждая трансформация, в свою очередь, служит точкой опоры для различных столкновений с собой в мире. Изменение порядка самопонимания индуцирует изменение самости, пониманием которой оно является, а качественное различие в этой самости влечёт за собой преобразование общей или geistig концепции самости. Петля положительной обратной связи [positive feedback loop] между пониманием и трансформацией провоцирует нарушение равновесия, из-за которого каждое различие в одном из порядков дестабилизирует другой и становится сигналом к его реадаптации. Это нарушение равновесия обостряется по мере того, как последующие концепции всё более и более удаляются от порядка видимостей и по ходу процесса решительно отрицаются. Действие самопонимания должно постепенно уступать всё более мелкозернистым концепциям geistig самости (т.е. того, что значит быть сознаваемой и сознающей агентностью, человеком, воплощением интеллекта); но для этого оно должно оторваться от простых видимостей своей настоящей концепции и явленной реализации.
Постигая себя с точки зрения процесса самораспознавания и одновременно самоотрицания, история geist’а отныне не является выводимой из его прошлых состояний, даже если она из них сконструирована. Самопонимание geist’а посредством определённого и конкретного отрицания его концептуального содержания (то, каким оно представляется себе) влечёт за собой реальное движение истории, в котором последовательность самоучреждённых трансформаций geist’а отнюдь не являются повторением его прошлых стадий. В рамках этого движения всякое тотализованное состояние реализации воспринимается как историческая видимость по отношению к действительности истории, что является тотализацией незавёршенной и продолжающейся. История geist’а в этом смысле не является ни линейной прогрессией, проходящей через различные состояния (эпохи) реализации geist’а, ни серией изоморфных трансформаций. Действительность того, чем geist сейчас является, не есть действительность того, чем он являлся прежде. А то, чем geist или интеллект станет в будущем, никогда не есть то, чем он был раньше или является сейчас, и «никогда» здесь подразумевает устранение взаимно-однозначных отношений между последовательностями трансформаций geist’а. Историческая сознательность и осознание значения идентификации исторических видимостей, а также их определённого отрицания, — и есть ядро конкретного самосознания как реального движения эмансипации.
Адекватность самосознания — это критерий качества понимания и трансформации, показатель того, насколько эффективно самопонимание и самотрансформация интегрированы в порядок интеллигибельности. Точно так же, как устойчивое самопонимание влечёт за собой последовательную самотрансформацию, недостаточное и скудное самопонимание провоцирует самотрансформацию дефектную и непоследовательную. Но поскольку наша самотрансформация встраивается в объективный мир, она не изолирована от его недостатков. В зависимости от её масштаба и упорства, патологическая самотрансформация может привести к катастрофе, обращающей в руины те структуры, что нас окружают и поддерживают. Такое бедствие ослабляет наши способности к действию, либо попросту истощая ресурсы, необходимые для сохранения и трансформации, либо коварным образом вызывая дезориентацию, препятствующую нам решительно мыслить и принимать меры, выявлять возможности и действовать в соответствии с ними, без парализующей тревоги о дальнейшем ухудшении и воображаемых трагедиях. Ослеплённая давящим страхом трагедии, диагностика ошибки (в форме определённого отрицания разворачивающая «специфические» несоответствия понимания) в таком случае попадает под юрисдикцию абстрактного отрицания и бессознательного самообмана. Полагая себя избавившимися от иллюзий, ускользнувшими от всех ловушек истории, мы поддаёмся наивности и когнитивно-практическому унынию.
В такой среде основания, формирующие распознавание, обязательства, ответственность, уместность (что имеет значение, а что нет) и определяющие суждения о них, дискредитируются критическим дискурсом об иррациональности оснований tout court[84] и настоятельным требованием избавится от них. Основания разоблачаются как иррациональные социальные причины, которые лишь маскируют корни того, что является угнетением и эксплуатацией. Затем этот критический дискурс становится разоблачением того, как причины не только семантически искажают основания, но также маскируются под них. Разум сжигается на костре, обвинённый в том, что он есть предельная ловушка истории, главный коллаборационист угнетателя, дымовая завеса, скрывающая условия эксплуатации. Освободившись от тирании разума, критический дискурс представляет себя эгалитарным изложением причин угнетения и эксплуатации. Принеся в жертву ловушку всех ловушек — разум, — критика оказывается совершенно эмансипирована и лишена иллюзий. Однако, отказ от концептуальных и нормативных ресурсов разума для разоблачения его каузальной иррациональности, и диагностика подавляющих патологий с помощью необоснованной экспертизы причин равняются обнищанию семантических требований, необходимых для интеллигибельности всякого диагноза. Иными словами, бессознательный подрыв необходимого для адекватного сознавания самости критерия ведёт к неадекватному сознаванию, которое оказывается не в состоянии верно понимать себя в мире и определённо трансформировать себя в соответствии с этим пониманием. Лишённая оснований критика и диагностика того, что является угнетающим и эксплуатирующим, сама по себе становится прогнозом развития болезни или патологии. Будучи неадекватным сознаванием, критика бессознательно оправдывает те исторические патологии, которые когда-то вознамерилась искоренить[85].
Адекватное самосознание, основанное на интеллигибельности понятия и интеллигибельности практик, представляет собой многозадачный проект, включающий в себя четыре основных начинания:
1. Оценивать и корректировать наши самопредставления [self-conceptions] (используя ресурсы как науки, так и рациональности «здравого смысла», с пониманием того, что они дают две отличные картины нас в мире, которые требуют интеграции);
2. Координировать наши самотрансформации с лучшими самопредставлениями (т.е. самопредставлениями, обоснованными более широким порядком интеллигибельностей);
3. Усиливать влияние наших рациональных и научно обоснованных самопредставлений с помощью наших самотрансформаций (переход от необходимой связи между ними к достаточной);
4. Пересматривать и, в случае необходимости, отказываться от наших самопредставлений в соответствии с интеллигибельностью того, как и во что мы трансформируемся.
Формулирование самосознания не в качестве идеального объекта, а в качестве проекта позволяет нам постигнуть предназначение мысли и действия не на онтологической основе, где идеальная абстрактность мысли противопоставляется идеальной конкретности действия, но на методологической основе, где для того, чтобы внести различие в мир, мысль должна сперва внести конкретное различие в себя. Взаимодействие между абстрактным и конкретным постигается методологически, в качестве определения конкретной абстракции и абстрактного конкретного, — как диалектика, посредством которой различия, вносимые в мысль, и различия, вносимые в мир, могут быть двунаправлено опосредованы автономными трансформативными воздействиями в порядке мысли и в порядке мира. Автономность по отношению к трансформативным воздействиям описывает способность этих воздействий перепрофилировать или переориентировать себя в соответствии с самодостаточными рациональными целями. Важно отметить, что сказанное о функциональной самодостаточности в этом смысле вовсе не означает отрицания того, что материальные ограничения существуют. В действительности это даёт и возможность обнаруживать подобные ограничения и в то же время исследовать возможность их модификации.
Geist на грани интеллигибельности
«Каждому абстрактному моменту науки соответствует некоторое формообразование являющегося духа вообще. Подобно тому как налично сущий дух не богаче науки, он и не беднее её в своём содержании».[86]
Взаимоподдерживающая связь между самопониманием и самотрансформацией характеризует сущностно самосознательных существ и рациональных агентов как обладающих способностью конституировать историю и извлекать из неё содержательный опыт, а также иметь безличные нормы и правила того, что следует и что не следует делать для поддержания и расширения интеллигибельности своей истории. Эта способность раскрывает истину интеллекта как социального когнитивно-практического предприятия, касающегося порядка интеллигибельностей, практик, вещей и ценностей. В действительности, систематическое столкновение с порядком интеллигибельностей является неизбежным следствием реализации geist’а с помощью специфического качественного набора активностей, которые отличают его.
Формулировка самосознания в качестве вопроса практического достижения подчёркивает важность самопонимания как руководства к действию, без которого действие не может сохранять свою практическую интеллигибельность. Понимание без праксиса является нереализованной абстракцией, а праксис без понимания — пустым впечатлением конкретности. В своей конкретной форме, самопонимание является поиском интеллигибельностей, что относятся к миру, частью которого мы являемся. В своей последовательной форме, самотрансформация является интеллигибельностью практик, что отвечает интеллигибельности мира, в котором мы обитаем, вместе с тем, какими мы должны быть в соответствии с целями мысли. Распознавание и постижение себя в рамках одного или нескольких автонарративов по определению является конструированием самих себя в рамках порядка интеллигибельностей. Никаких «нас» не могло бы быть без нашего столкновения с самими собой и приведения этого столкновения к пониманию не только того, кем и чем мы являемся, но также и того, откуда мы пришли и где находимся, какие пути привели нас сюда и какими путями мы должны следовать. Таким образом, концепция этого столкновения есть открытый ландшафт исследования различных порядков интеллигибельности. Концептуальное осознание своего опыта мира есть необходимая рамка, внутри которой возможно как познавать себя в мире, так и изменять себя и мир.
Тем не менее, расхождение между тем, за что мы себя принимаем, и тем, кем мы в действительности являемся, — несоответствие интеллигибельности самости и мира в качестве того, чем они представляются, с интеллигибельностью самости и мира самих по себе как условия всех проявлений, — порождает напряжение внутри самопонимания и, соответственно, в пространстве самосознания как проекта. Полное распознавание этого напряжения, — то есть, его одновременное заострение и разрешение, — определяет задачу научной рациональности или, говоря шире, предприятия науки. Опять же, под наукой здесь подразумевается не только современная эмпирическая наука, но также историческая наука, наука мышления (или же то, что Гегель окрестил Великой Логикой) и, наконец, наука о безличных ценностях и неценностях — наука этики. Настаивая на столь широком представлении о науке, тем не менее, я хотел бы обсудить последствия современных эмпирических наук для описанного выше проекта понимания и трансформации. Потому как поле эмпирических наук становится серьёзным вызовом для и без того бросающего вызов проекта.
Основной протокол современной эмпирической науки состоит в стремлении к объяснению. Почему мы видим то, что представляется в нашем повседневном опыте, действительно имеющим место быть — хотя мы знаем, что это не вся действительность? Наука переворачивает порядок того, что субъективно представляется имеющим место, и обеспечивает его своими объективными объяснениями. То, что прежде было очевидным объяснением, она выделяет в экспланандум объяснения, которое ещё только предстоит найти. Своего пика объясняющая мощь науки достигает, когда она обращает универсум, представлявшийся онтологически зависимым от сознания, в универсум от сознания независимый. Тем не менее, для опровержения универсума, гипостазированного как овеществлённый и зависимый от сознания объект, — т. е. попросту как нечто субъективно проявленное — наука опирается на основные компоненты субъективной или сознающей деятельности: лингвистические акты, концептуализацию и, помимо всего прочего, систематическое теоретизирование. Объективная наука без субъектообразующего сознания — это лишь субъективная иллюзия. Движение научного дознания только подчёркивает необходимость сознания в его чистой и необходимой форме. В этом смысле, наука является характерной особенностью сознания, которое созрело для понимания того, что не следует гипостазировать ни свою структурирующую деятельность, ни её структурированный объект, ни безграничный универсум, ни само себя. Это такое сознание, чья интеллигибельность не является непосредственно данной, но становится достижима только через интеграцию, — а не полное слияние или редукцию — с порядком интеллигибельности, который принадлежит непроявленной и независимой от сознания действительности. Научная деятельность перманентно захвачена интегральной рамкой, которая состоит из предметов мира и словарей сознания, напряжение между которыми её обогащает и приводит в движение. Но это напряжение, благодаря которому наука расширяется, и есть то самое напряжение, которое для сознания является исключительным и конститутивным, хотя оно и более самосознательно и интенсифицировано.
«Дух, который знает себя в таком развитии как духа, есть наука. Она есть его действительность и царство, которое он создаёт себе в своей собственной стихии».[87]
С приходом научного объяснения и экскавацией интеллигибельного универсума, который в своей объективности накладывает ограничения на нашу мысль о нём, порядок самосознания — двойственность интеллекта и интеллигибельного — входит в новую фазу. Основанные на фактах истины относительно непроявленного и независимого от сознания универсума вторгаются в логико-концептуальную инфраструктуру интеллекта и укореняются в ней. Как только научная воля к объяснению и стремление к объяснительной последовательности высвечивают недостаточность концепций здравого смысла, понимание начинает адаптироваться к науке и её неограниченному универсуму.
Даже несмотря на то, что концептуальная рамка здравого смысла, благодаря которой мы артикулируем свою интеллигибельность в мире, возведена на фундаменте истин, базирующихся на фактах, это ещё не гарантирует нам доступа к этим истинам как таковым; корректно постигнутые, эти истины принадлежат к рамке научного дознания, в силу того, что они лежат за пределами очевидного положения дел. Предполагая обратное, мы подписываемся на идеологическую фиксацию эпистемологической данности — т. е. доступ к интеллигибельности мира через предположительно произвольную интеллигибельность наших видимостей.
Научное объяснение, соответственно, может быть понято как деятельность сознания, которая принуждает самопонимание к пересмотру своего изначального союза с видимостями, — в частности, с видимостью того каков сам по себе мир, представляющийся сознанию. В силу того, что порядок интеллигибельностей, открытый наукой, покушается на интеллигибельность очевидного, самосознание приобретает новую мобильность. Острая асимметрия между очевидным и научным, между тем, как всё представляется с перспективы обыденного здравого смысла, и фактическим положением дел, дестабилизирует угнетающую безмятежность порядка сознания и вещей. Когнитивный прогресс может быть поддержан и расширен лишь посредством заострения этой асимметрии и дальнейшего усиления нестабильности отношений сознания и мира. Будучи очагом такого напряжения, наука продвигается вперёд через утверждение трансцендентального избытка структурирующего сознания, полагая структурированную реальность в её превосходстве по отношению к сознанию[88].
Тем не менее, продвижение науки не должно пониматься в качестве последовательности или равномерной прогрессии, стремящейся к конвергенции[89]. Завершённая наука — полная и адекватная научная картина (человеческого существа в мире) — является регулятивной идеей. Однако, как напоминает нам Кант, когда регулятивные идеи применяются конститутивно, возникают противоречия[90]. Вне пределов регулятивного использования, регулятивные идеи становятся псевдорациональными и иллюзорными экзистенциями. Представление о науке как о конвергентной и равномерной прогрессии не является необходимым для сертификации науки в качестве вектора когнитивного прогресса. В действительности, такая конвергентная прогрессивная интерпретация может закончиться как иррациональностью, так и релятивизмом — как эпистемологическим догматизмом, так и эпистемологической анархией. Вольфганг Штегмюллер представил резкую критику такой обобщённой прогрессистской интерпретации научных теорий[91]. Здесь я лишь кратко изложу его особенно дотошную и техническую аргументацию.
Идея общего конвергентного научного прогресса основана на анализе структуры и динамики научных теорий (теоретической нагруженности всех наук). Согласно Штегмюллеру, убеждённость в конвергенции и единообразном прогрессе науки покоится на идее общей сводимости одной теории (вытесняющей теории) к другой, предшествующей (вытесняемой теории), которая покрывает тот же класс наблюдений. Например, если мы во всех отношениях сможем сопоставить или свести статистическую термодинамику к термодинамической теории тепла, в таком случае можно говорить о наличии единообразного или конвергентного продвижения от менее объясняющей теории к более объясняющей. В традиционных исследованиях научных теорий, анализ проводится на микрологическом уровне, который относится к твёрдому теоретическому ядру. Такие твёрдые ядра состоят из атомарных аксиоматических формальных предложений или классов предложений вместе с их инференциальными отношениями. Для того, чтобы на микрологическом уровне увидеть, что одна теория редуцируется до другой, необходимо сопоставить твёрдое ядро последующей теории (Т2) с ядром предшествующей теории (Т1). Но такое сопоставление в свою очередь опирается на редукцию отдельных теорий к их т. н. твёрдым ядрам — редукцию, по ходу которой теряется бо́льшая часть необходимой информации, касающейся специфики их содержания, включая «различие между теоретическими и не-теоретическими функциями, общие и специальные ограничения, а также специальные законы, действующие только в отношении определённо направленных применений»[92]. Соответственно, на уровне микрологического анализа — касающегося твёрдых ядер, предложений и их логических отношений — редуцируемость Т2 к Т1 не может быть достигнута непроизвольным образом. Ввиду того, что микрологическая редуцируемость предполагает предварительную редукцию каждой теории к её твёрдому ядру, мы не можем обобщить отношения между Т2 и Т1 в том смысле, что они, как правило, более индуктивно просты или менее индуктивно просты, более объясняющи или менее объясняющи, и отвечают на более или менее удачно поставленные вопросы. Сравнение теоретического содержания полностью зависит от контекста. То, что представляется менее объясняющим в Т2 по сравнению с Т1, может быть таковым лишь в определённом локальном контексте. И в равной степени, Т1 может отвечать на некоторые из корректно сформулированных вопросов, на которые не может ответить Т2, как это происходит в случае с гравитационными теориями Ньютона и Эйнштейна.
Только на том основании, что Т1 предшествует Т2 и они обе покрывают один и тот же класс наблюдений, нельзя сделать вывод о том, что отношение между ними сводится к теоретической редуцируемости в вышеупомянутом смысле. И только когда мы перемещаемся с уровня микрологического анализа на уровень макрологического анализа, от твёрдых ядер к расширенными ядрам и модельно-теоретическому взгляду на теории мы можем говорить о редуцируемости. Расширенное ядро каждой теории охватывает класс частично возможных моделей (т.е. физических систем, о которых в теории говорится) или же класс последовательностей возможных применений. Кроме того, компоненты расширенного ядра (в диапазоне возможных применений) являются нестабильными и динамически изменчивыми. Для сохранения редуцируемости на данном уровне анализа необходимо получить сопоставление между теориями, сделав их статичный снимок в момент времени t. Но такое статичное сравнение теорий само по себе является проблематичным, поскольку оно замораживает динамическую картину теоретических структур и сужает спектр их возможного применения и охвата вероятных моделей.
На уровне микрологического анализа твёрдых ядер, который касается формально сконструированных и инференциально соотносящихся предложений и классов предложений, редуцируемость не может быть непроизвольной или общей. На уровне же макрологического анализа расширенных ядер, редуцируемость может быть достигнута лишь посредством статичного представления динамической структуры сравниваемых теорий, а следовательно, ценой потери информации, касающейся динамических аспектов теоретических структур как таковых. Окончательный вывод Штегмюллера заключается в том, что мы не нуждаемся в конвергентной прогрессистской точке зрения на научные теории для того, чтобы говорить о рациональности науки и избегать релятивизма. Научный прогресс можно рассматривать с точки зрения динамики каждой теоретической структуры по отдельности, — расширения спектра её применимости и успехов в инкорпорировании аспектов прежней теоретической структуры, которые начинают работать в более широком поле опыта, с новыми правилами и ограничениями. Как вытесняемая теория, так и вытесняющая теория могут доказать свою успешность в определённых ситуациях, идентификация которых требует богатого динамического изображения их структур.
Настоящее революционное значение науки заключается в её способности усиливать познавательные мощности разума и разжигать когнитивную экспансию. Конвергентно-прогрессистская интерпретация научных теорий часто используется в качестве превентивной меры против иррациональности и релятивизма по отношению к научным теориям; но в действительности она является сверхупрощением, влекущим за собой много лишних проблем, которые могут стать источником иррациональности. Рациональность науки заключается не в единообразном прогрессе науки, но в том, как те или иные теории сконструированы и расширяют способности разума и своё когнитивное сцепление с миром. В свете динамики научной структуризации и теоретизации, рациональность науки может быть сохранена без конвергентной прогрессистской интерпритации научных изменений. Схожим образом можно продемонстрировать, что эпистемологический анархизм есть лишь паразитическое порождение псевдорациональности некритически прогрессистского взгляда на науку.
Возвращаясь к тому, какую роль наука играет для сознания, интеллекта и агентности, отметим, что способность науки делать мир интеллигибельным вне пределов того, что видится реальностью, превосходящей сознание, — представляет собой движение сознания к самосознанию через отличение своих универсальных и необходимых черт от своих же случайных и частных характеристик. Острая асимметрия между научной рамкой и очевидным вызывает продолжающуюся нестабильность и пертурбацию, которую следует рассматривать в качестве положительного условия для самопонимания и соответствующей самотрансформации, поскольку в результате таковой явная картина агентности становится более утончённой и минимизируется до набора логически нередуцируемых необходимых активностей. Наука это не атака на логику или сущность человека, которую надобно предотвратить; она есть то, что отличает необходимые аспекты человеческого от случайных черт. Обрубание очевидного образа человека и его урезание до логико-концептуальной необходимой деятельности и функции является необходимым шагом для понимания значения человека. Именно с помощью такой минимизации очевидного рациональную самость возможно вызволить из нейробиологически сфабрикованной «феноменальной модели себя»[93] и представить в качестве конструктивного принципа, подлежащего переносу и искусственному осуществлению. Это именно тот непрерывный труд науки по углублению порядка интеллигибельности, что обеспечивает geist необходимыми ресурсами для определённого отрицания и пересмотра содержания самопонимания.
По итогу развития научной рациональности сознание превращается в вал ноэтического разукоренения. Такое извлечение мысли и её ноэтический дрейф сопоставимы с тем, что Платон называл Формой Блага как Формой Форм, потому как они устанавливают строительные леса для постижения области интеллигибельностей как сложной системы рецептов по изготовлению мира, который не просто удовлетворён жизнью, но вечно требует лучшего. Ингредиенты для этих рецептов это не просто теоретические интеллигибельности — продукты современной науки, — но практические и аксиологические интеллигибельности, объекты науки о мастерстве, практиках и этических нормах, которые также являются подгруппами логических функций сознания. Это этика как наука о безличных ценностях и неценностях, касающихся интеллигибельного единства свободы сознания и ограничений окружающего мира, автономии мышления и реальности в её инаковости. Но что это за жизнь, которая могла бы действительно удовлетворять сознание, «кроме той, что включает в себя самопознание, прошедшее через все стадии дисциплинированного размышления об источнике вещей»[94], или, говоря иначе, их интеллигибельность? И чем является интеллект, если не тем, что знает, как обращаться с интеллигибельным вне зависимости от того, относится ли оно к нему или к миру?
Пер. с англ. В. Мантров, Н.Немцев
Науч. ред. И. Дмитриев
Сноски:
[51] Рассмотрим точку как объект. Можно понимать её либо как нечто фиксированное, либо посредством актов указания. В последнем случае, точка — это указатель, который указывает [points], словно воображаемая метка на бумаге, оставленная жестом пальца, который указывает на неё. Как только точка оказывается понята в качестве акта, а не просто продукта, становится возможно её артикулировать или жестикулировать иным образом. Указатель может быть соединён с другим указателем для того, чтобы получить новую точку, и так далее. Когда же дело доходит до определения точки, можно говорить не только об указателе, но также о сцеплении указателей или же карт трансформации. В случае автореференции действует тот же принцип: «то, на что ссылаются» есть объект акта референции. И когда автореференция понимается как индивидуирующий акт, становится возможно сцепление актов референции, имеющих в качестве своего объекта одну и ту же референцию. Всегда можно сменить идентичность объекта в качестве «того, на что ссылаются» на соответствующую коллекцию референтных актов или же групп трансформаций.
[52] Более подробное обсуждение философских, логических и математических концепций идентичности как группы трансформаций — см. в главах 6 и 7: A.Rodin. Axiomatic Method and Category Theory (Dordrecht: Springer, 2014). — P. 149—209.
[53] Там же. — P.149 — 158.
[54] Наоборот. — (Лат.)
[55] Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа. пер. с нем. Г.Г Шпет. Серия: Памятники философской мысли. — М.: Наука, 2000. — С. 406.
[56] G.W.F. Hegel, Lectures on the Philosophy of World History, tr. H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 64. [Здесь Негарестани ссылается на англоязычный перевод Нисбета, который несмотря на заглавие “Лекции по истории философии” существенно отличается от текста, который русскоязычный читатель знает по переводу А. М. Водена. Данная книга является переводом второго черновика гегелевских лекций, местами почти дословно сходящегося с финальным текстом, местами совершенно с ним расходящегося. — Прим. пер.]
[57] Краткое и ясное изложение этого мифа — см.: J.R. O’Shea, Wilfrid Sellars: Naturalism with a Normative Turn (Cambridge: Polity Press, 2007). — P. 1.
[58] R-лексемы, R-имена, R-цели, R-сущности, R-аспекты, R-процессы, R-области.
[59] В качестве примера см.: J. Ladyman and D. Ross, Every Thing Must Go (Oxford: Oxford University Press, 2009).
[60] Термин «универсум дискурса» выводится из выражения Огастеса де Моргана «универсум пропозиций», означающего, в частности, «совокупность некой определённой категории вещей, которая подлежит обсуждению», но вовсе не «совокупность постижимых объектов любого рода». См.: W. and M. Kneale, The Development of Logic (Oxford: Clarendon Press, 1962). — P. 408.
[61] Puntel, Structure and Being. — P. 45.
[62] В «Федоне» Платона «нет большей беды, чем ненависть к слову», так как в этом случае человек лишает себя «истинного знания бытия». [Цит. по изд.: Платон. Собрание сочинений в четырёх томах. М.: Мысль, 1990-1994. Общая редакция А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса и А. А. Тахо-Годи, Том II, С. 46 — 48.]
[63]В русскоязычном переводе Гегеля Г. Г. Шпетта слово “увязший” отсутствует, но Негарестани цитирует перевод Майкла Инвуда [Michael Inwood], где слово “увязший” [bogged down] использовано для перевода немецкого глагола stehenbleibt (по смыслу близкого к «оставаться», «задерживаться»), которое переводчик на английский преобразовал в причастие— Прим. пер.
[64] Гегель Георг Вильгельм Фридрих Феноменология духа. Памятники философской мысли. Пер. Г. Г. Шпет — М.: Наука, 2000 — С. 104.
[65] Единственная в своём роде. — (Лат.).
[66] P. Wolfendale, ‘The Reformatting of Homo Sapiens’, Angelaki 24.2: Alien Vectors (forthcoming, 2019) [Питер Вульфендейл, «Машинное вдохновение и переформатирование homo sapiens», пер. Олег Лунёв-Коробский: https://spacemorgue.com/mech-inspiration/]
[67] Puntel, Structure and Being. — P. 276. (Курсив в последнем предложении — Р.Н.)
[68] R. Brandom, Reason in Philosophy: Animating Ideas (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 148.
[69] «Можно поручиться — человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». — Мишель Фуко, Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М, 1977. — С 487.
[70] См. — Brandom, Reason in Philosophy. — P. 81.
[71] Там же. — P. 86.
[72] Бог из машины. — (Лат.)
[73] [The dasein of geist]
[74] Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа. пер. с нем. Г.Г Шпет. Серия: Памятники философской мысли. — М.: Наука, 2000. — С. 167.
[75] Там же. — С. 332.
[76] Brandom, Reason in Philosophy. — P. 199.
[77] См. C. Dutilh Novaes, Formal Languages in Logic (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
[78] Там же. — P. 219.
[79] См. Хомский, Н. Аспекты теории синтаксиса — М.: Издательство Московского университета, 1972. Более детально см.: R. Hausser, Foundations of Computational Linguistics: Human-Computer Communication in Natural Language (Dordrecht: Springer, 1999).
[80] «Open harnesses» (не слишком часто, но встречающееся в англоязычных текстах по теоретической информатике) можно перевести также как «открытая структура ограничений» или «открытая структура подключения». Однако, дословный перевод тоже сохраняет смысл двойственности таковой структуры (как ограничивающей взаимодействия систем, так и делающей их возможными). Следующее далее to harness («запрягать», «впрягать») обозначает подключение той или иной системы к подобному интерфейсу. — Прим. пер.
[81] J.-B. Joinet, ‘Proofs, Reasoning and the Metamorphosis of Logic’, in L.C. Pereira, E. Haeusler and V. de Paiva, Advances in Natural Deduction (Dordrecht: Springer, 2014). — P. 58.
[82] Puntel, Structure and Being. — P.31.
[83] Brandom, A Spirit of Trust (2014), <http://www.pitt.edu/~brandom/spirit_
of_trust_2014.html>.
[84] Без уточнений. — (Фр.)
[85] Brandom, Reason, Genealogy, and the Hermeneutics of Magnanimity (2014),
<http://www.pitt.edu/~brandom/downloads/RGHM%20%2012-ll-21%20a.docx>;
and Brassier, ‘Dialectics Between Suspicion and Trust’, 98-113. [Рэй Брассье.
Диалектика между подозрением и доверием. — Stasis, 2016, Т.4, № 2]
[86] Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа. пер. с нем. Г.Г Шпет. Серия: Памятники философской мысли. — М.: Наука, 2000. — С. 409.
[87] Там же. — С. 19.
[88] «Наука, которая находится только на начальной стадии и, следовательно, ещё не достигла ни полноты деталей, ни совершенства формы, подвергается за это порицанию. Но если это порицание относить к сущности науки, то оно было бы столь же несправедливо, сколь недопустимо желание отказаться от требования упомянутого развития. Эта противоположность и есть, по-видимому, самый главный узел, над развязыванием которого в настоящее время бьётся научное образование и относительно которого оно ещё не достигло надлежащего понимания». — Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Феноменология духа. пер. с нем. Г.Г Шпет. Серия: Памятники философской мысли. — М.: Наука, 2000. — С. 13.
[89] Например, J. Rosenberg, Wilfrid Sellars: Fusing the Images (Oxford: Oxford University Press, 2007).
[90] См.: Кант Иммануил. Критика чистого разума. — М.: Наука, 1999.
[91] W. Stegmiiller, The Structure and Dynamics of Theories (New York: Springer, 1976).
[92] Там же. — P. 127.
[93] T. Metzinger, Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity (Cambridge, MA: MIT Press, 2003).
[94] W. Sellars, Essays in Philosophy and its History (Dordrecht: D. Reidel, 1974). — P. 26.
