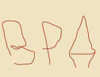ПОСТАНАРХИЗМ И КРИТИЧЕСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ
Последний публикуемый онлайн текст из газина номер два, за печатной версией которого можно обращаться ВРД
ОСТОРОЖНО, ХУЁВЫЙ ПЕРЕВОД КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ! ОСТОРОЖНО, ПОСТАНАРХИЗМ И ИСКУССТВО!
СОЛ НЬЮМАН
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ [Postanarchism and Critical Art Practices, Saul Newman and Tihomir Topuzovski, 2024]
Развивая идею восстания в искусстве и политике, мы предположим, что (пост)критические художественные практики участвуют в форме отменяющего действия. Что мы подразумеваем под этим? Мы рассмотрим это более подробно в следующей главе, но эта идея вытекает из понятия Джорджо Агамбена отменяющей или отменяющей власти, концепции, которую он заимствует из идеи Вальтера Беньямина о «божественном насилии», форме насилия, которая низвергает суверенный порядок власти и закона. Ключевое различие, которое проводит Агамбен, проводится между отменяющей иучредительной властью.
Учредительная власть — это власть основать новый политический правовой порядок, новое государство. В своей первоначальной формулировке французского революционного мыслителя аббата Сийеса, власть разрушает существующий порядок и создает на его месте новую учредительную власть, которая всегда принадлежала народу и, по определению, находилась вне существующего политико-правового порядка, черпала свою законодательную силу из природы. Однако проблема в том, что эта внеправовая власть, воплощенная в народе, никогда не сохраняется в чистой, имманентной революционной форме — как предполагают такие мыслители, как Антонио Негри — но всегда как новое государство, как новый суверенный порядок.
Как выразился анархистский литературный коллектив «Невидимый комитет»: «Учредительная власть — это чудовищное волшебство, которое превращает государство в сущность, которая никогда не ошибается». Напротив, «лишить власти значит лишить её основы». Именно это и делают восстания».
Мы видим, как эта идея лишения власти отражает (пост)анархистские идеи социальной революции против государственной власти (в отличие от политической революции) и отсылает к созданию автономных отношений и форм жизни, а не к захвату политической власти. Более того, она подразумевает форму действия — предложенную в ключевом понятии Агамбена о бездеятельности — которая близка нашему тезису об онтологической анархии: своего рода префигуративное политическое действие, которое не определяется результатом и не ориентировано на стратегические цели или конкретное видение социальных отношений, оно скорее, открыто и условно — как способ действия в настоящем и над настоящим.
Понимание политики как проекта, как целенаправленной формы деятельности, которая подчиняет средства целям, — это именно то, что Агамбен имеет в виду, когда он обращается к «работе», к политике как работе. Вместо этого он предлагает своего рода отход от онтологического порядка власти и от всех всеобъемлющих политических проектов.
Таким образом, отменяющая власть может быть понята как исход из порядка суверенитета в целом, которая не действует в нём, не стремится захватить его в революционном смысле и даже не стремится к его уничтожению: все эти движения, в определённом смысле, захвачены парадигмой суверенитета. Скорее, отменяющая власть подвешивает сам порядок суверенитета и призывает к форме жизни, деятельности и политики, которая автономна от него.
Именно так, как мы утверждаем, критические художники видят свою собственную практику и своё отношение к политике. Их практика не понимается в терминах «работы» и не рассматривается как инструмент для достижения определенной политической цели, а, скорее, является созданием альтернативного пространства, в котором могут быть исследованы новые виды социальных отношений и новые автономные формы субъективности и способы существования в мире. Это отражено в идее Агамбена о том, что и политика, и искусство следует рассматривать как форму «деятельности без работы», то есть деятельность без конкретной цели, своего рода чистую практику, которая на самом деле является созданием новых способов жизни и существования: новой формы жизни.
Чем эта идея отменяющего действия отличается от других подходов к теоретизированию взаимосвязи искусства и политики? Шанталь Муфф также представила взгляд на критические художественные практики как на создание альтернативного публичного пространства. Роль критического искусства, утверждает она, заключается в том, чтобы посредством практик сопротивления сделать видимыми отношения власти и антагонизма, которые составляют социальное поле, но которые в противном случае скрыты политическим консенсусом.
Подобно нашему постанархистскому подходу, Муфф рассматривает социальные отношения с точки зрения условного, а не обязательного, набора механизмов. Социальные структуры и институты являются результатом гегемонической политической борьбы, которая дала осадок.
Выявление этого антагонистического измерения политического и, таким образом, постижение альтернативных механизмов является функцией демократической борьбы за гегемонию. Это антагонистическое, или то, что она называет агонистическим, измерение политического — это именно то, что скрывается за либеральной или неолиберальной консенсусной политикой, которая ищет технократические решения социальных проблем и которая представляет собой общую публичную сферу рационального обсуждения, способную разрешать политические конфликты. Напротив, критическая художественная практика играет свою роль в создании разногласий, в выдвижении на первый план этого антагонистического измерения как части демократической борьбы за гегемонию и, таким образом, в переосмыслении публичного пространства как пространства конфликта, а не согласия.
(дальше кусок про Шмитта, а он фашист поэтому идет нахуй)
Постанархистская политика, напротив, — это не борьба за власть или гегемонию, а борьба против них. Анархистская социальная революция, которую мы переосмысляем в терминах восстания или отменяющего действия, предлагает совершенно иную форму политики, целью которой является свержение, а не захват власти, и создание автономных пространств и взаимодействий вне рамок национально-государственного суверенитета. Это не означает, что постанархизм выступает против институтов как таковых. Критические художники и активисты взаимодействуют с арт-институциями, чьи практики они одновременно оспаривают, используя их как площадки для публичных интервенций. Художественные институции — музеи и галереи — играют важную роль в переосмыслении публичного пространства политики. Поэтому мы не возражаем против утверждения Муфф о том, что «организуя конфронтацию между конфликтующими позициями, музеи и художественные институции могли бы внести решающий вклад в распространение новых публичных пространств, открытых для агонистических форм участия, где радикальные демократические альтернативы неолиберализму могли бы снова быть придуманы и культивированы». Тем не менее, в чем наш постанархистский подход отличается от подхода Муфф, так это в привлечении внимания к тому, как критические политические и художественные практики стремятся выйти за рамки институционального принципа суверенной власти, создавая пространства, которые действительно автономны и горизонтально организованы.
Другой способ понимания публичного пространства можно найти в политике эстетики Жака Рансьера. Как и Муфф, Рансьер считает эстетику и политику неразделимыми, тем самым отвергая требование, чтобы искусство было явно политическим или «критическим»: искусство имплицитно политично, открывая то, что он называет новым «распределением чувственного». Другими словами, искусство обладает потенциалом нарушить существующий порядок вещей и создать возможность новых видов чувственного сообщества: «Общим является ощущение». Люди связаны между собой определенной чувственной тканью, определенным распределением чувственного, которое определяет их способ быть вместе; и политика заключается в трансформации чувственной ткани «бытия вместе». Таким образом, подобно Муфф, Рансьер считает, что политический эффект искусства заключается в создании диссенсуса, то есть в нарушении статус-кво, существующего порядка реальности, и в создании нового коллективного пространства.
Политика всегда является эгалитарным нарушением того, что Рансьер называет «полицейским порядком», имея в виду не конкретную репрессивную функцию поддержания порядка, а скорее символическое устройство социального порядка: «Её суть заключается в определённом способе разделения чувственного», другими словами, в определении ролей, функций, мест и идентичностей, составляющих социальный порядок.
Поскольку политика, особенно демократическая политика, основана на предпосылке равенства, то есть на равном праве и способности каждого говорить, участвовать, принимать политические решения, управлять и быть управляемым, — это нарушает полицейский порядок, «анархически» прерывая иерархии и способы консенсуса, которые стали натурализоваться.
Здесь есть важная связь с нашей концепцией онтологической анархии, которую мы считаем центральной для понимания политики критического искусства. Как говорит Рансьер, «Политика — это специфический разрыв с логикой архе. Она не просто предполагает разрыв с «нормальным» распределением позиций, которое определяет, кто осуществляет власть, а кто ей подчиняется. Она также требует разрыва с идеей о существовании диспозиций, «специфичных» для этих позиций». Поэтому, по Рансьеру, вместо власти над собой, демократия — это разрушение такой власти и цикличности архе. Это анархический принцип, который должен предполагает, что политика вообще существует, и поскольку она анархична, она исключает самообоснование политики, превращая её вместо этого в место разделения.
Хотя Рансьер не обязательно понимал свой подход к политике как анархический — по крайней мере, не так, как классический революционный анархизм — важно то, что он исходит из предпосылки онтологической анархии, то есть из отсутствия господствующего принципа власти. Подобно обсуждавшейся ранее концепции «не-власти» Фуко, он исходит из анархии, но не обязательно приводит к ней и не предопределен определенным рационалистическим видением анархического общественного порядка (который, по Рансьеру, был бы просто другим порядком «полиции»).
Онтологически анархический подход Рансьера к политике критического искусства во многом согласуется с нашим собственным. Важно отметить, что он отказывается отождествлять политику с осуществлением власти или борьбой за власть — как это делает Муфф — но вместо этого рассматривает её как форму действия, которая создаёт новых субъектов, новые формы субъективации: то есть новые способы совместного проживания и взаимоотношений друг с другом.
Действительно, политика направлена на то, что Рансьер называет дезидентификацией — процессом, посредством которого субъект отделяется от предопределённых ролей и идентичностей, определяемых полицейским порядком, и конструирует альтернативные способы бытия и действия в мире. Он говорит: «Всякая субъективация — это дезидентификация, отстранение от естественности места, открытие пространства субъекта, где любой может быть сосчитан, поскольку это пространство, где учитываются те, кого не считают, где устанавливается связь между наличием части и отсутствием части».
Здесь имеет место отказ от того, что можно было бы назвать «политикой идентичности» — другими словами, отказ от идеи о том, что политика — это требование признания и прав предопределенных идентичностей и наборов интересов. Даже когда субъект заявляет о правах, он или она становится чем-то новым и иным. Эта идея дезидентификации в некотором смысле совпадает с нашим представлением о восстании, в котором субъект отделяет себя от предопределенных ролей и идентичностей, которые характеризуют «полицейский порядок».
В то же время взгляд Рансьера на политику основан на идее видимости. Полицейский порядок определяет, какие субъекты видимы, то есть, какие субъекты имеют право говорить, появляться в публичном пространстве, как политические субъекты, а какие остаются невидимыми. Практика политики, и, конечно же, критического искусства, заключается в создании нового режима видимости, иными словами, в перераспределении существующего социального порядка таким образом, чтобы ранее исключённые теперь могут появляться и быть признаны политическими субъектами. Этот акцент на перераспределении порядка видимого и есть то, что объединяет эстетику политики и политику эстетики, по Рансьеру.
Понятие видимости, несомненно, важно, даже центрально, для большинства концепций публичного пространства, которое, следуя взглядам Арендт, предполагает появление граждан на публике и реализацию ими своего равного права говорить и быть услышанным. Однако разве невозможно — и даже необходимо — несколько шире взглянуть на то, что может означать политическая субъективация сегодня? Ранее мы упоминали о новой диссидентской политике невидимости, связанной с жестом анонимности, сокрытием лица маской и сокрытием своей идентичности: отказом быть учитываемым. Новые формы инакомыслия и восстания, которые нас интересуют, и которые также отражены и выражены в некоторых критических художественных практиках и коллективах, предполагают невидимость и анонимность (и здесь мы могли бы говорить о коллективах, таких как Anonymous, а также о таких практиках, как хактивизм и электронное разоблачение).
Они подрывают традиционное представление о публичном пространстве, и, конечно же, о политике как о обязательно видимой деятельности. Эти новые непокорные практики действуют в тайном пространстве, участвуя в уходе или «исходе» из государственного порядка. Однако это не делает их действия менее политическими. Действительно, анонимность, сокрытие идентичности, отказ от видимости и репрезентации становятся новым видом политического действия и образуют альтернативное пространство для свободы и автономии. Как говорит Жоффруа де Лагаснери: «Практика анонимности позволяет действовать политически, не конституируя себя как идентифицируемого субъекта. Анонимные субъекты не являются субъектами, которые появляются. Напротив, они растворяются как публичные субъекты и организуют свою собственную невидимость». Или, как выразилась Донателла ди Чезаре, субъекты, которые скрывают свою личность, в качестве анархистского жеста и меры противодействия слежке, требуют для себя «права на непрозрачность». Мы подробнее расскажем о политике анонимности и невидимости в следующей главе.
ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #1 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #2 ГАЗИН #1 ГАЗИН #2
! ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ ЧИТАЙТЕ В ГАЗИНЕ № 35!