Поль де Ман. Рецензия на «Тревогу влияния» Гарольда Блума
Ещё один перевод — это небольшая рецензия Поля де Мана на книгу Гарольда Блума “Тревога влияния” (Anxiety of Influence; на русском издана как “Страх влияния”, но тревога кажется более подходящим словом — даже до всех психоаналитических выкладок ощущается, что она имеет дело с материями, в которых сложнее отдать себе отчёт, а в это Блум и метит). Блум и де Ман были соседями по Йелю — собственно, рецензия и включена во второе издание сборника “Слепота и прозрение” (Blindness and Insight), который и обеспечил де Ману место в университете (издание на русском дублирует первый вариант сборника — видимо, потому что права на все “новые” тексты нужно было запрашивать отдельно). Второе издание вышло в 1983 г., предисловие де Мана к нему датировано январем, а в декабре он умер от рака.
Рецензия эта — довольно занятная перемычка между блумовскими “Тревогой влияния” и его же “Картой перечитывания” (Map of Misreading), которые часто издают вместе. В последней Блум довольно много спорит со своими современниками-литературоведами, в том числе с де Маном, и потому читать эту книгу несколько интересней её предшественницы. За Блумом закрепилась репутация консерватора — and rightly so! — отстающего от века, брюзги, огрызающегося на любого, кто, по его мнению, посягает на западный канон, а последним несть числа: новый историзм, феминистская критика, наконец, эти проклятые французы, которые одни во всем мире не оценили Шекспира. Рецензию де Мана поэтому можно воспринимать как своего рода восстановление Блума в правах (в котором он, может, и не нуждался на момент выхода рецензии 1974 — до "Западного канона", где он много чего наговорит, оставалось ещё двадцать лет): то, с какой легкостью первый из них переводит систему второго на собственный язык, даёт понять — не так-то Блум и прост.
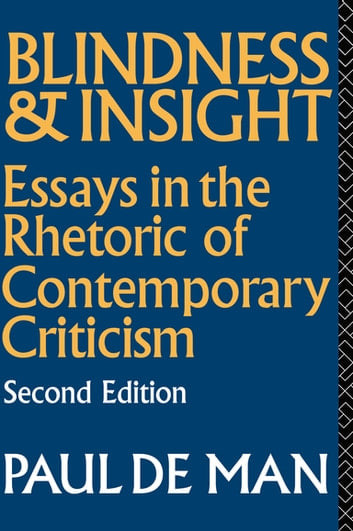
Как и большинство хороших книг, последняя работа Гарольда Блума — ни в коему случае не то, чем хочет показаться. Саму себя, в подзаголовке, она называет “теорией поэзии”, и претендует стать работой, вносящей коррективы как минимум по трём направлениям: она развенчивает гуманистический взгляд на литературное влияние как на продуктивное встраивание индивидуального таланта в традицию; изощряя техники чтения, она помогает сделать критику более скрупулезной и сообразной стоящим перед ней задачам; наконец, она пересматривает и обогащает те сделавшиеся непреложными положения, на которых ученые и выстраивают историю литературы. Выступая под знаменем общей теории литературы, этот солидный труд совмещает идеологический, текстуальный и исторический анализ образом уже знакомым по другим влиятельным литературоведческим работам, изданным в последнее время. Стремление “внести коррективы” для Блума не ново: он всегда давал понять, что идёт собственным путем, ничем не обязанный тому доктринерству, что царит в литературных исследованиях. “Коррективы” он вносит в лучшем из возможных пониманий этого выражения: им не движет тщеславное желание отстоять свою оригинальность, тем более не хочет он создать и навязать другим собственное учение; просто дело в том, что слух его всегда был чуток скорее к языку самих поэтов, а не к главенствующим академическим трендам. И даже те критики, которым он многим обязан, — Нортроп Фрай, Мейер Абрамс, Вальтер Джексон Бейт — не сковывали его тревогой, которая бы в его случае смотрелась неуместно. Пользуясь его же терминами, Блума можно назвать “сильным” критиком, и нет ничего удивительного в том, что его намерение, прямо озвученное, не в том, чтобы просто расширить поле литературных исследований, а в том, чтобы преобразовать его.
Впрочем, тот, кто прочтёт эту книгу, приняв это намерение за чистую монету, не отдаст ей должного. Кажется, что в исследовании, задавшемся целью “исправить”, будет сделан упор на саму технику, ноу-хау критического анализа; в нём ожидаешь увидеть указания к работе, не обязательно строго “научные”, но претендующие на дидактическую ценность. Примеры исключительного мастерства интерпретации и выдающейся исторической эрудиции — вот что рассчитываешь в ней найти. Однако, в отличие от некоторых более ранних книг Блума, в Тревоге влияния совсем мало обстоятельных стихотворных анализов, а блумовская обширная эрудиция не особенно-то и явлена. Да, цитат здесь множество, как и, в случае Мильтона, Блейка, Стивенса, Эмерсона и других, утонченных, хотя и сделанных впроброс, интерпретаций, но все они лишь призваны поддержать доводы Блума; комментариев, которые бы эти интерпретации прояснили, не следует, как будто предполагаемое значение сложных и двусмысленных пассажей — это нечто само собой разумеющееся. Легко почувствовать, что Блуму нет особого дела до деталей в книге, замах которой куда шире. Даже вопрос, заявленный как центральный, вопрос о влиянии, или, точнее, о месте новой концепции влияния в самом процессе интерпретации, разработан не то чтобы подробно. Большинство примеров — это заверения о присутствии влиянии, сделанные a priori на основе словесной и тематической близости, и преподнесенные так, будто они говорят сами за себя. У Блума нет времени на технические изыски. На самом деле, его мало заботит и то, приживутся ли его “коррективы”; те дебаты о методологии, которыми живет американская и европейская наука, ему малоинтересны.
Книга Блума движима тревогой другого, более общего рода. Несмотря на подзаголовок, на самом деле перед нами не теория поэзии — разве что мы буквально поймем цитату из Уоллеса Стивенса, которая служит книге эпиграфом: “…теория / Поэзии — это теория жизни, / Как она есть…”.[1] “Жизнь как она есть” — это не что-то такое, что сразу ухватишь, и потому эпиграф указывает на крайне проблематичную природу поэзии. “Литература” в книге — это не тот устоявшийся предмет исследований, с которым наука традиционно имеет дело. “Литература” — это подвижное понятие, прямо сейчас переживающее драматические изменения в его оценке и содержании. Что теперь ставится под вопрос, так это те допущения о литературе, которые раньше питали работы самого Блума. Как результат, у читателя, не знакомого с ранними сочинениями Блума, есть шанс потеряться в новой книге. Предшественник, который, похоже, тревожит Блума больше всего, это не Фрай, [Уолтер Джексон] Бейт, не кто-то из современников-конкурентов, но он сам. Имей мы дело с замкнутым на себе исследователем, такая борьба с самим собой выглядела бы тривиальным потаканием собственной гордыне, но так как мысль Блума всегда была отдана той де-центрированной “другости”, что мы зовём литературой, книга его какая угодно, но не тривиальная или солипсистская. В конце концов не каждый день выдаётся шанс увидеть, как литература борется сама с собой по поводу собственных же притязаний.
В предыдущих книгах Блума притязания эти были настолько всеохватны, что порой это походило на позу. Они были укоренены в высокой оценке английского романтизма, который, доказывалось, узаконил абсолютное право воображения на установление норм для всех эстетических, этических и эпистемологических суждений; такая интерпретация была смелой и точной. Пускай Блум порой звучал высокопарно и однобоко, оригинальность его прочтения английского романтизма трудно переоценить. Вполне возможно, он почувствовал, что надо немного надсадить голос, чтобы тебя услышали, ведь со всеобъемлющим понятием “воображения” он, философски подкованный, работал тоньше и знал о нём больше, в некоторых аспектах, чем другие историки и теоретики английского романтизма, включая Фрая, Абрамса и [Эрла] Вассермана. Со времен своей книги про Шелли Блум всегда понимал, хотя и не говорил это прямо, что романтическое воображение, пусть всё и говорит об обратном, нельзя понимать как вовлеченное в диалектическую игру с “природой”, якобы ему противопоставленной. “Внутри” и “снаружи”, “субъект” и “объект” — эти дихотомии сделали почти непреодолимой пропасть между тем, как романтических поэтов понимают обычно, и тем, что они говорили на самом деле; говорили они вещи сложные и неоднозначные, но такими они являются не по тем причинам, по каким обычно принято считать. Чувствовалось, что нечто в этой модели не так, и в результате полюса поменялись: если раньше романтизм описывали как культ природы, как её примирение с разумом, теперь упор делался не на природе (и не на поэтическом языке, якобы отражающем её первостепенность), а на чём-то прямо противоположном. В обращение в качестве равноценных дубликатов “природы” поступили такие термины как “интериоризация”, “разум”, “сознание” и “самость”. Хороший пример такого обращения — это статья Джеффри Хартмана о Via naturaliter negative, ядро его книги о Вордсворте; однако эта же статья демонстрирует: пока под вопрос не ставится сама двоичная структура, переворот в оценке ничего на самом деле не меняет. У летописи этого переворота, какой бы замысловатой, сложной и волнующей она ни была, конец один — противоположности примирятся, все различия, которые на деле были внешними проявлением глубинной согласованности, окажутся упразднены.
Блум и сам поучаствовал в этом необходимом первом этапе, например, когда в эссе 1968 года написал, что “поэмы о символических путешествиях, непрерывная традиция которых идёт от ‘Аластора’ Шелли к ‘Странствиям Ойсина’ Йейтса, склоны видеть в природе силки для развившегося воображения”, и прибавил, негодуя на слепоту своих коллег-исследователей: “Чтобы это доказать, придётся потрудиться, ведь от старых взглядов на романтизм так просто не избавиться” (The Ringers in the Tower, Chicago: University of Chicago Press, 1971, p. 20). Однако, в отличие от остальных, на этом этапе Блум не остановился. Преодолевая диалектику разума и природы, Блум ищет способ описать то, что по сию пору он вынужден называть романтическим воображением и в чём теперь он видит автономную силу, которая развивается согласно собственным законам в тех областях, где категория природы больше не задействована, ни утвердительно, ни негативно. Описать эту силу невероятно сложно, так как традиция пост-романтической поэзии и критики имеет над нами такую власть, что доступные нам риторика и терминология оказываются всегда уже предопределены, из-за чего на неадекватность концептуального аппарата приходится указывать, используя тот язык, который и должен быть развенчан.
Перед лицом этого философского затруднения своей стратегией Блум выбрал, вероятно бессознательно, по-новому сформулировать понятие воображения, говоря с перехлестом, на грани чудачества. Раз воображение невообразимо, говорить о нём можно только с помощью гипербол. Поэзия, продукт этого гиперболического воображения, способна на всё. Она идёт куда дальше заявлений Шелли из Защиты [поэзии], в которой сказано: “Воображение — лучшее средство морального совершенствования” [пер. З. Александровой]. Ничего естественного в её сверхъестественности не осталось: “Чтобы программа романтизма осуществилась, одного естественного человека мало, и дело так обстоит не у одного Блейка. Тут нужны новые и лучшие чувства, и огромная заслуга романтической поэзии в том, что она не просто требует подобного расширения, но впервые делает его возможным, или по крайней мере пытается его добиться” (ibid., p. 21). “Поэт покинет своё Великое Изначальное (Great Original)… и природу — как завещано Поэтическим Гением — и пробьётся к своей Музе или Воображению; тогда-то расточительная и одинокая части сольются”. Это слияние — не синтез, но безоговорочный триумф поэзии над превратностями существования: “[Подчинившееся] сновидение — это не просто фантазия о бесконечном удовольствии, но величайшая из всех человеческих иллюзий — видение бессмертия” (Тревога влияния, с. 14). “Тармас Вордсворта — это не только образ человеческой божественной природы, за которым пристало следовать (shepherd image of human divinity), он — часть поэта, та часть, что отчаянно утверждает себя; отчаяние это в худшие свои моменты жертвует живым настоящим, а в лучшие — являет ту спасительную настоятельность, что защищает воображение от наваждений природы” (The Ringers in the Tower, p. 27).[2]
Несложно заметить, как сама блистательность блумовского прозрения, которая отличает его от других исследователей романтизма и ставит его над ними, заставляет его делать несуразные заявления по поводу поэзии. Заявления эти всё ещё делаются на языке, который Блум хотел бы упразднить: на языке естественных желаний, сил и одержимостей. Этот гиперболический кураж не ослабевает на протяжение многих эссе из Звонарей на башне (The Ringers in the Tower). С другой стороны, неудача подобного подхода также оглашается, хотя и делается это в терминах скорее исторических, а не теоретических. Романтизм расщепляется, и появляются два его временны́х полюса — романтизм ранний и поздний. Блум предлагает историзацию воображения, намечая напряжение между его ранними, изначальными, и более поздними, производными, проявлениями. Тогда провал при попытке отдать воображению должное, признать его истинную природу — это затруднение темпоральное, где быть позже — значит опоздать, навсегда оказаться в тени предшественника. Теория влияния вытесняет теорию воображению, так и не сформулированную до конца. Фраза “тревога влияния”, которая только проскальзывает в Звонарях на башне, становится заглавием следующей книги.
В каком-то смысле это шаг назад. Мы вот-вот готовы были освободить поэтический язык от ограничений, налагаемых его связью с природой, и тут мы возвращаемся к схеме, в которой, при всей её обтекаемости, нельзя не увидеть рецидив психологического натурализма. Да, Блум не допускает наивной связи самого концепта влияния с каким-либо эмпирическим событием: он ясно даёт понять, например, что исследование источников тут не при чем, что влиять на поэта могут и тексты, которые он никогда не читал, или, что ещё сюрреалистичней, что влияние может быть хронологически обратимым: так, можно обнаружить, как более ранние поэты, предугадывая, испытали “влияние” поэтов более поздних. Тем не менее теперь Блуму куда сильней, чем раньше, требуется пафос, который оказывается скорее буквальным (literal),[3] чем гиперболическим. На место отношений слов к вещам, или слов к словам, вновь водворяется отношение между субъектами. Отсюда и язык агона, язык тревоги, силы, противоборства и недобросовестности. Это откат проявляет себя самыми разными образами. Он ощутим, например, в разнице между тем, как Блум обращался к Фрейду раньше и тем, как обращается теперь. В прежние времена Блум, похоже, разделял распространенный взгляд на Фрейда как на рационалистического гуманиста, и тактично отстранялся от него в Звонарях на башне как от заложника принципа реальности, который сами романтики отвергли. В Тревоге влияния в блумовском прочтении Фрейда появилось больше нюансов, но последний всё равно принципиально не признаётся “достаточно радикальным”, его мудрость не идёт ни в какое сравнение с “мудростью серьезных поэтов” (Тревога влияния, с. 14). И, несмотря на это, вся аргументация в книге подана в терминах эдипова комплекса, а история о влиянии поведана на натуралистическом языке желания. Блум был раздосадован: придать своему прозрению свойства, которыми обладает воображение, референции не знающее, оказалось очень сложно; так Блум и пал жертвой собственного желания всему придать определенность. То, что заботит его как теоретика, теперь, претерпев смещение, укладывается в символический нарратив, вновь заземленный на субъекте. Но ни одна теория поэзии не состоится без того строго эпистемологического момента, когда текст оценивается с точки зрения его истинности или ложности, а не любви или ненависти к нему. Сам этот момент никакой истинности не гарантирует, но зато он предупреждает о тех искажениях, которые производит в нашем понимании вмешательство желания. Он может выявить за искажениями те закономерности ошибок (patterns of errors), что, возможно, и вызывают тревогу, но укоренены скорее в языке, чем в “я”.
Возвращение психологизма коренным образом меняет понимание той ценность, что можно приписать литературе. Она больше не способна на что угодно, а превращается в абсурдное, лишенное притязаний комичное занятие, ведь ни одному поэту не дано покорить Музу, которая уже не изменила бы ему с его предшественником. Как и всегда, когда при наделении ценностью исходят из не отрефлексированной аффектации, интонацию, а с ней и смысл, в этом описании легко поменять на противоположные. Основывая понимание литературы на буквальной, генетической очередности, Блум становится заложником линейной схемой, которая порождает слишком уж знакомый набор исторических заблуждений. Самое известное из них — это представление о том идиллическом времени, которое предваряет век тревоги, о той “великой эпохе до Потопа” (Тревога влияния, с. 104), что предшествует моменту, когда “пали тени” (с. 29). Романтизм вновь становится солипсизмом отчужденного от себя “я”, “невероятным сокращением”, которое мы можем назвать “умалением того, чем она [поэзия] является” (Тревога влияния, с. 107). Совсем не составит труда, не меняя посылок, сказать то же самое в другом тоне — заговорить приподнято, а не угрюмо — и заменить тревогу на безмятежную теорию живописного подражания из времен, ещё не знакомых с [Сэмуэлем] Джонсоном.[4]
Так всё и будет, если поверить Блуму на слово и решить, что теория влияния действительно занимает в книге то центральное место, на которое претендует. А так книгу и прочитают, ведь Блум писатель напористый и умеющий убеждать, и потому нас ждут въедливые возражения и восторженные подражания — и обе реакции попадут мимо цели. Чувствуется, что за необязательным психологическим сюжетом скрыто что-то ещё, окольными путями возвращается нечто куда более близкое к вопросам собственно литературным, близкое тому поэтическому “воображению”, которое Блум тщетно попытался определить, пользуясь словарем экзистенциализма. Описывая влияние как хитрящее и злонамеренное искажение традиции, Блум предъявляет нам, пускай и в искаженной форме, значимую проблему. Она становится ощутима в том, например, как по-ухарски подрывается доверие к авторитетности литературного высказывания. Правда, способ, каким это подозрительное отношение задействовано в книге, сам противоречив. Что в ней по-настоящему есть от мистификации — это не довод о бессилии “нового”, но уверенность в силе “старого”. Описание могущественных предшественников, особенно Мильтона, двусмысленно, литература постоянно оказывается распята между избытком и недостачей. Настоящее отличие этой книги Блума от предыдущих в том, что, пока сила, как и прежде, просто бездоказательно утверждается, слабость оказывается впервые систематически задокументирована. Можно не обращать внимание на линейную временну́ю схему и на пафос эдипального сюжета; на самом деле книга обращается к вопросу о сложности или, точнее, невозможности чтения и, неизбежно, о неопределенности литературного смысла. Отвлекшись от психологических уборов, мы увидим, что встреча старого и нового поэтов — это только версия парадигматической встречи читателя и текста и что Блуму тут есть что сказать.
Первое прозрение Блума — оно гласит, что встреча должна состояться и что она перекрывает любые другие события, биографические или исторические, в жизни поэта. Значит это то, что рождается текст из встречи с другими текстами, а не возникает благодаря событиям или окружению (если, конечно, к последним самим не относятся как к текстам). Сказать о литературе, что в основе её — влияние, значит сказать, что она интратекстуальна. Интратекстуальные отношения, в свою очередь, не могут обойтись без интерпретации. Чтобы из встречи что-то вышло, чтобы появился текст, необходимо прочтение, каким бы отрывочным и поверхностным оно ни было (хотя, конечно, оно может быть и очень вдумчивым). Тревога влияния, и это главное её прозрение, категорически заявляет: подобное чтение — это пере-читывание или, как ещё называет это Блум, “недонесение”.[5] На то же, что Блум апеллирует к намерениям, и тем самым старается драматизировать “причины” пере-читываний, внимание можно не обращать; сосредоточиться вместо этого нужно на структурных закономерностях этого недонесения. Читать Блума так — не значит совсем уж идти ему наперекор. В конце концов его книга организована не как панорама эпичной битвы, а как таксономия повторяющихся ошибок чтения; а вот чтобы привлечь внимание к этому аристотелевскому, каталогизирующему аспекту своей работы он уже и использует помпезный и цепляющий язык. Сами описания шести категорий, или “пропорций влияния” (клинамен, тессера, кенозис, даймонизация, аскесис, апофрадес), также очень эмоциональны, так что сложной порой отличить одну структуру [пере-читывания] от другой. Но подо всей это драмой скрыта довольно крепкая лингвистическая модель, описать которую можно в совершенно другом тоне и другим языком.
При описании шести “пропорций” содержательно упор делается прежде всего на временно́й последовательности: полярность силы и слабости (Блум постоянно говорит про “сильных” и “слабых” поэтов) тут соотнесена с полярностью нового и старого, что постоянно сталкиваются лбами. Все усилия более поздних поэтов направлены на то, чтобы, читая, провести ревизию и вывернуть всё наизнанку, так, чтобы новое стало бы синонимом силы, а не слабости. Достигают они этого с помощью игры замещений. “Мы можем иначе направить наши влечения, используя замещение и сублимацию” (Тревога влияния, с. 14), пишет Блум; слова относятся к Вордсворту, но они описывают ту глубинную структуру, что характерна для всех “пропорций” без исключения. Если на уровне содержания ударение делается на очередности, то на уровне структуры основной концепт — это замещение, на него и происходит упор. И как только в дело вступают системы замещений, для природных и психологических моделей места не остается, ведь балом в этой области правит лингвистика: всегда можно заменить одно слово другим, но нельзя по прихоти сменить день на ночь, а уныние — на блаженство. Тем не менее, сама та простота, с которой происходит лингвистическое замещение, или троп, скрывает то, что в деле познания положиться на него нельзя. Что остаётся загадкой, так это то, что, веками скрупулезно описывая и классифицируя риторические фигуры, почти не интересовались той недоброй властью, что они имеют над истинностью или ложностью высказываний. И в чём Блум действительно созвучен Фрейду и Ницше, а таже самим поэтам, так это в не знающем возражений заявлении: замещение — это всегда, поневоле, фальсификация, хотя бы потому, что значение, от которого оно стремится отстраниться, оно почитает за нечто определенное и надежное.
Возвести шесть блумовских “пропорций” назад к тем парадигматическим риторическим фигурам, в которых они укоренены, будет не сложно. Клинамен — это самое базовое из описаний тропа как пере-читывания: драматический нарратив, опирающийся на сюжет про падение Сатаны из Потерянного рая, символизирует универсальность фигуры замещения. Оставшиеся пять “пропорций” описывают более специфические случаи замещения: в случае тессеры речь идёт о тех потенциальных ошибках, что сопровождают замещение целого частью в синекдохе; проницательно было поставить апофрадес как разрешение в конец списка, ведь при нём разрушается сам принцип, по которому строилась вся система: в металептическом развороте он замещает старое новым. Аскесис возвращает нас к кругу проблем, затронутому уже в статье “Усвоение романтических исканий” (Internalization of Quest Romance), в главном тексте из предыдущей книги о романтической традиции. Это и неудивительно, ведь под то же описание — аскесис как игра замещений, что происходит между полюсами “внутри” и “снаружи”, — подходит и особый тип метафоры, который занимает видное место в романтическом стихосложении. Даймонизация особенно интересна, ведь именно тут Блум борется с тенью прежнего себя. Замещение в этом случае оперирует другим набором пространственных антиномий: не “внутри” и “снаружи”, как в аскесисе (метафора), но “высоко” и “низко”, как в гиперболе (сублимация); а гипербола — это тот риторический модус, которому сам Блум отдавал предпочтение в своих работах. Кенозис — это более сложный случай, потому что это единственный вид замещения, при котором [риторическая] фигура используется, чтобы последовательно подрывать притязания, заложенные в другой фигуре; это фигура фигуры: одна из них де-конструирует мир, созданный другой. В отличие от тессеры, кенозис разбивает тотальность на несвязные фрагменты: она замещает непрерывность (повторяемость, если речь идёт о времени) аналогией или сходством (генезисом, если речь идёт о времени) и таким образом обнаруживает, в свою очередь, знакомую оппозицию метафоры и метонимии, причем производя эпистемологический изгиб, которого не встретишь в изложении Якобсона.
Эти описания можно расширять и улучшать — возможностей для этого масса, ведь текст Блума содержит множество многообещающих наработок, литературных и философских, которые располагают к нескончаемым разговорам. Суммировать результаты его работы можно так: Блум ошибается именно так, как это и предсказывает его теория, а это лучшая похвала, которую может ожидать теоретик недонесения. Мне приходится сдерживать себя, хоть это и не легко, чтобы не показать, как это работает в случае с мыслителями и поэтами, которых выбирает сам Блум, например, с Вордсвортом и Ницше.
Чего мы достигнем, переложив работу, написанную субъектно-ориентированным языком желания и намерения, с помощью более лингвистической терминологии? Если мы согласны, что термин “влияние” — сам по себе метафора, которая должна драматизировать лингвистическую структуру, сделав из неё диахронический нарратив, из этого следует, что блумовские категории пере-читывания срабатывают не только, когда мы имеем дело с авторами, но и с разными текстами одного автора или, внутри одного текста, с разными его частями, главами, параграфами, предложениями и, наконец, когда речь идёт об игре буквального и фигурального значений в одном слове или грамматическом знаке. Уже не столь очевидно, стоит ли, находясь на этом уровне, всё ещё называть эту форму семантического напряжения “влиянием”, но отбрасывать возможность этого не стоит. Другие возможные выводы из такого взгляда на вещи ещё более важны. Сделанный нами крюк через риторику на кое-что открывает глаза: традиционная модель, из-под воздействия которой Тревога влияния всё ещё не вышла, гласит, что язык — это инструмент, отданный на милость экстралингвистическим импульсам, исходящим из субъекта; на её место может прийти другая, столь же осмысленная модель, которая заявляет: аффект, производимый текстом, с тем же успехом может быть результатом устройства лингвистической структуры. Продемонстрировав, что такое выворачивание отношений знака к смыслу, где последнему как правило отдаётся приоритет, вообще возможно, мы не просто пускаем вспять отношения причинности и показываем, что смысл сконцентрирован в лингвистических отношениях, а не происходит из субъекта. Нет, под вопрос ставится сама модель, основанная на таких понятиях как причина, эффект, центр и смысл. Ставя такие вопросы, книга Блума совершает ещё больший подрыв традиции, превосходя собственные же притязания.
Я не хочу сказать, что блумовская критика выиграет, если станет использовать лингвистический, а не психологический вокабулярий. Мы все от этого только потеряем. Риторика и её терминология способны де-конструируировать тематические модусы дискурса, но собственной утвердительной силы у них нет. Эта утвердительная сила (если всё ещё стоит её так называть) — она зарождается в игре разнообразных видов ошибок, из которых литературный текст и состоит. То же самое можно сказать и про Тревогу влияния: самое интересное в ней — это не теория литературного влияния, которую она вмещает, но структурная игра между шестью видами пере-читывания, шестью “запутанными уклонениями”, что управляют взаимоотношениями между текстами. Нить присущего ему дискурса завела Блума далеко в его же собственном лабиринте. Вполне вероятно, обернется так, что в своём понимании закономерностей пере-читывания, в своём понимании романтизма Гарольд Блум всё это время был далеко впереди всех нас.
[1] Все примечания сделаны переводчиком. Перевод цитат и выражений даётся по изданию 1998 года (пер. С. А. Никитин). В некоторых местах, как здесь, перевод изменен.
[2] Изначально Тармас — это персонаж из мифологии Уильяма Блейка, один из так называемых Зоа, которые появились после смерти богочеловека Альбиона. У Блума, который включал в свою теорию фрейдовские (скорее, конечно, юнгианские) термины, он становится символом бессознательного, понятого как необузданная сила, с которым романтический поэт ищет встречи; потому у каждого поэта — свой Тармас. Вот что Блум пишет на предыдущей странице: “Сколько бы по-разному главные романтические поэты ни относились к религии, всех их (кроме Кольриджа) объединяло одно: слияния они искали исключительно с тем, что можно назвать их Тармасом или бессознательным (id component); Тармас — это Зоа или Великая Форма в мифологии Блейка, он — не знающий оскудения потенциал человека к реализации своих инстинктивных желаний, и потому он — регент при Невинности. Тармас — это образ пастыря, эквивалентом ему у Вордсворта будет ряд видений, ряд фигур, явившихся на фоне неба, те настоящие пастухи, которых Вордсворт видел, когда был ещё мальчишкой” (The Ringers in the Tower, p. 26).
[3] Для де Мана не существует выражения за пределами риторических фигур, потому и “буквальное” — это ещё один извод риторического, из-за чего и диалектика слепоты и прозрения, как и на предыдущем этапе, всё ещё в силе: там, где Блум настаивает на “взаимоотношении субъектов”, уже вовсю работают машины риторики.
[4] Отрывок из Блума, на который ссылается де Ман, говоря о Джонсоне: “А доктор Сэмуэль Джонсон, более стойкий человек с классическими предпочтениями, тем не менее создает сложную критическую матрицу, в которой понятия праздности, одиночества, оригинальности, подражания и изобретения смешаны самым странным образом Джонсон рявкает: ‘Случай Тантала в сфере поэтического наказания вызывает жалость, потому что плоды, висящие над ним, ускользали из его рук; но на какое сочувствие могут рассчитывать те, кто, страдая от мук Тантала, никогда не подымут руки, чтобы облегчить свое положение? ’ Мы вздрагиваем от рыка Джонсона, вздрагиваем еще сильнее потому, что он подразумевает и себя, ведь он как поэт тоже был Танталом, жертвой Осеняющего Херувима. В этом отношении только Шекспир и Мильтон избегли розги Джонсона, даже Вергилий был обвинен в том, что он всего лишь обыкновенный подражатель Гомеру. Ибо в лице Джонсона, величайшего английского критика, мы также имеем величайшего диагноста поэтического влияния” (Тревога влияния, с. 29-30).
[5] Я сохранил перевод “misprision” как недонесения, а вот “перечитывание”, которое в оригинале на самом деле “misreading”, немного модифицировал. С. А. Никитин в послесловии справедливо указывает, что “неверное прочтение” — это неподходящий перевод, ведь дело тут идёт скорее о пристрастности, а не о недостатке знания; впрочем, почему было выбрано именно “перечитывание”, Никитин не пояснил (про “misprision” он говорит куда обстоятельней), и это имело последствия. Теперь, ретроактивно, после издания блумовского Западного канона, в “перечитывании” актуализировалось значение повторения, возвращения к “золотому фонду” (предсказать, что так произойдет, было, наверное, не сложно). Потому я и решил отделить приставку (сам Никитин делает это один раз за текст) — чтобы показать, что слово-то ближе к “вчитыванию” и что “пере-“ тут то же, что и в перелете, переборе и прочем подобном. Теперь, надеюсь, проще заметить, почему ещё Блум был интересен де Ману — ведь блумовское “misreading” к де мановским “аллегориям чтения” по-своему близко.
