Беседа об Анти-Эдипе
Предлагаю вашему вниманию перевод беседы, состоявшейся между Жилем Делёзом, Феликсом Гваттари и Катрин Баке-Клема, первоначально опубликованной в сорок девятом выпуске журнала L’Arc в 1972 году, а затем ставшей частью сборника “Pourparlers”(Editions de Minuit). Текст будет полезен тем, кто не хочет следовать совету Делёза не перечитывать Анти-Эдипа, и намерен прояснить для себя основные тезисы этой непростой книги: ваш параноик будет чрезвычайно рад тому факту, что здесь они представлены в сжатом виде и складываются в мираж несуществующего единства. А какой параноик хотя бы раз не мечтал взобраться на вершину пирамиды, чтобы обозреть ее целиком, вместо того чтобы спотыкаться и поминутно проваливаться в разломы у её подножия?
Выражаю благодарность Анастасии Навроки-Глаголеф за помощь в подготовке текста.
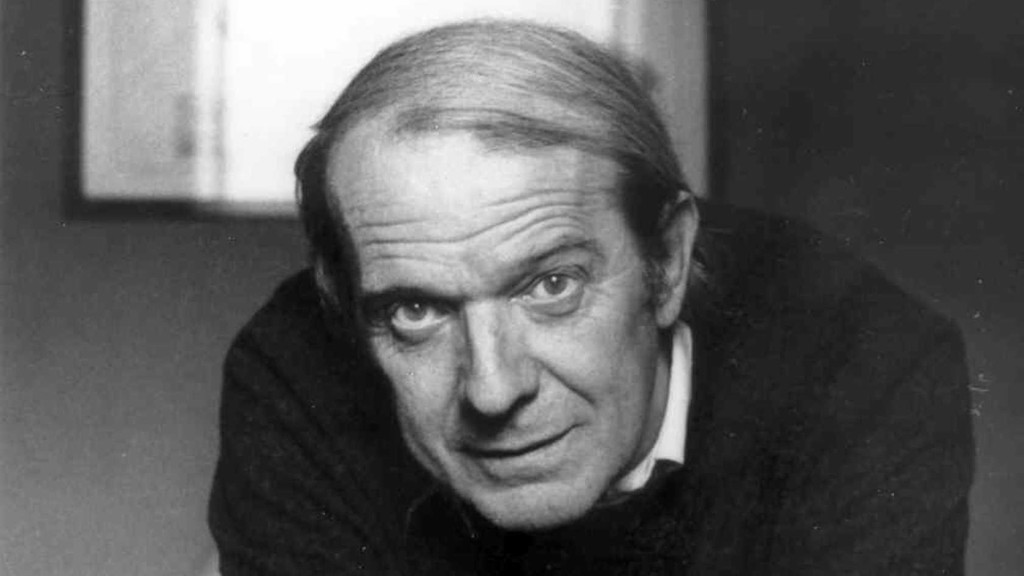

Один из вас психоаналитик, другой — философ; ваша книга — это попытка пересмотреть как психоанализ, так и философию, и к тому же вы вводите еще третье — шизоанализ. Каково общее место этой книги? Каков замысел предприятия, и какие трансформации оно претерпело с точки зрения каждого из вас?
Жиль Делёз: Тут в пору говорить как маленькая девочка, в условном наклонении: мы, вроде бы, повстречались, вроде бы, случилось одно, другое… Я познакомился с Феликсом два с половиной года назад. Тогда ему казалось, будто я впереди, а он все еще чего-то ждёт. Дело в том, что я был свободен как от обязательств психоаналитика, так и от угрызений совести и зависимостей пациента. Я не был привязан к
И вот мы с Феликсом решили работать сообща. Сначала переписывались. А потом временами устраивали сеансы, на которых выслушивали друг друга. Иногда было очень весело. Иногда было очень скучно. Вечно кто-нибудь из нас двоих говорил слишком много. Часто случалось так, что кто-нибудь предложит понятие, которое другому покажется непримечательным, и только спустя несколько месяцев он вдруг находил ему применение в
Феликс Гваттари: Ну, у
Надо сказать, что вот эти четыре места, эти четыре типа дискурса, это ведь были не просто места или дискурсы, потому что я жил четырьмя жизнями, и, очевидно, они были слабо связаны между собой. Май 68 стал настоящим потрясением для нас с Жилем, как и для многих других: тогда мы друг друга не знали, но вот эта теперешняя книга стала отголоском тех майских событий. Мне же хотелось не то чтобы стереть различия между моими четырьмя жизнями, а скорее увязать их друг с другом. У меня были ориентиры, например, необходимость толковать невроз с точки зрения шизофрении. Но мне не хватало логики, пользуясь которой можно было бы их связать. Я опубликовал в Исследованиях текст под названием «От знака к знаку» [D’un signe à l’autre] еще под сильным влиянием Лакана, но в котором уже не было означающего. Но я все еще был скован своего рода диалектикой. А то, что я ждал от Жиля, это были вещи типа: тело без органов, множественности, возможность логики множественностей с привязкой к телу без органов. В нашей книге логические операции являются одновременно физическими операциями. А то, чего искали мы оба, так это дискурса одновременно политического и психиатрического, однако без сведения одного к другому.
Вы намеренно противопоставляете шизоаналитическое бессознательное, состоящее из желающих машин, и психоаналитическое бессознательное, которое становится предметом вашей всесторонней критики. Вы все соизмеряете с шизофренией. Но можете ли вы всерьез утверждать, что Фрейд не догадывался об этой сфере машин или по крайней мере аппаратов? И что он не разбирался в психозах?
Ф.Г.: Это сложный вопрос. В определенном смысле Фрейд прекрасно понимал, что клинический материал, на который он опирался, сама клиническая база была на самом деле сформирована психозом, что он её унаследовал от Блейлера и Юнга. И так происходило постоянно: все новое, что появлялось в психоанализе — от Мелани Кляйн до Лакана — приходило благодаря изучению психозов. С другой стороны, возьмите дело Тауска: возможно, Фрейд опасался сопоставлений [confrontation] между аналитическими понятиями и психозом. В комментарии на Шребера можно отыскать множество двусмысленностей на любой вкус. Да и самих шизиков Фрейд, похоже, совсем не любил, он говорит про них ужасные вещи, совершенно противные. Тем не менее вы правы, утверждая, что желающие машины Фрейду были известны. Можно даже сказать, что желание и машины желания — это открытие, принадлежащее психоанализу. В психоанализе все беспрестанно жужжит, гремит, скрипит, что-то без конца производится. И психоаналитики постоянно приводят в действие машины, запускают их
Это вы и имеете ввиду, когда говорите об идеалистическом повороте в психоанализе по вине Эдипа и когда вы противопоставляете идеализму новый материализм в психиатрии? Как вы понимаете разницу между материализмом и идеализмом в области психиатрии?
Ж.Д.: Мы критикуем не
Материалистическая же психиатрия, напротив, вводит производство в желание, и наоборот, желание — в производство. Бредят вовсе ни о папе, ни даже об имени Отца, а об именах истории. Бред, словно неминуемая близость и угрожающее присутствие желающих машин, встроенных в большие социальные машины. Он является инвестированием социально-исторического поля со стороны желающих машин. Психоанализ понял в психозе только ту «паранойяльную» линию, которая ведёт к Эдипу, кастрации и т.д., ко всем этим репрессивным аппаратам, впрыснутым в бессознательное. Но глубинное шизофреническое основание бреда, «шизофреническая» линия, которой чужды семейные образы, ускользает от него полностью. Как заметил Фуко, психоанализ оказался глух к голосам неразумия [déraison]. В действительности, он все подвергает невротизации, а поэтому не только производит невроз, требующий бесконечного лечения, но также воспроизводит психотика как того, кто противится эдипизации. Но он совершенно не способен подходить к шизофрении напрямую. И равным образом он промахивается всякий раз, когда речь заходит о бессознательной природе сексуальности, и именно в силу своего идеализма, семейного и театрального идеализма.
Ваша книга касается не только психиатрии и психоанализа, но затрагивает и вопросы политики, экономики. Как соединяются, по-вашему, обе эти стороны? Можно ли сказать, что в некотором смысле вы продолжаете дело Райха? Вы упоминаете инвестирование фашистского типа как на уровне желания, так и на уровне общества. И в таком случае мы очевидно соотносим политику и психоанализ. Однако, остается не совсем ясно, что именно вы противопоставляете инвестированию фашистского типа? Что может встать на его пути? Вопрос, следовательно, касается не только этой книги в единстве ее замысла, но также выводов практического характера: а они чрезвычайно важны, ведь если инвестированию фашистского типа ничего не противопоставлять, если не сдерживать его никакой силой, если мы удовлетворимся лишь констатацией факта его существования, что в таком случае означает ваша политическая рефлексия и каков ее вклад в изменение реальности?
Ф.Г.: Да, как и многие вокруг, мы обращаем внимание на развитие обобщенных форм фашизма. Мы еще недостаточно осведомлены и не можем утверждать наверняка, что фашизм перестал видоизменяться. Или лучше сказать: либо объявится некая революционная машина, способная взять на себя желание и смежные феномены, либо желание так и останется объектом манипулирования и подавления для репрессивных сил и будет поэтому угрожать революционным машинам изнутри. Что мы стараемся развести, так это два типа инвестирования в социальное поле — предсознательное инвестирование интереса и бессознательное инвестирование желания. Инвестирование интереса может быть действительно революционным и при этом не исключать такое бессознательное инвестирование желания, которое не только не является революционным, но может даже быть фашистским. В определенном смысле можно сказать, что предлагаемый нами шизоанализ в идеале должен иметь точкой своего приложения группы и, в частности, группы активистов, поскольку именно тут мы напрямую сталкиваемся как с
Ж.Д.: Проблему единства этой книги следует ставить иначе. Тут два аспекта: первый — это критика Эдипа и психоанализа; второй — это изучение капитализма и его отношения к шизофрении. Однако первый аспект крепко завязан на втором. Мы критикуем психоанализ по нескольким направлениям, которые касаются как теоретического, так и практического его применений: с его культом Эдипа, со свойственным ему сведением всего к либидо и к семейному типу инвестирования, даже если его проделывают окольными путями и в обобщенной форме как в случае со структурализмом и символизмом. Мы же отличаем либидинальное бессознательное инвестирование от предсознательного инвестирования интересов при том, что оба они равным образом имеют своим объектом социальное поле. Повторю еще раз насчет бреда: нас спрашивают, доводилось ли нам когда-нибудь вообще видеть шизофреников, ну, а мы в таком случае спросим психоаналитиков, доводилось ли им хоть раз прислушиваться [écouter] к бреду. Бредят историей, миром, а вовсе не о семье. Бредят о китайцах, немцах, о Жанне д’Арк, о Монголе Великом, об арийцах и евреях, о деньгах, власти, производстве, но совсем не о
В вашей книге множество отсылок, вы охотно пользуетесь всевозможными текстами, продолжая высказанные в них мысли или переворачивая их с ног на голову; и при всем при этом ваша книга имеет своей почвой отдельно взятую «культуру». Я имею ввиду, вы отводите большую роль этнологии, но не лингвистике; большую роль отдельным английским и американским писателям, но не особенно жалуете современные теории письма. И в частности, почему столь много внимания уделяется критике понятия означающего, и по каким причинам вы отрицает систематических характер их связи [système]?
Ф.Г.: Означающее… от него нет толку. Мы не единственные и не первые, кто так считает. Посмотрите у Фуко или в недавней книге Лиотара. Если наша критика означающего кажется запутанной, так дело в том, что в случае с означающим мы имеем туманную сущность, с помощью которой все сводят к проржавевшей машине письма. Исключающая и строгая оппозиция между означающим и означаемым пропитана империализмом того Означающего, которое возникает одновременно с появлением машины письма. И тогда все по праву сводится к букве. В этом и состоит главный закон деспотического сверх-кодирования. Наша гипотеза такова: это и есть знак великого Деспота (эпоха письменности), который, откатываясь словно волна, оставляет за собой пляж, разъятый на неделимые элементы, состоящие друг с другом в упорядоченных отношениях. Благодаря этой гипотезе мы можем по меньшей мере оценить, насколько тираническим, террористическим, кастрирующим является означающее. Оно невероятный архаизм, который возвращает нас к великим империям прошлого. Мы даже возьмемся утверждать, что это понятие работает применительно к языку. Именно по этой причине мы обратились к Ельмслеву: он уже давно придерживается своего рода спинозизма в языковой теории, когда потоки содержания и выражения обходятся без означающего. Язык как система непрерывных потоков содержания и выражения, срезаемых машинами, которые собраны из дискретных и прерывных элементов. В нашей книге мы не стремились развить концепцию коллективных агентов речи [énonciation], которым удалось бы преодолеть размежевание на субъекта речи и субъекта высказывания [énoncé]. Мы сторонники функционализма в чистом виде: нас интересует главным образом, как нечто работает, функционирует, что это за машина. Однако вопросы об означающем все еще сводятся к вопросу: «Что это значит?». В основе это все тот же вопрос. Но для нас бессознательное ничего не означает — как и язык. Причина, по которой функционализм провалился, состоит в том, что его пытались применять в чуждых ему областях, в сфере больших структурированных множеств, которые именно в силу этого своего характера не могут возникнуть, не могут быть созданы тем же самым способом, которым они функционируют. Зато функционализм — это король в мире микро-множественностей, микро-машин, желающих машин, молекулярных образований. На этом уровне невозможно как-то квалифицировать отдельную машину, например, как лингвистическую машину, ведь в любой машине лингвистические элементы присутствуют наряду с другими. Бессознательное есть микро-бессознательное, оно молекулярно, а шизоанализ — это микроанализ. Единственный вопрос в том, как именно все работает, какие ничего не значащие интенсивности, потоки, процессы, частичные объекты вступают при этом в игру.
Ж.Д.: Все это может быть сказано и о нашей книге. Нужно понять, функционирует ли она, а если да, то как и для кого. Она сама представляет собой машину. Не нужно ее перечитывать, лучше пойти чем-нибудь другим заняться. Нам очень нравилось ее писать. Мы не обращаемся к тем, кто считает, что у психоанализа все в порядке, что он правильно смотрит на бессознательное. Мы обращаемся к тем, кто находит его монотонным, печальным, жужжащим, Эдип, кастрация, влечение к смерти и прочее. Мы обращаемся к бессознательным, которые протестуют. Мы ищем сторонников. Нам нужны союзники. И нам кажется, что наши сторонники уже здесь, что им не нужно было нас дожидаться, что многие люди вокруг уже наелись все этим по горло, что они размышляют и работают над схожими вещами: и это не вопрос моды, а скорее более значительного «духа времени», когда схожие исследования происходят в совершенно разных областях. Например, в этнологии. В психиатрии. Или вот то, чем занимается Фуко: у нас разные методы, но такое чувство, что мы сходимся по множеству пунктов, которые кажутся нам существенными, которые изначально были намечены им. Поэтому, да, правда, мы много читали. Но, знаете, так… несколько наобум. Наша проблема это не возврат к Фрейду или Марксу. И не теория чтения. В отдельно взятой книге мы ищем то, чему удается избежать кодов: потоки, активные и революционные линии бегства, линии абсолютного раскодирования, которые противопоставлены культуре. Даже с книгами бывают эдиповы структуры, эдиповы коды и лигатуры, тем более коварные, что здесь они принимают абстрактную и фигуративную форму. Английские и американские писатели обладают талантом, который редко найдешь у французов: интенсивности, потоки, книги-машины, книги-для-употребления [livres-usages], шизокниги. У нас только Арто да половина Бекетта. Возможно, нашу книгу упрекнут в излишней литературности, но мы уверены, что эти упреки будут от профессоров филологии. Разве мы виноваты в том, что Лоуренс, Миллер, Керуак, Берроуз, Арто или Бекетт знают о шизофрении гораздо больше, чем психиатры и психоаналитики?
Не опасаетесь ли вы вызвать более серьезный упрек? Что шизоанализ, который вы предлагаете, на самом деле противоположность любому анализу? Вам могут поставить на вид, что вы безответственно превозносите шизофрению, романтизируя её. И даже что вы склонны смешивать революционера и шизофреника. Что могли бы возразить на это?
Ж.Д. и Ф.Г.: Да, надо признать: школа шизофрении звучит неплохо. Высвободить потоки, зайти как можно дальше в искусственном: шизик есть некто раскодированный, детерриториализованный. Этим сказано: невозможно нести ответственность за искажение смысла другими. Всегда найдутся люди, которые будут искажать смысл намеренно (вспомните нападки на Лэнга и антипсихиатрию). Недавно в Обозревателе [L’Observateur] вышла статья одного психиатра, в которой он заявляет: я очень смелый, я отвергаю современные течения как в психиатрии, так и в антипсихиатрии. Ничего подобного. Он попросту выбрал удобный момент, когда политическая реакция против любых попыток что-нибудь изменить усилилась как в психиатрической больнице, так и в фармацевтической индустрии. За любыми разночтениями всегда лежит какая-нибудь политика. Мы задаем простой вопрос, похожий на тот, который задавал Берроуз, касаясь наркотиков: можно ли добиться силы, которую дают наркотики, не превращаясь при этом в жалкого торчка. То же самое и с шизофренией. Мы не смешиваем шизофрению как процесс и как производство шизофреника в качестве предназначенной для больницы клинической единицы: эти вещи скорее противоположны друг другу. Шизик из лечебницы — это тот, кто к
*Прим. пер.: В русском языке есть слово схизма, которое имеет тот же греческий корень, что и шизофрения, σχίσμα от σχίζω, однако является узкоспециальным и входит в религиоведческий лексикон. Учитывая, что во французском языке также есть однокоренной термин, обозначающий церковный раскол (schisme), но Делёз и Гваттари им не пользуются, а также тот факт, что языку Делёза и Гваттари не чужды стилистически сниженные обороты, мы за не имением лучшего переводим его как шиза. В любом случае, смысл термина сильно привязан к значению исходного греческого корня: «расщеплять, раскалывать, разделять». Если у вас есть соображения касательно перевода этого термина, пожалуйста, дайте знать в комментариях к этому переводу.
