Виктор Мазин о книге Ренаты Салецл «О страхе»
Там, где психоанализ встречается с юриспруденцией

Читателю, думаю, хорошо известно, что Рената Салецл с начала 1980-х годов является одной из самых активных участниц Люблянской школы психоанализа, сводящей лакановский психоанализ с философским наследием немецкого классического идеализма и критической теорией. Разумеется, у каждого представителя Люблянской школы психоанализа свой интерес. У Ренаты Салецл — это сочетание психоанализа с социологией, критической теорией и юриспруденцией. С 1986 года она работает научным сотрудником на Факультете права в Институте криминологии Любляны, кроме того преподает в Лондонской школе экономики и Колледже Бирбек, читает лекционные курсы в самых разных университетах Европы и Америки — от Гумбольдта до Джорджа Вашингтона.
Для того, кто знаком с психоанализом, сочетание его с юрисдикцией не кажется удивительным, поскольку одно из принципиальных понятий психоанализа, желание, осмысляется через главное юридическое означающее, закон. Закон — оборотная сторона желания, или, точнее, желание — оборотная сторона закона. Желание становится таковым задним числом, после принятия, то есть вытеснения Закона. Для Лакана, желание и закон обеспечивают бытие субъекта в символической матрице. Здесь, по эту сторону от реального, «желание и закон — это одно и то же». Таким тождеством Жак Лакан вслед за апостолом Павлом подчеркивает структурное родство и диалектическую неразрывность этих понятий. Предписывая вектор желания, Закон формулирует субъект, задает структуру его психики. Закон можно принять, его оттеснить, а можно отбросить или отклонить. Именно в отношении Закона Лакан прописывает каузальные структуры психики — невроз в результате принятия, психоз — отбрасывания, перверсия — отклонения.
Желание и закон — область теоретической работы Ренаты Салецл. Отношения закона и желания историчны, изменчивы. Можно сказать, последние двадцать лет Рената занимается критическими исследованиями трансформаций права. Само понятие права оказывается принципиально важным для психоанализа в связи с лакановской этикой реального. Лакан разводит в стороны понятий права и долга, того, что полезно, и того, что приносит наслаждение. Суть права, говорит он, — «размежевывать, распределять, возмещать все то, что так или иначе связано с наслаждением», то есть с тем, что в своей императивности предписано инстанцией сверх-я. Требованием наслаждения как раз и помечен сегодняшний неолиберальный дискурс. Право оказывается, с одной стороны, связано с желанием, а, с другой, — с наслаждением. Да и власть — тоже, «ибо власть, которую дает знание, всегда обращена в сторону наслаждения».

Критические исследования права, сводящие юриспруденцию с психоанализом, начались для Ренаты Салецл еще во время учебы в Университете Любляны. Её дипломная работа была посвящена теории власти Фуко. Две первые книги Салецл прямо обращены к аналитике Лакана и к биополитике Фуко: «Дисциплина как условие свободы» (1991) и «Почему мы любим власть? Контроль, идеология и идеологические фантазмы» (1993). Третья книга Ренаты Салецл оказывается местом встречи психоанализа и феминизма на распавшейся территории Югославии: «Останки свободы: психоанализ и феминизм после падения социализма» (1994). Четвертая книга хорошо известна русскоязычному читателю — «(Из) вращения любви и ненависти» (1998). Теперь по-русски выходят две следующие книги «О страхе» (2004) и «Тирания выбора» (2010). Книги Ренаты Салецл получили признание не только в психоаналитической и не только в академической среде. В 2010 году крупнейшая словенская ежедневная газета «Дело» назвала Ренату Салецл сначала «Женщиной-ученым года», а затем и «Человеком года».
Страх и тревога
В связи с переводом книги «О страхе» на русский язык необходимо сказать несколько слов о «страхе» и «тревоге». В текстах Фрейда Angst является одним из узловых понятий, и на русский оно традиционно переводится как страх. В книге «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд различает страх [Angst], испуг [Schreck] и боязнь [Furcht]. Испуг возникает, когда человек неожиданно сталкивается с вдруг выросшей перед ним опасностью. Испуг — столкновение с тем, к чему субъект не готов. Страх предполагает ожидание опасности, внутреннее состояние готовности к тому, что может случиться нечто страшное. Объект страха при этом как таковой не явлен. Боязнь или, иначе, фобия, знает свой объект, но объект этот — смещенный, замещающий другой объект, как это было, например, с лошадьми, которых боялся Маленький Ганс. Помимо испуга, страха, боязни, Фрейд говорит еще об особой разновидности страшного — о чувстве жуткого [unheimlich]. Как видим, отдельно о том, что можно было бы перевести как «тревогу», у Фрейда речи нет. В «Словаре по психоанализу» Ж.Лапланша и Ж.-Б.Понталиса в переводе с французского Н.С. Автономовой — angoisse [Angst] переводится как страх, а Angstneurose как невроз страха.
Так откуда же тревога, если у Фрейда её нет?
Похоже, тревога появилась вместо страха в результате действия переводческого испорченного телефона: Angst легко переводится на французский и английский язык как этимологически родственные ему angoisse и anxiety, а вот при переводе английского anxiety на русский как раз и появляется тревога. Здесь отвлечемся на миг, поскольку, на наш взгляд, трансформация языка психоанализа происходит вместе с общими изменениями господствующего дискурса и роли в нем английского языка. Психоаналитический дискурс оказывается под мощным давлением дискурса капиталистического. Достаточно упомянуть, что в России анализанта чаще всего называют, как и в американских психотерапиях, «клиентом», что речь то и дело заходит об «эффективности лечения», о «пользе» и «выгоде», о «благе»… Для объяснение этой «странности» достаточно задаться «библиографическим» вопросом: сколько книг переведено с английского языка и сколько со всех остальных. Более того, при переводе американской психотерапевтической и психологической литературы на русскоязычной обложке неожиданно возникает слово «психоанализ».
Итак, одна из причин лежит в поле общей переориентации дискурса на капиталистический, рыночный, компьютерный, позитивистский, психологический. Собственно говоря, это не только сдвиг в России или в русском языке, но сдвиг глобалитарный, происходящий, в частности, в психологии и психиатрии. За несколько последних десятилетий сама психиатрия сменила свой научный язык с немецкого на американский. В этой связи и в связи с агрессивным давлением фармакологической индустрии, возникает комический эффект различения страха и тревоги: тревога — в отличие от страха — якобы подвергается медикаментозному лечению.
Парадокс в целом заключен в том, что появляясь в русскоязычных переводах, тревога обнаруживается то вместе со страхом, то вместо страха. Демонтаж страха в русском языке происходит неспешно. Так, название тома «Учебного издания» трудов З.Фрейда Hysterie und Angst А.М. Боковиков переводит традиционно как «Истерия и страх», а вот название работы Hemmung, Symptom und Angst в этом же самом томе уже как «Торможение, симптом и тревога», да и три понятия из «По ту сторону принципа удовольствия», Schreck, Angst, Furcht, звучат теперь как «испуг», «тревога», «боязнь». Так Angst претерпевает раздвоение под одной обложкой!
В итоге, вместо одного психоаналитического Angst в русском языке отныне мы имеем страх и тревогу. Если смириться с тем, что место страха в XXI веке заняла тревога, то необходимо ломать всю устоявшуюся идиоматику. Так, нужно говорить о кастрационной тревоге вместо кастрационного страха, о тревоге смерти вместо страха смерти, в связи с чтением «Тревоги» Лакана вспоминать о Кьеркегоре с его «Тревогой и трепетом» после ста пятидесяти лет «Страха и трепета».
Путаница между страхом и тревогой усиливается при чтении книг разных психоаналитиков. Если у «русского Фрейда» за редким исключением мы всегда имеем дело со страхом, то у «русского Лакана» практически уже всегда с тревогой. Так, Х семинар Лакана, L’angoisse, в 2010 году по-русски обрел название «Тревога». Примечательно, что том «Проблематики» Жана Лапланша c точно таким же названием, что и Х семинар Жака Лакана, L’Angoisse, по-русски выходит в свет в 2011 году как «Страх». Вот так, практически в одно время на свет появляются две книги, которые во французском оригинале называются одинаково, а
Логично, что некоторые психоаналитические школы в своей версии Лакана по-русски повсеместно заменяют страх тревогой, особенно если они больше ориентируются на сегодняшнюю капиталистическую культуру, чем на переводы Фрейда на русский язык. Путаница при этом нарастает, когда страх не исчезает, будучи вытесненным тревогой, а смещается, замещая боязнь. Тревога в этих лакановских школах — то, что традиционно в русском языке переводилось как страх [Angst, angoisse], а страх — то, что было боязнью [Furcht, peur]. Основывается ли такого рода перестройка русского психоаналитического языка на незнании предшествующей традиции, на знании и отказе от нее как революционном жесте утверждения нового начала психоанализа, — кажется, не так уж и важно.
Фрейд различает страх и боязнь в зависимости от явленности или нет объекта: «страх, соответствующий вытесненному эротическому влечению, как и всякий детский страх, не имеет объекта; это еще страх [Angst], а не боязнь [Furcht]». Боязнь с ее известным сознанию объектом оказывается защитой от всепоглощающего страха. Так что можно сказать, лошадь спасает от страха Маленького Ганса, «фобия — форпост, защита от страха». Лошадь появляется вслед за страхом, после того, как он возник. Защищая от страха, фобия производит ни больше, ни меньше как «первое символическое структурирование реальности». Опять же словами Лакана, «лошади выезжают из страха, но несут с собой боязнь. Боязнь касается всегда чего-то артикулируемого, называемого, реального — эти лошади могут укусить, они могут упасть». Так, различие между страхом и боязнью оказывается структурным, но не оппозиционным. Лакан выступает «против психологизирующей традиции, которая проводит различие между боязнью [la peur] и тревогой [l’angoisse]». Боязнь как будто разворачивает страх на себя, захватывая по пути объект. Откуда и появляется одна из принципиальных формул Лакана, которую можно озвучить так: если фобия это объективированный страх, то сам страх — не без объекта. Страх не лишен объекта, только объект этот — не тот, что возможно узнать, распознать и признать.
Страх, другой, большой и меленький
Вслед за Фрейдом, который утверждает, что «страх соответствует вытесненному желанию», Лакан связывает страх с желанием и уточняет: желание это — желание Другого. Неудивительно, что у Ренаты Салецл в книге о страхе то и дело на сцену выходит Другой. Большой Другой — «место» субъективации. Другой с большой Буквы — структурирующий бессознательное символический Отец-Законодатель. Другой субъекта — «налицо как бессознательное». Дом человека в Другом, по ту сторону смоделировавшегося по образу и подобию другого образа собственного я. Здесь, в этом Доме Бытия, в этом Heim и возможно дуновение Unheimliche. Здесь, в этом доме с привидениями, обитает страх, здесь поджидают желание и закон.
Со страхом субъекту позволяет справиться формулирующая желание фантазия. Именно она служит защитным экраном, ограждающим от наплыва страха реального. Фантазия как сценарий, в который вписаны бессознательные желания, невозможна без участия Большого Другого и маленьких других. Причем, Большой Другой всегда уже пребывает в диалектических отношениях с другими воображаемыми, теми, которые конституируются на стадии зеркала.
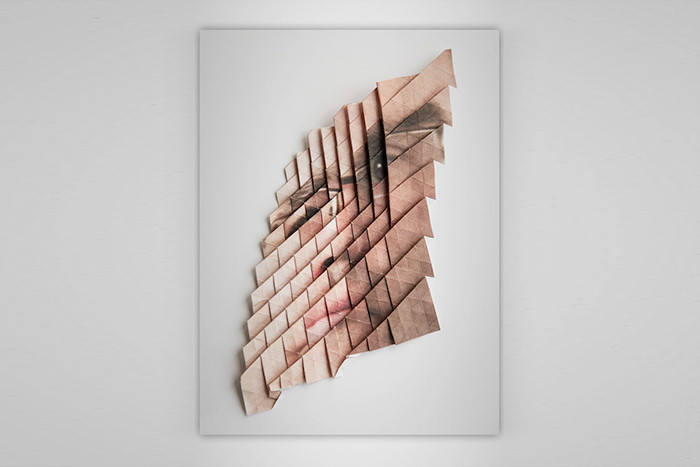
Поскольку речь идет о желании Другого, то желание субъекта — желание понять che vuoi, чего ты от меня хочешь? В этом транссубъектном пространстве психической реальности кроется парадокс: желание Другого и есть желание субъекта. Другой в таком контексте есть не что иное, как сеть означающих, в которой производится субъективация. В этой сети и разыгрываются отношения субъекта и Другого, разворачивается диалектика страха и желания, страха и объекта причины желания. Одно из значений формулы «желание есть всегда желание Другого» предполагает, что субъект задается вопросом, «какого рода объектом является он для другого». Если страх и вызывается, в конце концов, объектом, то объект этот — некий неопределимый объект а, ведь именно «объект, а и желает».
Если для Фрейда страх — это страх утраты объекта, то для Лакана — утраты самой утраты. Если Фрейд в 1926 году указывает на возможную череду возникающих задним числом утрат — утробы, матери, груди, пениса, объекта любви, любви сверх-я, то для Лакана, страх сигнализирует не об утрате, а об утрате той опоры бытия, которую задает конститутивная утрата. Иначе говоря, утрата утраты, нехватка нехватки, — вот что порождает страх. Потому Лакан и говорит, что самую «сильную тревогу ребенок испытывает тогда, когда отношения, на которых выстроено его бытие — нехватка, делающая его воплощенным желанием — нарушаются. А нарушаются они тогда, когда мать от него не отходит, когда возможность для нехватки отсутствует». Иначе говоря, когда в месте нехватки возникает объект, обретающий свойство жуткого, когда в результате «затора» не достает нехватки, тогда и становится страшно.
Министерство страха
Согласно психоаналитической логике, нет никакого страха без инстанции «я». Неудивительно, что инстанцию эту Фрейд называет подлинным очагом страха. Инстанция я — посредническое агентство между внешним миром, оно и
Неудивительно, что с приходом современности государство оказывается неразрывно связано со страхом: «С самого момента своего появления современное государство столкнулось с пугающей задачей менеджмента страха». Сама задача управления страхом порождает страх. И в этом порочном круге вновь встречаются страх и закон. Здесь вновь сходятся психоанализ и юрисдикция, ведь страх это — «основополагающий аффект закона», «основополагающая политическая страсть», и даже «страсть жизни». Вслед за Гоббсом с его чудовищным Левиафаном Деррида приходит к мысли, что государство — это протез субъекта, «который питается страхом и правит страхом». Государство призвано субъекта защищать, однако, в соответствие с логикой Фрейда, то, что защищает, то и порабощает: «“Я тебя защищаю” для государства означает: я тебя обязую, подчиняю, ты — мой подданный. Быть субъектом своего страха и быть субъектом закона или государства, обязанным подчиняться государству, как подчиняются собственному страху, — в сущности, одно и то же».
Страх толкает на преступление, подстегивает к подчинению, подталкивает к мерам против страха. Когда принимаются защитные меры против страха, то страх становится ощутимым и обоснованным. Так страх и защита от страха образуют замкнутый круг, и меры безопасности от страха лишь усиливают страх. Так порождающая страх защита от страха устанавливается государством под эгидой всеобщей безопасности. Так, возникает мысль: нужно не бороться со страхом, не защиту от него устанавливать, а просто от него избавляться. Избавиться от него раз и навсегда! Человек без страха — такова одна из задач human engineering’а. Причем, речь не идет о создании чисто рационального Альфавилля, в котором проявление всех чувств под запретом, а о производстве бесстрашного индивида, у которого сохранились бы все остальные аффекты. Вопрос такого производства заключается в первую очередь в том, будет ли бесстрашный человек по-прежнему человеком. Человек ли тот, у кого нет страха? Для Гоббса — точно нет, ведь для него, человек без страха — вообще не человек, ибо страх определяется как неотъемлемая черта человеческого. Для Кьеркегора, Фрейда, Лакана и Салецл, разумеется, страх — непреложное условие человеческого существования, «аффект субъекта». Сама возможность испытывать все чувства, кроме страха, кажется подозрительной, ведь аффект, с психоаналитической точки зрения, обретает свою окраску в зависимости от объекта, скрытого, вытесненного объекта в том числе. Отсутствие страха предполагает непредставимую структуру психики. Более того, согласно психоаналитической логике, один аффект то и дело превращается в другой, и если нет страха, то откуда взяться вине? Если нет страха, то откуда гнев и ярость, любовь и ненависть, ведь именно страх Фрейд называет разменной монетой всех аффектов, а Лакан — единственным аффектом, который не лжет: страх — «то, что не обманывает».
Страх и желание сопряжены с выбором. Во-первых, выбор предполагает вопрос, чего я хочу на самом деле. Во-вторых, выбор предполагает потерю того, чему в выборе отказано. Сама мысль о неправильно сделанном выборе, пугает. Страшно выбрать не то. Впрочем, выбор всегда уже производится задним числом, и только в последействии он объявляется правильным или нет. Младен Долар предлагает считать выбор «ретроактивной категорией», поскольку он всегда уже сделан, ибо совершается он «всегда в прошедшем времени», причем, в той особенной форме прошедшего, «которое никогда не было настоящим».
Выбор, между тем, предполагает соучастие в нем других и Другого. Мы выбираем то, что выбирают другие, ведь желание — желание другого, желание — желание Другого, причем, в самых разных обертонах этой формулы. Как здесь не возникнуть страху, когда на кону желание, признание которого становится условием признания существования? Если выбор делается не в соответствии с моим желанием, то кто за меня его совершает? Существую ли я, если мое желание остается неучтенным? И что скажет о моем выборе Другой?
Выбирай, кем хочешь быть! Если раньше такой призыв относился в первую очередь к профессии, то в сегодняшнем неолиберальном дискурсе, это затрагивает и вопрос идентичности. Впрочем, дело теперь не только в том, что дискурс задает как бы режим свободного выбора идентичности, но и в том, что нет больше того Другого, который узаконил бы этот выбор. Человек остается со своим выбором один на один. Он ожидает от Другого реакции, но в ответ — тишина, и давление этой тишины наполняет страхом и трепетом. Субъект брошен на произвол судьбы, которая уже не имеет ничего общего с Судьбой древнегреческой трагедии. Если с моей жизнью что-то не так, то вина за совершенный не тот выбор ложится целиком и полностью на меня. От погружения в депрессию здесь может спасти паранойя, атакующая бесконечно удваивающимся числом других.
Индустриализация аффекта и производственное объединение «Фобос»
С развитием масс-медиа, с появлением радио, а уж тем более телевидения и интернета, возникли условия для масс-медиатизации и индустриализации представлений. Именно массовая культура стала головным агентством производства капиталистической субъективности, агентством, исправно работающим над созданием желаний, грез, фантазий, снов. Феликс Гваттари в своем детальном анализе субъективации при капитализме постоянно подчеркивает: субъективность носит индустриальный, машинный характер; и на ее производстве держится капиталистическая машинерия, поскольку субъективность — «сырьё для любого производства».
В своем эссе «Индустриализация разума» Ганс Магнус Энценсбергер пишет, что именно индустриализация души привела к вопросу о том, как эта самая душа устроена. Можно сказать, индустриализация души ее же и конституирует. Таков закон фармакона. Согласно логике фармакона, индустриализация души учреждает режим современности. Помимо Ренессанса с его пространственным центрированием субъекта, помимо Декарта с его центрацией мыслящего ego, принципиально важна промышленная революция, возвращающая субъекту индустриализации мысль о себе как о субъекте. Своим рождением субъект, по крайней мере, отчасти обязан индустриализации себя. Процесс этот становится решающим в ХХ веке.
Индустриализация представлений не стоит на месте. Если совсем недавно можно было говорить о промышленном производстве памяти, то сегодня о захвате внимания-сознания. Если раньше память производилась на
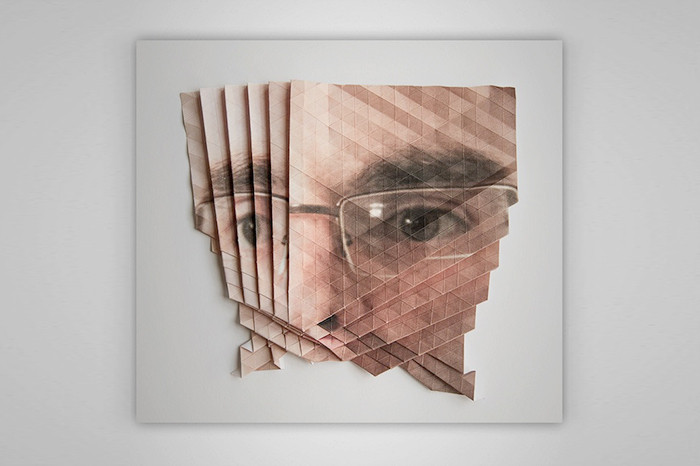
В связи с разговором о страхе и выборе принципиально важным оказывается происходящее в последние годы смещение от индустриализации души к индустриализации аффекта. Индустриализация души — процесс, начавшийся во второй половине XIX века вместе с промышленной революцией и набравший ход во второй половине XX века по мере развития средств массовой информации. Начало XXI века отмечено новым режимом — «синхронизацией эмоций, обеспечивающей переход от демократии мнений к демократии эмоций».
Отметим и то, что сдвиг от психического регистра к эмоциональному одновременно оборачивается и приближением к влечениям с возможностью их эксплуатации. Несколько упрощенно можно было бы сказать: если до середины ХХ века господствовал производственный капитализм с эксплуатацией желаний, то со второй половины этого века либидо-экономика капитализма сместилась в сторону потребления, влечения, эмоций. Страх при таком положении дел уместен как никогда. Он, как отмечает Рената Салецл, превратился в движущую силу маркетинговой политики потребительского капитализма. Потребительский капитализм учреждает себя в производстве аффекта.
Симптоматично, что в 1990-е годы популярным стало понятие «эмоционального интеллекта». Как будто представления уже опустошены, и все мнения оказались на стороне медиа-экранов, а индивиду потребления остались лишь эмоции. Будто создатели «эмоционального интеллекта» подчеркивают: мыслить уже нечего и нечем, остается только что-то чувствовать, но, чтобы homo sapiens’у не было обидно, назовем это «что-то» интеллектом. Между тем, Лакан в 1963 году отмечает это замещение интеллекта аффектом: «С точки зрения позитивизма способность мышления есть не более чем один из аффектов — аффект, основанный на гипотезе мыслимости. Что и подводит базу под ту психологию, достойную гадалок, которая излагается порой в местах, казалось бы, мало для нее подходящих — с высот университетских кафедр. Аффект же, наоборот, представляется в такой перспективе не чем иным, как замутненной способностью мышления».
Индустриализация эмоций, промышленное производство аффекта, в частности, страха, осуществляется посредством масс-медийной синхронизации в
Научно-промышленное управление страхом оборачивается производством бесконечного числа фобий. Позитивная наука едва поспевает составлять их списки. Если фобия это защита от страха, если фобия (по-гречески φόβος — страх) это страх против страха, то понятен расцвет фобий. Остается задаваться вопросом, не является ли этот расцвет — предвестником успешной борьбы ученых со страхом. Если фобия это защита от страха, то число объектов, к которому прикрепляется фобос, буквально бесконечно. Научно-бюрократический реестр фобий безграничен: агорафобия, авиафобия, андрофобия, антропофобия, астенофобия, астрофобия, ателофобия, аурофобия, аутофобия, аэрофобия, гелиофобия, гетерофобия, гомофобия, гравидофобия, децидофобия, дисморфофобия, кинофобия, ксенофобия, коулрофобия, моторофобия, мизофобия, миксофобия…
Был бы страх, а фобия найдется! На худой конец в сегодняшнем обществе всегда можно обратить бессознательное к ксенофобии «в крови» или гомофобии «от природы», бессмертным источникам страха и агрессии. Наслаждение Другого — отличный повод для священного страха и трепета. Другого даже не обязательно видеть, знать, слышать, чтобы бояться. В жизни мы то и дело сталкиваемся с парадоксом успешного избегания объекта боязни. Так гомофоб может с гордостью подчеркивать, что ему по жизни не довелось повстречать гомосексуала, наркофоб счастлив, что никогда не видел наркомана, а гелиофоб так и не взглянет на солнце. Страх, превращаясь в боязнь, находит рациональное объяснение.
Между тем, как напоминает нам Рената Салецл, страх — это еще и посредник между желанием и наслаждением. Здесь мы вновь приходим, только теперь совсем с другой стороны к объекту а, который оказывается шарниром между желанием с его объектом-причиной и прибавочным наслаждением, сочетающим сладострастие с болью. Угрожающее приближение объекта, а сопровождается тем страхом, который может служить защитой от наслаждения, влекущего субъекта к смерти. Здесь Рената Салецл как раз задается вопросом о связи маркетингового капитализма не с логикой желания, а с прибавочной экономикой наслаждения. Администрирование страха обретает здесь новое звучание. Оно вводится так называемым безграничным выбором, причем выбором того, что раньше представить себе как избираемое было невозможно: пол, ориентация, национальность. Выбору посвящена книга Ренаты Салецл с красноречивым названием «Тирания выбора», и, конечно, она напрямую связана с книгой «О страхе».