Деколонизация шума: способы пересмотра перцептивной иерархии в сенсорных исследованиях и в практике исполнитель:ниц шумовой музыки (Sachiko M, Andrea Pensado, himukalt)
В исследованиях звука до последнего времени шум достаточно часто противопоставлялся тишине, музыке или речи, причем категория шума почти всегда выступала негативно отмеченной частью дихотомии — главным образом, эстетически, но также социально и этически (Thompson, 2017). В этом эссе мне бы хотелось рассмотреть аргументы по возможной реконцептуализации шума, обращая внимание, прежде всего, на расовый и гендерный аспект негативной отмеченности шума в западной культуре, а также возможные пути работы с шумом в деколониальном ключе — через деколонизацию эстезиса и пересмотр перцептивной иерархии в современных сенсорных исследованиях и практиках нойз-испольнитель: ниц. Я обращаюсь к дихотомии шума и тишины при рассмотрении концепции звукового ландшафта, останавливаюсь на противопоставлении речи и шума в качестве категорий для анализа речи Других, а также картирую отношения музыки и шума в авангардистских практиках шумовой музыки. Наконец, я предлагаю критику всех трех дихотомий с помощью концептуализации шума в современных сенсорных исследованиях, ставящих своей задачей пересмотр иерархичности сенсориума, а также обозначаю возможности деколонизации эстезиса в поле современной шумовой музыки.

«Естественная» тишина и молчащий Другой
В 1977-м году выходит книга «The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World» Реймонда Мюррея Шафера, которая стала крайне влиятельной в поле звуковых исследований и музыкальной практики. В ней Шафер предлагает концепт звукового ландшафта (soundscape) и теорию акустической экологии, в рамках которой исследователь рассматривает шум в качестве продукта активного процесса индустриализации западных городов и «империалистического урбанизма», противопоставляя это режиму «естественной» тишины и «гармоничного» звукового ландшафта негородской среды. Он настаивает на шумовом загрязнении среды, связывая дисгармоничный саундскейп с социальными проблемами; какофония звуков в современном саундскейпе, по мнению Шафера, негативно влияет на состояние людей и их здоровье, а также связывается с «упадком» социальных и моральных ценностей — если дисгармоничные звуки характеризуют процессы западной урбанизации и распространения капитализма, то пространствами звуковой гармонии и перцептивного «отдыха» становятся церковь и сельская местность. Шафер предлагает разграничивать hi-fi саундскейпы, отличающиеся возможностью прислушиваться к тихим звукам каждодневных действий домодерного человека и окружающей его природы, и lo-fi саундскейпы, где множество разнородных звуков накладываются друг на друга, а тихие и небольшие по своему воздействию звуки, вроде звука шагов по снегу, становится сложно услышать из-за более громких и резких звуков, которые составляют звуковой ландшафт города. Помимо этого, конструируя утраченную эпоху тишины, исследователь феминизирует «естественные» звуки («Какой звук был услышан первым? Это был плеск воды. <…> Океан наших предков воспроизводится в водной утробе нашей матери и химически связан с ним» (Schafer, 1994, p.277)) и ориентализирует их («посещение базаров и традиционных городов Ближнего Востока поразит вас тихой, почти незаметной манерой, с помощью которой большому количеству людей удается заниматься своими делами, не мешая друг другу» (Ibid.)), противопоставляя их звукам машин, круглосуточным развлечениям и звукам «асоциальных подростков» современного западного города. Интересно, как гендерно и расиализированно другие появляются в контексте проблемы шума и тишины только в качестве фантазии о безвозвратно утерянном прошлом — как будто эта фантазия является в том числе попыткой реконцептуализации самих миноритарных субъектов с помощью якобы присущей им «естественной» тишины. Шафер напрямую критикует, в основном, машинные звуки в саундскейпе и революцию в звукозаписи, позволившую звуку отделиться от его источника, и обходит стороной вопрос о звуковом статусе, который приобретают в современном городе субъекты, конструируемые как миноритарные — они как будто вовсе не получают звуковой статус в модерности, что вписывается в логику конструирования Другого как выпадающего, исключенного и маргинализованного в рамках гегемонного дискурса, а также молчащего (silent или silenced). Тем не менее, как отмечают Ф. Арнольд и Ж. Костас, Другость также может конструироваться через шум, понимаемый в данном контексте уже через противопоставление с речью, а не тишиной (Arnold, Costas, 2023).
Разделение чувственного: шум и речь
Арнольд и Костас опираются на концептуализацию шума, предложенную Жаком Рансьером в контексте его теории «разделения чувственного»: так, логос это никогда не просто речь, а всегда отчет о речи; отчет, благодаря которому звуковой поток может быть понят либо как речь, способная выразить то, что справедливо, либо как шум, который может обозначать удовольствие или боль, согласие или возмущение. Речь Других, согласно такой концептуализации, выходит за рамки возможности рациональной перцепции в гегемонно структурированном поле чувственного, а Другой оказывается говорящим субъектом без политической возможности говорения; othering происходит через режим зримого и говоримого, который определяет, что некоторые действия являются видимыми, а другие нет, и что определенная речь понимается как дискурс, а другая — как шум. Другие в таком случае исключаются из сообщества человеческой речи (Rancière, 1998, p. 22–29, цит. по Arnold, Costas, 2023). Авторы, опираясь на работу Яниса Гэбриела, приводят пример эпизода othering группы мигрантов через категорию шума из недавней истории: 6 июня 1993 года неподалеку от пляжа Рокауэй в Нью Йорке китайские мигранты, чье судно «Golden Venture» потерпело кораблекрушение, стремились доплыть до берега и спастись. Американские СМИ описывали мигрантов как «приливную волну человеческих обломков», «море кричащих голосов», закрепляя за этой группой людей статус безымянных субъектов без политической возможности говорения, производящих вместо этого шум, неотличимый от шума морских животных (Arnold, Costas, 2023). Негативная отмеченность сплетен — еще один пример othering через категорию шума: это этимологическая трансформации слова «gossip» от нейтрального и относящегося и к мужчинам, и женщинам, до пейоративного и относящегося к женщинам и к пустой болтовне (Rysman, 1977), а также осмысление сплетен в западной культуре как звукового избытка — речи без смысла и функции, шума женщин, которые конструируются таким образом как говорящие субъекты без политической возможности говорения.
Обсуждая проблему речи применительно к Другости, сложно обойти влиятельное рассуждение Гаятри Чакраворти Спивак о субалтернах: категории Других, которая концептуализируется на пересечении разных процессов угнетения (расового, колониального, гендерного и т. д.). Спивак интересует проблема репрезентации, понятой как говорение за другого, выражение политических интересов другого — в качестве примеров исследовательница указывает как на проблематичность говорения за угнетенных, в данном случае по признаку расы, западными интеллектуалами, так и на говорение за субалтернов другими группами угнетенных, у которых, однако, есть право голоса — например, в случае говорения небелых состоятельных мужчин-политиков за небелых бедных женщин (Spivak, 1988). К проблеме репрезентации в контексте производства научного знания обращается и Мадина Тлостанова, разбирающая гендерный аспект деколониальных процессов в Центральной Азии, преимущественно в регионах, ранее входивших в состав СССР: знание, производимое угнетенными — в данном случае знание о гендерной проблематике, которое не вписывается в рамки западной феминистской эпистемологии, не обретает статус авторитетного в западной академии и «снижается» до материала, объекта исследования, а не «готового» знания (Тлостанова, 2009). Так воспроизводится цепочка репрезентаций в академическом знании — угнетенные говорят за субалтернов, а за угнетенных, в свою очередь, говорят привилегированные.
Если накладывать оптику Раньсера на эту проблему, то мы увидим спорадические процессы реструктурирования пространства и времени и образование возможности услышать речь угнетенных в качестве политических субъектов, в то же время, это разделение чувственного вновь порождает субъектов говорения, речь которых не может быть услышана иначе, как шум — что вынуждает субалтернов предпринимать радикальные попытки выхода из речи. Так, описанный Спивак эпизод самоубийства Бхувансвари Бхадури в 1926 г. в Северной Калькутте, когда женщина ждала начала менструации перед смертью, чтобы переписать устоявшийся гегемонный дискурс о самоубийстве для разрешения проблемы тайной беременности, показывает попытку выйти за пределы говорения при его невозможности на телесный и аффективный уровень для деструкции устоявшегося нарратива тех, у кого есть возможность говорить (Spivak, 1988). Рансьер, в свою очередь, отмечает возможности искусства в дестабилизации поля чувственного — следуя за его интуицией, я хочу обратиться к возможностям шумовой музыки.
Анти-музыка: авангардизация и маскулинизация шума
Как пишет звуковая исследовательница Мари Томпсон, историю современной шумовой музыки принято отсчитывать от итальянских футуристов, прежде всего Ф. Т. Маринетти, которые концептуализировали шум в своих визуальных и литературных работах прежде всего как звуки машин, связанной с этим концепцией будущего и прогресса, а также со звуками войны и маскулинными образами. Композитор Луиджи Руссоло вслед за этими размышлениями концептуализировал шум в качестве противоположности музыке — в то время как музыка повторяет уже устоявшиеся и предсказуемые паттерны и звучания, вызывая знакомые аффекты, шум способен открыть новую чувственность и выйти за пределы устоявшихся норм в музыке. В своем манифесте Руссоло приравнивает шумовую музыку к эстетическому радикализму, а шум выступает у него силой, способной порождать новые звуковые ощущения и «акустические удовольствия» (Thompson, 2017, p. 135).
Кроме того, Томпсон отмечает закрепление границы между музыкой и шумом в звуковых исследованиях: физик-акустик Герман фон Гельмгольц задает границу между шумом и музыкой, основывающуюся на частоте и регулярности высоты звука — эта теория далее активно используется в звуковых эпистемологиях на протяжении 20 века, несмотря на достаточно большое количество исключений из таким образом прочерченной границы, когда высота может быть вторична по отношению к ритму и тембру, не говоря о культурном характере разницы между музыкальными, экстра-музыкальными и немузыкальными звуками.
Эти две линии — авангардизации шума и достаточно четкого противопоставления шума и музыки — сходятся во влиятельной работе социального теоретика Жака Аттали, «Noise: The Political Economy of Music». Аттали прочерчивает социально-музыкальную эволюцию, связывая политические процессы и культурную историю музыки: исследователь выделяет 4 этапа, в рамках которых музыка выступает (1) ритуальной «жертвой», когда власть хочет, чтобы слушатели «забыли» о насилии в социальном поле, (2) репрезентацией, создаваемой профессионалами, когда власть хочет, чтобы слушатели поверили во что-либо, (3) повторением, когда власть хочет, чтобы слушатели замолчали — в эпоху массово репродуцируемой музыки. Четвертым этапом, по Аттали, становится режим производства и потребления музыки, когда слушатели сами становятся производителями — это иллюстрируется на примере знаменитой пьесы «4′33″» Джона Кейджа, когда звуки, производимые аудиторией, становятся самим музыкальным произведением (Attali, 1977). Этот пример, однако, часто в исследованиях шумовой музыки в парадигме дихотомии музыки и шума отмечает собой как революционное начало, так и конец авангарда шумовой музыки. Исследователь пишет, что шум — это оружие, а музыка является приручением и ритуализацией этого оружия; как отмечает Томпсон, такое направление рассуждения приводит к потере шумом в музыке собственно «шумности» и субверсивного потенциала, несмотря на стремление Аттали к концептуализации шума в качестве трансформационной силы в социальном поле.
Помимо этого, линия теоретизации шума как анти-музыки связывается с поэтикой трансгрессивности и эстетическим аморализмом — это несложно проследить уже у итальянских футуристов, романтизировавших насилие и угнетение женщин, маскулинизировавших шум; в конце 20 века эта линия была продолжена при формировании таких шумовых жанров музыки, как индастриал (industrial), павер электроникс (power electronics), нойз (noise) и харш нойз волл (harsh noise wall) — в обложках, текстах и живых выступлениях ранних исполнителей этих жанров часто использовались образы, ассоциируемые с праворадикальными идеологиями, мизогинией, расизом и белым маскулинизированным насилием, а также шоковыми тактиками воздействия на аудиторию.
Томпсон подчеркивает, что режим осмысления шума в качестве трансгрессии музыкального всегда ведет к провалу проекта шумовой музыки: если шумовая музыка «преуспевает» как шум, сохраняя свой статус табу, то как музыка она терпит неудачу и опознается как «просто шум», в то время как для подготовленной аудитории, опознающей шумовую музыку в качестве музыки, не происходит желаемая трансгрессия. Кроме того, шоковые тактики трансгрессивной линии шумовой музыки достаточно быстро клишируются и закрепляются у аудитории в качестве прочной ассоциации: шум, таким образом, теряет возможность открывать новые аффективные и перцептивные горизонты аудитории и превращается в набор устоявшихся паттернов, связанных с воображаемой способностью шума «шокировать, доминировать, подавлять или оскорблять» (Thompson, 2017, p. 144).
В контексте такого понимания шума в музыке интересно рассмотреть режим гендерно и расиализированно отмеченной ошибки. Участницы квир-феминистской электроклэш группы «Le Tigre» Кэтлин Ханна и Джоанна Фейтман отмечали, что ошибочные звуки, издаваемые артистами-мужчинами, часто «фетишизируются как глитч» и «как нечто красивое», в то время как ошибки женщин нередко воспринимаются просто как признаки неудачи, а не как проявление инновации, творчества или художественного замысла (Ibid, p. 131). В таком контексте производство шумовой музыки становится почти невозможным для угнетенных субъектов — как и с речью, их шумы будут прочитываться в качестве «всего лишь шума». Далее я предлагаю обратиться к реконцептуализации шума в деколониальных академических и художественных стратегиях.
Альтернативные подходы к шуму в сенсорных исследованиях и пересмотр чувственной иерархии
При сопоставлении нормативной теории звукового ландшафта Р. М. Шафера, конструирующей шум как негативный продукт современной урбанистической жизни, и авангардно-трансгрессивной линии концептуализации шумовой музыки, также заявляющей шум как негативный и требующий перенесения в поле музыкального для перехода от эстетического морализма к возможности эстетического аморализма, становится понятно, что это, во многом, взаимодополняющие позиции. Они обе строятся на жесткой дихотомии, а Другие в этих координатах концептуализируются либо в качестве фантазии о былом — Шафер в своих поисках утраченного времени приходит к тактике silencing гендерно и расиализированно отмеченных субъектов — либо в качестве нелегитимных акторов поля, не имеющих креативных возможностей для выражения в рамках творчества как инновации. Мари Томпсон предлагает как критику теории саундскейпа, так и возможность для реконцептуализации шумовой музыки через понятие «exposure», снимая эстетический морализм и аморализм. Сенсорная исследовательница предлагает рассматривать шум не как нечто внешнее по отношению к музыке, но как неотъемлемую часть музыкальных практик и музыкальных медиумов, в то время как шумовая музыка выступает в качестве «exposure», усиления и расширения поля шумового в музыке. Шумовая музыка зачастую подчеркивает медиальность музыки, намеренно воспроизводя, например, звуки заедания CD-диска или звуки, ассоциируемые с воспроизводством музыки с кассет; такая классическая музыкальная характеристика как тембр также может быть связана с шумом — действительно, одна и та же нота с учетом материальности разных инструментов и их конструкций, придающих, если рассматривать это в ключе заявленного Гельмгольцем разделения на шум и музыку, шумовые нюансы, может звучать совершенно по-разному — в шумовой музыке материальность инструментов будет подчеркиваться за счет использования подготовленных или сломанных инструментов (как это делает, например, классик японского нойза Merzbow). Шумовая музыка, понятая таким образом, является не трансгрессией нормы музыкальности, а раскрытием возможностей и новых сонорных и аффективных режимов музыки.
В свою очередь, эстетическому морализму Шафера в определении шума как обязательно негативного и «загрязняющего» среду и тишины как необходимой основе здоровой звуковой среды Томпсон противопоставляет реляционную спинозистскую этику шума — согласно исследовательнице, и шум, и тишина могут обладать желательными и нежелательными эффектами на тела людей и других агентов среды. Томпсон приводит в пример проект саундскейп-художницы Жаклин Уолдок, посвященное домашней аудиальной среде в Ливерпуле: так, Уолдок совместно с партисипантами исследования производила звуковые дневники и портреты, которые жители-партисипанты исследования также дополнительно комментировали и анализировали. Несмотря на достаточно распространенное мнение, что чем меньше звуков соседей и улицы слышно в приватном пространстве жилья, тем лучше — житель: ницы исследуемого района поделились ощущением комфорта, безопасности и чувства принадлежности из-за хорошей слышимости того, что происходит у соседей; одна из партисипанток отметила, что она рада, что если она упадет, или с ней что-то случится — соседи это услышат и придут проверить, все ли в порядке. Шум, по Томпсон, не должен маркироваться как негативный априори, но должен оцениваться в локальном контексте воздействия на конкретные тела агентов среды. Это подводит нас также к проблеме производства знания и репрезентации, которая коротко обсуждалась во втором параграфе — поворот антропологии и сенсорных исследований к телесному, «ситуационному» знанию, укорененному в контексте определенной среды, а также к не-репрезентационным методологиям (Non-Representational Methodologies, 2015) позволяет дестабилизировать заявленную Спивак проблему невозможности говорить для субалтернов, а также ограниченности речи для других групп угнетенных. С помощью пересмотра чувственной иерархии, произведенного в сенсорных исследованиях — отказа от окулоцентризма и постулирования важности запаха, вкуса, проприоцепции, а также легитимации знания, которое производится с помощью этих чувственных модальностей (см. Classen, 1997, Marks, 2008, Hsu, 2020), становится возможно произведения новых модальностей говорения и реструктурирования поля чувственного, что в свою очередь ведет к пересмотру границы речи\шума; достаточно много примеров такого реструктурирования можно обнаружить в поле художественной практики, к чему обращается в Мадина Тлостанова, размышляя о деколониальном эстезисе.
Деколониальный эстезис и практики современных исполнитель: ниц шумовой музыки
Эстезис, по Тлостановой, это «способность к чувственному восприятию, ощущениям и сам процесс чувственного восприятия: визуального, тактильного, слухового, вкусового и т. д.» (Тлостанова, 2013); это понятие исследовательница противопоставляет эстетике, дисциплине, в рамках которой, согласно Тлостановой, происходила колонизация эстетиза — деление на прекрасное и безобразное, возвышенное и низкое. В рамках этого процесса локальный аффективный и чувственный опыт некоторых групп европейских жителей выдавался за универсальные категории, а отличный от этого опыт подвергался othering, экзотизировался или просто отвергался. Деколониальный эстезис, в свою очередь, в качестве перцептивного инструмента позволяет очертить локальность западной эстетики, а также критически подойти к западной иерархизации сенсориума — окулоцентричности и «вторичного» значения проксимальных чувств, таких как вкус, обоняние, гаптическое. Как можно заметить, это подход, согласующийся с чувственным, телесным, аффективным поворотом в исследованиях культуры, делающем упор на локальности контекста и «ситуативном» знании; в художественной практике деколониальный эстезис зачастую проявляется в реэкзистенции (по А. Альбана-Акинте). Согласно Мадине Тлостановой, реэкзистенция позволяет угнетенным субъектам, существующим «в сердцевине колониальной матрицы в качестве иного и бесправного» обратиться к переработке звуков, запахов, цветов и вкусов локального чувственного мира и пересоздавать «систематически отрицавшиеся в современности формы взаимодействия с миром» для «выстраивания собственной экзистенции — заново и вопреки» (Там же).
С этой точки зрения авангардно-трансгрессивная линия понимания шумовой музыки, во многом, вместо реэкзистенции и переоткрытия шумов с помощью акусматического слушания предлагает стратегию довольно уплощенного понимания шума как шокового инструмента воздействия на реципиента, в то время как конкретная ситуация воздействия шума на телесном, чувственном уровне стирается за общим нарративом трансгрессивности и провокативности; шум-как-эксцесс вновь прочерчивает границу, характерную для классической западной эстетики, пусть и манифестируя определенную «эстетику безобразного» в своем акте.
Sachiko M
0.00 — 9.00 «Sine Wave Solo 3»
9.01 — 18.36 «Half-Moon»
В свою очередь, исполнительницы шумовой музыки, творчество которых я хочу кратко проанализировать — Sachiko M, Andrea Pensado и himukalt — стремятся использовать возможности работы с шумом для пересмотра чувственной иерархии и раскрытия потенциала звуков, которые не привлекали ранее внимание музыки в рамках западной эстетики. В рамках деколониального эстезиса звук как чувственная модальность представляет собой интерес за счет нередуцируемости к речи, а также сложности «ухватывания» и объективизации звука — его членения и рефлексии опыта через численные значения (если не обращаться к физикалистскому подходу к звукам, оперирующему шкалами измерения по типу высоты звука и значениями, выраженными численно). Так, Sachiko M, принадлежащая к японскому музыкальному направлению Onkyo, или Onkyokei, в своих работах концентрируется на т. н. «тихом» шуме — во многом такая практика «тихой» свободной импровизации сложилась из-за места регулярных встреч Sachiko M и ее коллег-исполнителей в Off Site в Токио. Это небольшое концертное помещение было расположено рядом с жилыми домами, а также обладало довольно тонкими стенами: это обстоятельство, с одной стороны, выступало в качестве формального ограничения по громкости звука, а другой стороны позволяло работать со всем звуковым ландшафтом — в том числе доносящимися звуками улицы.
Подход Sachiko M демонстрирует внимание к текстурам акустических и электронных звуков и их существованию в пространстве друг друга, используя минимальные средства — так, на первом треке EP «Debris», «Sine Wave Solo 3», исполнительница исследует звуки, которые можно извлечь из семплера, не используя никакие внешние семплы — только тестовые звуки, которые были загружены при производстве семплера, а также звуковые глитчи и сбои, появляющиеся при экспериментах над звуковым оборудованием. На втором треке того же EP, «Half-Moon», Sachiko M использует контактный микрофон, особенность которого заключается в его чувствительности к звуковым вибрациям, которые проходят через твердые объекты, а не воздух. Исполнительница экспериментирует с различными поверхностями, добиваясь трещащих, хрустящих, скрипящих, иногда гулких звуков, распространяющихся вспышками — часть получающихся звуков можно сравнить со щелчками, со скрипами двери или звуками трения воздушных шаров. Sachiko M собирает обломки, осколки (debris) незаметных звуков, чтобы перенаправить слушательские способности на акусматическое восприятие, расширяющее возможности вслушивания и в привычные звуки окружающей среды, как правило, выключенные для многих из перцепции — что позволяет произвести новую картографию чувственного и обнаружить локальные звуки, связанные с возможностями реэкзистенции, и на возможности звукоизвлечения из «немузыкальных» источников или источников, обычно воспринимавшихся как «прозрачный» медиум. Кроме того, Sachiko M удается активировать воображение, связанное с тактильным восприятием — звуки второго трека создают синестетический эффект, когда одна чувственная модальность — звук — активирует также гаптическое, или тактильное, восприятие.

Andrea Pensado
As Within So Without (2018)
Andrea Pensado также работает со свободной импровизацией, однако одним из ее главных инструментов становится голос — аргентинская исполнительница создает ландшафт из цифровых шумов и вздохов, приглушенных криков, шипения, «закипания» и заикания голоса. Андреа как будто бы должна заговорить, однако ее речь не начинается — но и не заканчивается, растягиваясь в композиции от 4 до 13 минут, полные глитчевых эффектов, а также гаптических звуков, подобных тому, что уже обсуждалось в связи с «Half-Moon» Sachiko M (особенно активную роль гаптические звуки приобретают в треке «On Density»). Исполнительница использует технику cut-up, или звукового коллажа, нарезая свою пред-речь и выкладывая то в ритмичные вспышки криков и вздохов, которые можно проассоциировать со звуками тревоги, боли, секса, ярости, то в ряды, интонационно напоминающие предложения (трек «For Them & Machault») — в этом случае отрывки напоминают звуки записанной и перевернутой по шкале времени речи; в том же треке в ряд цифровых и гаптических звуков включаются отрывки популярной музыки. Цифровые глитчи напоминают звуки бесконечной перемотки, помех, плохо работающего радио — Andrea Pensado также подсвечивает медиальность и материальность музыки и ее воспроизведения, в то же время не стремясь создать эффект стилизации под медиумы прошедших эпох, так как шумы, ассоциирующиеся с цифровыми носителями, превалируют на всех треках альбома. Исполнительница исследует, таким образом, возможности перепрочерчивания границ речи и не-речи, возможности голоса как медиума телесных воспоминаний и впечатлений, а также медиальность музыки — все это позволяет производить эстетическое обновление музыкального воображения и обращаться к телесным воспоминаниям и ассоциациям, локальным звукам и гаптическим ощущениям, реэкзистенции в рамках своего собственного тела.
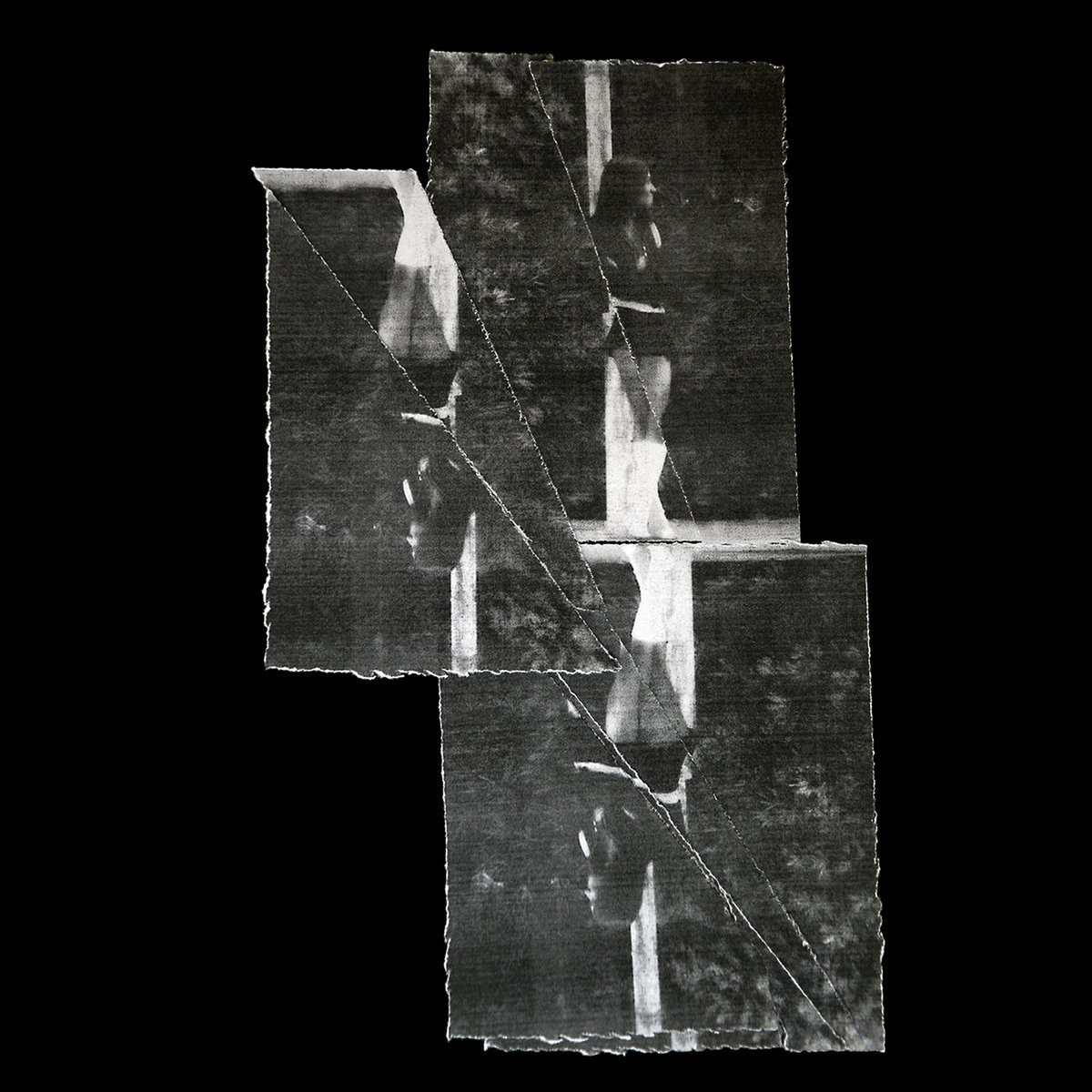
himukalt
sex worker II (2020)
himukalt известна обращением к теме секс-работы в своей шумовой музыке: альбом «sex worker II» построен как на личном опыте исполнительницы, так и на интервью с другими секс-работницами. Как написала сама himukalt в пресс-релизе третьего альбома, посвященного этой тематике, «грусть и дисфория были темами первых двух кассет» (himukalt, 2022). Действительно, если обратить внимание на голоса, которые можно услышать на записи (все женские), они чаще всего издают звуки, близкие к тяжелому дыханию, вздохам и стонам — объединяя контексты рыдания и сексуализированных стонов. Кроме того, в нескольких треках задействуются записи интервью — например, в первом треке, «panic attack», можно слышать речь одной секс-работницы про ее панические атаки, их связь с птср, а также окончание ее рассказа — «чтобы остановить панику, я мастурбирую». На протяжении всего трека, тем не менее, шумовая стена, образованная абразивными плотными металлическими звуками, активно вторгается в речь — создавая что-то вроде выгораний или выцветов на ткани языка. Работа с травмой в данном случае переходит с уровня невозможности сказать на невозможность услышать или расслышать; шумовая стена то отступает, давая место женскому голосу, то заполняет собой все аудиальное пространство, помещая слушателя в ландшафт плотных металлических текстур и ритмичных толчков; в следующих треках альбома особенности записи интервью на устаревшие и «некачественные», сами по себе шумные носители (с точки зрения стандартов чистоты звука в медиа в 2020 году, во время выхода кассеты) подчеркиваются дополнительным изменением высоты, реверберации и искажениями. himukalt, таким образом, проблематизирует уже не столько произведение речи (как Andrea Pensado), а слушание и слышание этой речи и границы того, что может быть услышано и воспроизведено; кроме того, она активно погружается в вопрос деформации пространства, работая с направлением шумовой музыки, создающим «стену шума» и довольно радикально реогранизующим звуковой поток и связанные с ним характеристики воображаемого пространства, создаваемого музыкой.
Источники
Тлостанова М. Эстетика vs Эстезис: телесная политика ощущения, знания и бытия. Художественный Журнал, № 92, 2013.
Тлостанова М. Деколониальные гендерные эпистемологии. М., 2009.
Шион М. Звук: Слышать, Слушать, Наблюдать. М.: НЛО, 2023.
Arnold, P., Costas, J. From Silence to Noise — The Politics of the Other in Organization Theory. Organization Theory. 2023. Vol. 3.
Attali J. Noise: The Political Economy of Music. University of Minnesota Press, 1977.
Classen C. Foundations for an Anthropology of the Senses // International Social Science Journal. 1997. Vol. 49. P. 401–412.
Hsu H. L. The Smell of Risk: Environmental Disparities and Olfactory Aesthetics. New York: New York University Press, 2020.
Marks L. Thinking Multisensory Culture // Paragraph. 2008. Vol. 31. № 2. P. 123–137.
Non-Representational Methodologies. Re-Envisioning Research. / Ed. by P. Vannini. Abingdon, New York: Taylor & Francis, 2015.
Rancière J. Disagreement: Politics and philosophy. University of Minneapolis Press, 1998.
Rysman A. How the “Gossip” Became a Woman // Journal of Communication. 1977. Vol. 27. № 1. P. 176–180.
Thompson M. Beyond Unwanted Sound: Noise, Affect and Aesthetic Moralism. London: Bloomsbury, 2017.
Schafer R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, VT: Destiny Books, 1994.
Spivak G. C. Can the subaltern speak? In Nelson C., Grossberg L. (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271–313). Macmillan, 1988.
