С^кстуальность & fan-culture

Хосе Ортега-и-Гассет начинает свое знаменитое эссе «Дегуманизации искусства» с рассказа о великом французе Гюйо, пытавшемся изучать искусство с социологической точки зрения. Он говорит, что «Гюйо не извлек из своей гениальной попытки "лучшего сока"», что из его книги «Искусство с социологической точки зрения» осуществилось только название [1].
Примерно также дело обстоит и с с^кстуальностью, от неё пока что осуществилось только название, но и этого уже достаточно. С^кстуальность — термин, функционирующий в дискурсе «нового просвещения». Как говорит Михаил Куртов в лекции «Латур++»: «Науки и вещи будущего изобретаются лингвистической комбинаторикой и лингвистической футурологией. Есть машина, которая комбинирует какие-то корни, и вот мы получаем слово и далее приступаем к реализации» [2].
Возможно, нет термина интуитивно понятнее, но и сложнее для определения. С^кстуальность — «секс» и «текст», сложенные вместе — является теорией для исследования эротики внутри и вокруг текста. В чём же отличие с^кстуальности от эротики? По отношению к тексту её позиция — иная. Эротика наивно функционирует сама по себе, как данность. С^кстуальность же — инструмент, которым пользуется лицо, внешнее по отношению к тексту и умеющее с ним (инструментом и текстом) обращаться. Это зонтичный термин, призванный собрать наработки («эротическое тело авторства», «порнографическое воображение», «автор-читатель», «автор-любовник»), разбросанные по теории.
Для разговора о с^кстуальности мы должны обратиться сперва к исторической ситуации, в которой этот разговор возник. Эта ситуация связана с исследовательской черствостью, которую предлагает преодолеть Сьюзен Зонтаг в эссе «Порнографическое воображение» [3].
Она указывает на алиенацию этой темы в теории, которая держит её за границами искусства. Эта позиция удобна, можно «заранее отлучить любую порнографию от литературы (и наоборот) — и разбираться с каждой конкретной книгой уже незачем». Зонтаг говорит, что для исследователей «порнографическое — это групповая патология, болезнь всей культуры «общества находящегося на стадии перехода». Они готовы признать наличие «порнографического воображения», но лишь в том смысле, что это продукт «коренной ущербности или деформации воображения как такового» [4].
Каковы же доводы исследователей, исключающих порнографию из дискурса искусства? Перечислим их: 1) она возбуждает, что несовместимо с незаинтересованной вовлеченностью, нужной для восприятия искусства; 2) не содержит завязки, кульминации и развязки, может продолжаться вечно (довод Адорно); 3) не занята средствами выражения; 4) пренебрегает психологией, равнодушна к мотивам и правдоподобию поступков.
Споря с ними, Зонтаг защищает чувственность порнографического и искусства вообще, в отличие от Хосе Ортега-и-Гассета, призывающего к его дегуманизации. Она пишет: «Сексуальное возбуждение читателей — тоже не относится к их недостаткам (…) физические ощущения несут с собой нечто гораздо более важное и затрагивают весь человеческий опыт читателя вплоть до границ и его личности, и его тела» [5].
Чтобы проиллюстрировать продуктивность описанного нами подхода, обратимся к «Дорамароману» — дебютной книге кинокритика Михаила Захарова, вышедшей в No Kidding Press в 2022 году. О нем герой-автор говорит так: «Эта книга — о материальной структуре, окружающей работу художественного критика, о медиатизированной сексуальности, которая транслируется и встраивается в тела всех тех, кто зарабатывает на жизнь просмотром фильмов и написанием о них текстов» [6].
В главе под названием «(im)material girl» описано первое присваивание героем-автором продукта культуры. А именно, увлечение комиксами о Человеке-пауке, что инициировало и его сексуальное самоопределение: «В семь лет (до сих пор помню его обложку и запах) я покупаю свой первый комикс, The Amazing Spider-Man #494, идеальный знак, требующий расшифровки: кто такой Человек-паук, я уже знаю благодаря мультсериалам, но понятия не имею, что за люди его окружают (…). В своем сексуальном образовании я опираюсь на аналоговые источники: я отсекаю от Человека-паука арахнидову приставку и кончаю на его изображение в трех- или четырехсотом по счету купленном комиксе. Я продолжаю тратить деньги на американские трагедии со счастливым концом, надеясь обнаружить еще один фрагмент обнаженной плоти, скрытой под латексом, и контрабандой пронося свое желание туда, где ему не место (…). Комиксы — это машины по производству фетишей, порнографии и идеологических установок, но я не перестаю их любить» [7].
Нужно сказать, что фанатство, как пишет Линор Горалик в статье «Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом» (2003) — «это метод, которым потребитель культуры взаимодействует с медиа» [8]. Конечно, этот метод практикуют не все, но среди всех вариантов современного потребления, он является самым заметным. Во-первых, потому, что этот опыт на фоне других отличается эмоциональной привязанностью к продукту (часто демонстративной), а также исключительной приверженностью к нему, что Горалик кратко называет «тягой». Эта тяга мотивирует фаната на активные действия — к фанатскому творчеству.
Интеллектуальные привычки фанатов, описанные Линор Горалик, дотошны: «Фанат знает массу закадровых подробностей (…). Он лучше вникает в сюжет», пересматривая и перечитывая объект своего интереса. Далее она замечает, что «примерно тем же занимается и критика: раскапыванием и интерпретацией подтекста» [9]. Возможно, фанатские интеллектуальные привычки предопределили будущую профессию Михаила Захарова. Но сначала они обусловили способ, которым он стал взаимодействовать с культурой вообще.
Занимаясь фестивальным кино, герой-автор все же начинает книгу со своей юношеской обсессии. И продолжает рассказ о любимых — Клер Дени, Оливье Ассайасе, Хон Сан-су, а также о молодых людях, в которых был болезненно влюблен. Любовная драма восходит к кино о любовной драме, и наоборот. Романтический эпизод плавно подводит к эссе, эмоционально неотделимому от него, заряженному той же меланхоличной грустью, которая овладевает героем-автором в нелюбви. Например, в главе “люблю, когда перед началом фильма гаснет свет” читаем: “И в этот момент, когда мне кажется, что наши отношения не могут стать двусмысленнее, он спрашивает, видел я “Кэрол” [10]. На критику переносятся конфликты и напряжения личной психодрамы автора-героя. Этот способ взаимодействия с культурой Линор Горалик называет персонализацией, встраиванием культурного продукта в личный нарратив, а нарратив — в продукт.
Но самый напряженный момент книги с точки зрения совпадения личного и фанатского иной. Он описан все в той же (im)material girl. Герой-автор сравнивает себя с Питером Паркером, который признается тете Мэй, что является супергероем. Она восклицает, что подумала было, что он гей. В случае героя-автора, он делает аналогичное признание своей матери, будучи случайно раскрытым одноклассниками.
Линор Горалик пишет, что «фанат обретает некоторый контроль над полученным месседжем, персонализируя его» [11]. Контроль — очень важное здесь слово. «Дорамарован», в котором совпали не-пережитые влюбленности героя-автора и переживаемая им фанатская любовь к кино, возвращает ему контроль над сюжетом своей жизни. Это же делает и фанфикшн.
Будучи порнографичным, фанфикшн оценивается как девиация, «принадлежащая к самым низким проявлениям паралитературы и потому не заслуживающая серьёзного внимания» [12]. С этой позицией мы предлагаем бороться, чтобы освободиться от авторитарного дискурса алиенации искусства, «лишенного чувств и страстей». Мы предлагаем вернуть в искусство смех, слезы, злость, свободу, наслаждение, со-чувствие и эротику.
Потому что, говоря словами Сьюзен Зонтаг, в «порнографическом обществе», «построенном на лицемерии и подавлении, (…) порнография не может не появиться (…) как выработанное против него снизу противоядие» [13]. Фанатское порнографическое производство — это субверсия установленного порядка, разворачивающееся в логике влечений и наслаждений, которые невозможно подделать или урегулировать без извращения их сути.
Наталья Самутина в работе «Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта» называет фан-сообщества «экспериментальными зонами, где письмо и чтение почти не разделены, где желания и потребности читателей формируются и удовлетворяются с максимальной точностью», а произведения создаются «для самих себя и друг для друга» [14].
Она также подчеркивает, что фан-сообщество, вовлеченные в создание фан-творчества, состоит из (по большей части) читательниц-авторок, образованных и интеллектуально развитых, заинтересованных в реализации своих способностей через доступные и интересующие их практики, где нет контроля и авторитарного давления. Фанфикшн она называет «реваншем читателя, вырвавшего свое право на удовольствие из рук критика и издателя, а также из-под власти традиционно понимаемого автора»[15].
В 80-е в Советской России этим занималась и панк-рок культура. В эссе Михаила Вербицкого «Заметки о промышленной архитектуре» мы можем обнаружить параллели между панк- и фанатской культурой. В частности, это ориентация на создание собственного культурного продукта, философия DIY: «Основным положением панка была философия DIY — "do it yourself". (…) В применении к искусству, идеология панка (и стоящего за ним ситуационизма) сводилась к замене искусства на креативное самовыражение, присущее каждому человеку, как дыхание и как секс. Вместо сцены Высокого Искусства, заполненной идолами, панк мыслил себя демократичным, карнавальным действом, сценой Свободного Духа, где каждый — и творец, и зритель; где творчество НЕОТДЕЛИМО от (всеобщего) участия в акте» [16].
Принципиально важно, что со-участие в процессе производства низовой высокоорганизованной культуры двойное. Потому Наталья Самутина вводит понятие автор-читатель или читатель-автор (далее в текста мы будем использовать слова «автор-читательница», «читательница-авторка» и «авторка-читательница»), ссылаясь на эссе Ролана Барта «О чтении». Он говорит о том, что в «обществе потребления, а не производства, обществе чтения, видения и слышания, а не письма, смотрения и слушания, — все устроено так, чтобы блокировать ответный жест (…) мы никогда не сможем освободить акт чтения, если одновременно не освободим акт письма» [17].
Ролан Барт, возможно, удивился и обрадовался бы, узнав, что утопическое сообщество авторов-читательниц идеально сочетается с его концепциями идиоритмии и авторства. В эссе «От произведения к тексту» Ролан Барт говорит, что текст «не может застыть на книжной полке», «он по природе своей должен сквозь что-то двигаться — например, сквозь произведение, сквозь ряд произведений» [18]. Фанфикшн всегда является текстом, но никогда не стремится быть произведением. Он является созданной с помощью методологических операций по интерпретации и пересборке метатекстом.
Это практика освобождения письма, объединяющая читательницу-авторку в действующую единицу. Слово "автор" происходит от "auctor" — тот, кто расширяет. Римляне называли так полководца, добывающего для родины новую территорию. Фанфикшн — разрастающееся пространство возникающего из ниоткуда и уходящего в никуда текста, который расширяют анонимные авторы-читательницы.
Подобная система текстуальных связей является постструктуралистской грёзой об уходе от гомогенности господствующего дискурса в тень альтернативных практик, отказывающихся от “истинных” утверждений и всеведущих авторов. Вместо поиска “глубинного” смысла Жак Деррида предлагает “рассеивание” — постоянное и открытое разрушение авторитета текста через вмешательства, творящие бесконечный поток интерпретаций и значений. “Текстуализация” мира приводит к восстанию голоса другого в противовес авторитарному голосу, захватывающему всю власть [19].
Фанфикшн — практика расширения текстуальности, открытие пространств, в которых по-новому предстает подавляемая разнородность, несоизмеримость, девиантность и чуждость, становящиеся видимыми как равноправные участники истории и метафизики.
О гомосексуальном опыте внутри фанфикшена и фанатской культуры Наталья Самутина пишет следующее: «Слеш» выполняет прямые критические функции по отношению к тому уровню несвободы в области личных отношений, который пока является нормой на постсоветском пространстве» [20]. Генри Дженкинс в книге «Textual Poachers Television Fans and Participatory Culture (1992)» утверждает, что привлекательность слэша для женщин — в том, что «слэш противостоит наиболее репрессивным формам сексуальной идентичности и предлагает утопические альтернативы имеющимся гендерным конфигурациям» [21].
Наталья Самутина приводит внятно артикулированную постановку этой проблемы не-свободы, приводя мнение русской читательницы-авторки: «Мы живём в откровенно идиотской реальности. (…) Где любовь всё время форматируют под актуальный тренд: механический и журнально-правильный секс, брак, однополый брак, патриотизм, самопожертвование и ещё черт знает что. Мы живем в мире, в котором ты никогда не остаёшься один, потому что в твоей голове кто-то всё время держит свечку» [22].
Кто же держит эту свечку? Ответ на этот вопрос мы можем найти в треке рэпера Хаски «На что я дрочу» [23]. В нем в сексуальные фантазии (перечисляются самые распространенные: лесбиянки, вуайеризм, групповое изнасилование) героя вторгается лидер государства, который, крадет его секс, а вместе с ним и свободу.
В эссе Алексея Конакова «Леонид Аронзон: «райские альковни» паноптического мира» кража сексуального сюжета объясняется тем, что «главным автором СССР всегда была власть — изначально персонифицированная в фигуре «идеологического редактора» (в роли которого выступает Сталин). Известно, что сталинизм, — во многом следуя знаменитым «двенадцати половым заповедям Арона Залкинда», — пытался тотально контролировать сексуальную активность населения; сталинская биополитика строилась на знании, что «класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих сочленов» [24]. Конаков говорит о пространствах «вненаходимости», возникших как реакция на репрессивную биополитику СССР, загнавшую граждан в коммунальные квартиры, где нельзя уединиться, где все слышат всех.
Пространства «вненаходимости» — термин, введённый архитектором Алексеем Юрчаком. Юрчак называет такими пространствами лакуны, пустоты, где граждане СССР скрывались от авторитарного дискурса. Юрчак объясняет это тем, что советские люди отказывались быть лишь «персонажами» позднего социализма — но всегда стремились быть ещё и «авторами» [25]. Лишенные сексуальной свободы теряют в первую очередь именно свободу. Рожденные быть авторами граждане вынуждены стать героями-любовниками сюжета, который пишет некий невидимый третий. Ролан Барт определял трагедийный конфликт как кризис пространства: «упорно сводимые к состоянию невыносимой пространственной стесненности, человеческие отношения могут быть просветлены только посредством очищения» [26]. Ответ на вопрос об авторстве и половой любви немыслим без чистого и свободного пространства, где обе этих вещи могут длиться.
Александр Конаков также даёт очень важную для нас в контексте с^кстуальности связку об авторе-любовнике и о чтении-письме-сексе: «Аронзон много (и весьма смело) писал о сексе — но что такое секс? Всего-навсего распространенная антропологическая практика, в результате которой выделяется некоторое количество информации. Подобная формулировка позволяет сблизить секс с поэзией, с созданием текстов вообще — и с проблемой авторства в частности. (…) Как мог бы сказать Бахтин, в советском контексте никто не желал оставаться лишь «героем-любовником», все хотели быть «любовниками-авторами» [27].
Утопические фандомы являются свободными от секса с «идеологическим редактором» пространствами «вненаходимости» для акторов фанатской культуры. Свое вненаходимое авторы-читательницы и авторы-любовницы обретают посредством порнографического воображения в чтении-письме, где обретают независимое и подлинное наслаждение.
Наслаждение по Барту — это удовольствие без отвержения. Он усматривает прямую связь чтения-письма с эротикой: «чтение служит проводником Желания писать (…) наше желание — это просто желание, которое испытывал написавший это; или иначе — мы желаем того желания читателя, которое испытывал автор, когда писал, мы желаем того любите-меня, что заключено в любом письме» [28].
В случае фанфикшена автор-читательницы не только движимы эротическим по сути желанием читать-писать, но и производят эротические сюжеты, получая еще большее наслаждения от текста. Как же конвертируется желание в текст?
Эротическое повествование, разворачивающееся в контексте отношений между персонажами происходит через ассоциацию авторок-читательниц с их телами. Подобные тела вслед за Ильей Кукулиным в статье «Сильнее урана» Александр Скидан называет «эротическими телами авторства». Он интерпретирует этот термин так: «Эти тела являются своего рода посредниками, которые связывают авторское сознание с миром (…) и могут быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди, или как играющие дети, или персонажи сна, или куклы. В то же время они неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием; авторское сознание обращает к ним и через них к явлениям мира любовь и привязанность» [29].
Возможно, благодаря тому, что персональности персонажей предопределены, авторам-читательницам гораздо проще даётся наделение их своими «фиктивными эротическими телами». Вопрос совпадения или несовпадения персонажей и читательниц-авторок решен заранее, поэтому чтение-письмо проходит плавно. Но далеко не все ситуации, в которые попадают эти тела, позитивные. Даже наоборот.
О помещении «эротических тел» в ситуацию страдания Александр Скидан говорит как о жертвоприношении: «Фиктивные эротические тела то и дело подвергаются физическим страданиям: они испытывают боль, ощутимые затруднения, их калечат, бьют, ломают. Эти страдания можно рассматривать как символическое жертвоприношение. Их боль, деформации и исчезновения соответствуют чужой боли, отчуждённо и одиноко существующей в мире. Символическое принесение этих тел в жертву и сопереживание их боли позволяет восстановить открытые отношения с миром» [30].
В контексте с^кстуальности фанфикшн — поле идеального наложения наслаждений, где продуцируемый порнографическим воображением текст, эротичный по способу существования, обнажает свою сущность откровеннее, чем когда-либо. Потенциал этого наложения очевиден. Как говорила Наталья Самутина, что фанфикшн выглядит легко, а действует серьезно, обещает мало, а дает много, притворяется необязательным развлечением, но способен изменять жизнь.
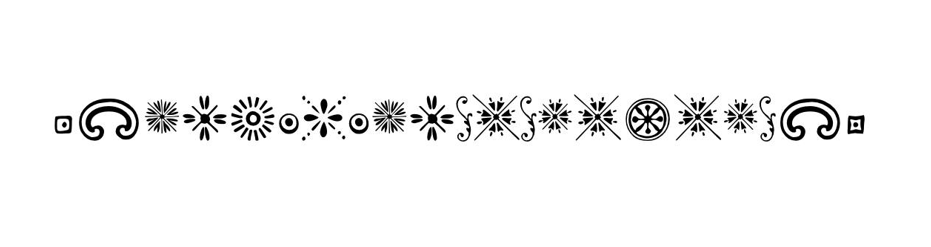
[1] Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: «Искусство». 1991. С. 218.
[2] Куртов М. Латур++: технотеологическая критика проекта «нового Просвещения: [видео] / «Конференция Контуры Университета. Государство, церковь, сообщество». — Изображение (движущееся; двухмерное). Лекция // Михаил куртов: сайт. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=1HFlLU4yhmM&t=1527s (дата обращения: 01.04.2025). — Видео было снято в 2014 г.
[3] Зонтаг С. Мысль как страсть. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 65-97. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию.
[4] Зонтаг С. Указ. соч. С. 65-97.
[5] Зонтаг С. Там же.
[6] Захаров М. Дорамароман. М.: No Kidding Press. 2022. С. 10.
[7] Захаров М. Указ. соч. С. 12.
[8] Горалик Л. Как размножаются Малфои. Жанр «фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом // Новый мир. № 12. 2003. С. 132.
[9] Горалик Л. Указ. соч. С. 136
[10] Захаров М. Указ. соч. С. 54.
[11] Горалик Л. Указ. соч. С. 132
[12] Зонтаг С. Указ. соч. С. 65-97.
[13] Зонтаг С. Там же. С. 65-97.
[14] Самутина Н. Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // Социологическое обозрение. № 3. 2013. 137-194. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию.
[15] Самутина Н. Указ. соч. С. 137-194
[16] Вербицкий М. ОНЕМЕНИЕ: Заметки о «Промышленной архитектуре» / Вербицкий М. — Текст: электронный (URL: http://imperium.lenin.ru/UR-REALIST/Oct2001/prom-arkh.html (дата обращения: 01.04.2025).)
[17] Барт Р. О чтении. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М: Изд-во им. Сабашниковых. 2003. С. 289-503. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию.
[18] Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс. 1994. С. 413-423.
[19] Найман Е., Суровцев В. ОТ ОСМЫСЛЕНИЯ К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ. ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ. Томск: Водолей. 1998. С. 4-7
[20] Самутина Н. Указ. соч. С. 137-194
[21] Jenkins H. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York, Routledge, 1992. P. 195.
[22] Самутина Н. Там же. С. 137-194
[23] «Хаски», рэп-исполнитель. На что я дрочу: [видео] / «℗ Хаски»; режиссер, автор музыки и слов Д. Кузнецов. — Изображение (движущееся; двухмерное). Музыка (исполнительская): электронные // Дмитрий Кузнецов: сайт. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=ad-ErisLeHQ (дата обращения: 01.04.2025). — Видеоклип был сделан в 2020 г.
[24] Конаков А. Вторая вненаходимая. Очерки неофициальной литературы СССР. СПб.: Транслит. 2017. С. 34-43.
[25] Конаков А. Указ. соч. С. 8-15
[26] Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс. 1994. С. 150
[27] Алексей Конаков. Указ. соч. С. 34-43.
[28] Барт Р. Указ. соч. С. 289-503.
[29] Скидан А. Сильнее урана // Воздух. № 3. 2006. С. 158.
[30] Там же. С. 163
