Флориан Форестье. Интервью с Франсуа Ларюэлем: Вокруг «Христо-фикции» (2015)
Перевод интервью Франсуа Ларюэля и Флориана Форестье[1], подготовленного для цифрового журнала Actu-Philosophia по случаю выхода работы «Christo-fiction: Les ruines d’Athènes et de Jérusalem» в 2014 году. Помимо изложения собственного понимания мессианизма (расходящегося с «деконструктивистским» мессианизмом Ж. Деррида и Дж. Капуто, одной из наиболее популярных вариаций на мессианскую тему в современной философии), в интервью Форестье и Ларюэль говорят о творческих поисках, непосредственно предшествующих появлению не-философии, а также взаимоотношениях Ларюэля с некоторыми ключевыми фигурами французской философии, психоанализа и деконструкции 70-х (среди них Делёз, Левинас, Лакан и Деррида и другие). Наконец, собеседники дают ретроспективную оценку не-философии в её становлении, отказавшись подразделять последнее на известные стадии (Философия I, предшествующая не-философии, и Философия II, III, IV и V, собственно, «не-философские» этапы), вместо этого обращаясь к более гибким и пластичным терминам потока и волны для передачи её нерефлексивности и направленности на постоянное изобретение.
Изображения взяты из фильма Бенуа Мэра Letre (Benoît Maire, 2015) с Анной-Франсуазой Шмид и Франсуа Ларюэлем
Флориан Форестье — Я думаю, что никого не удивлю, если назову Вас очень трудным автором. Я имею в виду, что при понимании Ваших работ, как мне кажется, сталкиваешься с двумя трудностями. Первая — наиболее очевидная — связана с их терминологией и с тем, каким способом раскрывается их содержание. Вторая трудность — которая, возможно, ещё серьезнее — заключается в том, чтобы понять, что не-философия подразумевает под терминами поступи [posture], диспозиции, к которым она обращается, чтобы подвесить или приостановить философию.
Франсуа Ларюэль — Конечно, я согласен насчёт трудностей при чтении [этих текстов]. Это можно объяснить их терминологией, их концептуальной насыщенностью [densité], часто слишком уж быстрой и, в определенные моменты, чересчур запальчивой [brûlant] манерой изложения. Я также соглашусь по поводу трудности их аксиоматики, хотя больше это касается моих первых исследований, поскольку я уже далеко ушёл от их формы. Я признаю эту трудность, но она проистекает из объема исследуемого материала, то есть, из многообразия философий, подлежащих исследованию, а также неявных отсылок. Я действительно делаю мало академических ссылок, как будто бы мне не была привита философская культура, хотя я и привязан к ней. Однако я не привязан к её объектам[2], в которых она фиксирует и определяет интересующие её темы. Возьмём пример из физики: движение волны происходит на поверхности воды, но это движение не обязательно принадлежит самой воде. Мой способ мыслить больше похож на поток — я пересекаю [je traverse] различные классические предметы философии, не останавливаясь ни на одном из них. Что меня интересует, так это движение мысли, её стрела или её вектор. Объекты философии служат для меня локальными и временными ресурсами [supports], и это составляет трудность моего стиля, во всех отношениях. В развитии моего творчества встречаются те или иные большие темы, но по всем ним проходит единый и то и дело слегка отклоняющийся от курса [oscillant] поток. Когда-то я разделял свои произведения на стадии (I, II, III, IV, V), но впоследствии отказался от этого, потому что, окажись я однажды на VIII-ой, эта последовательность потеряла бы всякий смысл. Я от неё отказался, и сегодня предпочел бы говорить о волнах, которые накрывают одна другую. Волны, которые устремляются к одной и той же проблеме и перемещаются по (и поднимаются из [se font à travers]) разнородной материи [matière]. Это то, что с трудом поддаётся пониманию с точки зрения любого подхода академического типа.
Флориан Форестье — Здесь я бы попросил Вас уточнить по поводу этой идеи материала [matériau], идеи исследовать различные философии — в классическом их понимании — как материалы для не-стандартной философии. Как Вы пишите, Ваш проект «состоит не в разрушении философии, но в изменении нашего отношения к ней и в преумножении способов её использования: построить не-философскую прагматику философии»[3]. Можете ли Вы вернуться к тому, что Вы понимаете под такого рода реапроприацией (даже если термин реапроприация, конечно, не совсем годится в данном случае)?
Франсуа Ларюэль — По сути, я использую один и тот же приём — моделирую при помощи различных материалов. Моя задача заключается в том, чтобы сделать их сподручными [leur mise en accès]. Я хочу сказать, что стремлюсь не усложнить философский материал новыми деталями, но осмыслить его иначе. Пользуясь формулой Делёза и Фуко[4], согласно которой философия является одним большим театром, можно сказать, что я имею с ней дело только через [à travers] разные способы разыгрывать [её материалы] — через само жестикулирование ими [à travers leur geste même]. Больше всего меня всегда интересовала манера жестикулирования, то, что можно назвать поступью [posture]. Конечно, я переходил от одного материала к другому, но самым важным было именно что переходить [между ними] — поддерживать этот переход. Отсюда следует определенная редукция материала к положению симптома, источник которого остаётся так или иначе тайной для нас, даже если на него попробовать выйти, придав этим материалам форму. Наука или мистика являются такого рода симптомами или эффектами, разными путями отсылая нас к жестикулированию, которым занимается мышление. Мысль, которую я пытаюсь развернуть, тоже меняется, поскольку материалы, через которые эта мысль разворачивается, меняясь, заставляют измениться и её. У не-философии нет сущности, которую можно было бы определить раз и навсегда. Она может быть разве что волновой — материалы не-философии имеют силу обратного воздействия на каждый совершаемый ею мыслительный ход.
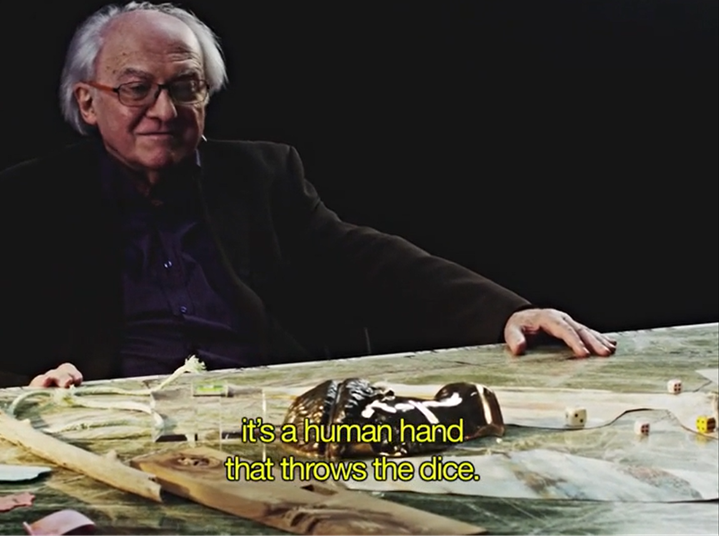
Флориан Форестье — Я хотел бы задержаться на этой идее сделать философский материал сподручным, которая мне кажется важнейшей для понимания Вашей работы: я думаю, что именно эта идея запрещает принимать не-философию за радикальную версию деконструкции. Тогда как деконструкция ставит под вопрос и демонтирует элементы философского синтаксиса, не-философия открывает для этих элементов новое применение. Прежде всего, не-философия имеет перформативное значение. Если я Вас правильно понимаю, то речь о том, чтобы подвесить философскую диспозицию целиком или что-то из неё, то, что Вы называете её достаточностью [suffisance]. Не быть захваченным философией, чтобы иначе понимать само философствование.
Франсуа Ларюэль — Философия является относительно устойчивой структурной, но с многообразием собственных применений. У философии нет абсолютной истины, нет философии «в себе». То, как я её исследую, предполагает структуру, многообразие способов относиться к ней. Моё собственное использование философии обосновывается этим многообразием. Вообще, философия имеет тенденцию запрещать, чтобы её использовали для чего-то. Она не хочет иметь ничего общего с поступью, с диспозицией. Я называю эту установку «Принципом достаточной философии», манерой, в которой она уполномочивает себя же саму накладывать вето на применение её родного дискурса. В некотором смысле, от нас требуется понять, что всё «зло» и «недостатки» философии заключены в её достаточности. Прежде всего, отказавшись считать, что она нацелена на непреложную истину.
Философия не владеет истиной, пусть даже истина это один из её предметов. Нужно понимать, что существует сложное отношение к практике философии с прагматической точки зрения. Это отношение изначально структурировано так, что его фундаментом выступает философия, но также и наука — например, аристотелевская или ньютоновская. Для меня же фундаментом данной структуры выступает квантовая формализация. Теперь речь идёт о том, чтобы развернуть другое, более изобретательное применение философии, разложив эти отношения, эти структуры, посредством которых она навязывала себя в качестве нормы и парадигмы существования [existence]. Поиск новых применений для философии нужно вести не исключительно в границах этой последней, поскольку это всё ещё означает принадлежать её традиции, даже когда речь идёт о критике философии, которая незначительно нарушает её уклад, но в прямой связи с наукой и её новаторскими и «прометеевскими» категориями. У меня квази-мессианское и несколько смягченное видение науки, прежде всего, — физики. Только сочетание научной и философской поступи даст нам отделаться от философской достаточности. Вот почему я возвращаю критиков философии обратно в её лоно, в её бесплодный порочный круг. Чтобы деконструировать себя, философия производит много новых категорий, по типу Иного (Иного, чем Бытие[5]), но их применение всё ещё вписано в философский круг. Заявлять, что философия, при помощи собственных объектов и эффектов, самостоятельно может этот круг разомкнуть (так же, как породить саму себя), всё ещё подразумевает её самодостаточность. [Философская] современность это само-критика как ещё одна вариация на тему само-порождения философии. Подобное размыкание нуждается в «окказиональном» стороннем не-философском вмешательстве, ровно как и в научном. Однако оно не должно совершаться наукой (причем, какой угодно) единолично, что вылилось бы в позитивизм и, в конечном счёте, в философию в её классическом смысле. Вместо этого следовало бы найти способ подсоединить науку к философии, чтобы предоставить доступ к тому, что если и является философией, то только в конечном счёте. В некотором смысле, не-философия всё ещё несёт в себе нечто от философии, но философии, которая больше не пытается порождать саму себя, делать из себя нечто неприкосновенное или священное. Такой философии, которая могла бы нам чем-то послужить.
Флориан Форестье — И которая не защищается [s’immunise] от своего использования… Поэтому я хотел бы вернуться к вопросу о науке: Вы часто, особенно в первых своих работах, призываете обратиться к опыту научного мышления [du scientifique] — призываете принять его собственную точку зрения; не одну только точку зрения философии, но и ту, и другую в их сложном согласованном взаимоотношении, которое упорядочивается и структурируется через [свою] имманентную формализацию. В «Философии и не-философии»[6] Вы говорите о науке как «непрозрачном», «нерефлексивном» мышлении — «определенной теоретической направленности [comportement]». Как Вы говорите, наука не нуждается в философском обосновании — позиция, которую позитивизм и сайентизм принимают иначе, чем Вы, поскольку им остаётся только подражать науке, так и не войдя в неё. Наконец, наука не является ответом на вопрос, что такое реальное, но лучшим инструментом, лучшим духовным упражнением [exercice spiritual] или «опытом мышления», чтобы действительно высвободиться из философской диспозиции.
Франсуа Ларюэль — Одно время я был склонен считать, что у науки есть более короткий путь к реальному, чем у философии. И я настаивал на непрозрачности научного мышления: на его прагматическом и формальном измерении, в определенной степени независимом от рефлексии. Как Вы и сказали, ранее я выдвигал на первый план её теоретическую направленность. Сегодня я бы строже отнесся к этой идее, которая нуждалась бы в уточнении и пояснении, однако, мысль о некоем нерефлексивном способе философствования [philosophème irréfléchi] осталась со мной.
Флориан Форестье — Можно сказать, что наука вводит в игру иную форму дистанцирования, не рефлексивного, а стратегического;
Франсуа Ларюэль — Не только, но, по большему счёту, да. Отсюда моё не-позитивистское обращение к квантовой механике, но я думаю, что у нас ещё будет повод к этому вернуться.

Флориан Форестье — Теперь, после того был очерчен общий контекст, может быть, мы сможем перейти к тому маршруту, который Вы для себя выбрали, и к пройденному Вами пути. И, возможно, начать стоит с того, как Ваше противостояние современной философской проблематике и наследию истории философии, привело Вас к не-философии. Мы можем также обсудить те отношения и споры, которые завязались у Вас с другими современными авторами, особенно с Делёзом и Деррида.
Франсуа Ларюэль — Я начинал с масштабной работы вокруг нескольких современных философов, четырехугольника Ницше/Делёз, Хайдеггер/Деррида. К этим четырем именам можно также прибавить имя Левинаса, с которым я работал не напрямую, но который оказал большое влияние на меня, показав, как можно вырваться из власти философского логоса.
Изучая различные напряжения, возникающие внутри этого четырехугольника, я осознал, что философии кое-чего недостает: ей недостает особого понимания Одного. В то время главным вопросом было напряжение между мышлением Бытия и мышлением Иного. Но по-настоящему самостоятельно осмыслить Одно, заняться проблемой Одного, ещё только предстояло. К этому я и приступил в «Принципе меньшинств»[7], но главным образом — в «Биографии обычного человека»[8]: поставив вопрос о проблеме Одного и её месте [в современной мысли].
Флориан Форестье — К слову об этом. Вы подходите к данному вопросу иначе, чем такие авторы, как, например, Мишель Анри. Вы не пытаетесь развернуть генеалогию Одного, раскрыть или описать его структуру — Ваше мышление это ни мышление «об» Одном, ни схватывание, с помощью мышления, Одного в его немыслимости, ни даже схватывание самой этой немыслимости как того, что указывает на Одно или является открытостью [ouverture] Одному, но, скорее, мышление «согласно» Одному, как Вы любите это называть. В интервью с Жаном-Дидье Вагнором в «В качестве Одного»[9], Вы говорите, что Ваш проект изначально заключался в том, чтобы «достичь наиболее радикальной индивидуальности, какой только возможно, обращаясь для этого к традиционным средствам философии (Ницше)», «помыслить индивида», но в «Биографии обычного человека» задача уже состояла в том, чтобы «предположить индивида уже данным, а не искать его».
Франсуа Ларюэль — Да, по этому вопросу в 80-е у меня была дискуссия, в частности, с Мишелем Анри. Я попытался сказать ему что-то вроде: Вы боретесь против Одного. Представим, что вместо борьбы против Одного, мы бы, напротив, попробовали понять, что следует из допущения его существования [que j’en tire les conséquences]: если мы признаем его, что это будет значить для мышления и особенно для философии?
Флориан Форестье — Можно, в таком случае, допустить, что между тем, как устроена не-философская мысль, и классической немецкой философией, существует некоторое родство, прежде всего — с Фихте. И там, и там Абсолют перестаёт быть чем-то, что нужно постичь или во что нужно проникнуть [мыслью]: теперь Абсолют это то, благодаря чему развертывается система и её экономия. Что обязывает меня постулировать Абсолют, и что понуждает моё мышление принимать абсолютность самого Абсолюта?
Франсуа Ларюэль — Да, более того, моя дискуссия с Фихте изложена в «Принципах не-философии». Я высоко ценю прочтение Фихте у Филоненко («Человеческая свобода в философии Фихте»[10]).
Флориан Форестье — Можно ещё упомянуть, что Фихте предлагают новую, постоянно модифицируемую доктрину науки. В отличие от Гегеля, философия здесь не завершается и не преодолевается. Ведь так она только получает ещё больше контроля над своим собственным применением. Я не могу здесь не вспомнить о важности Фихте для одного автора, над которым много работал я сам — я говорю о Марке Ришире и о том, как выстраивает свою собственную феноменологию, движущуюся как бы зигзагом: те или иные измерения [dimensions] высвобождаются друг по отношению к другу в особой мыслительной операции, которая распутывает и располагает их так, чтобы мысль отталкивалась от них[11]. Мне кажется, [Вас с ним] объединяет общая манера обращаться с философской концептуальностью. Тем более что Марк Ришир это, прежде всего, физик, и он тоже обращается к квантовой механике — особенно, в том её аспекте, где она имеет дело с виртуальными частицами — которой вдохновлена его философия.
Франсуа Ларюэль — Я считаю обращение к физике более плодотворным, чем к математике. Последняя всегда была связана с философским старшинством [l’autorité philosophique], тогда как физика — как в случае квантовой — имеет дело с мыслительными стратегиями, с интерпретационными жестами. Что меня отдаляет, например, от Бадью, так это его математический фундаментализм, который идёт рука об руку с философским фундаментализмом. Математики потворствуют стратегии доминирования и завоеванию господства философией. У Бадью философия пере-учреждается с нуля — пере-учреждается с новыми объектами, но с прежними способами своего использования и функциями. Так получается очень красивая конструкция, но это не та философия, которую можно было бы применять, она слишком вдохновлена волей к доминированию.
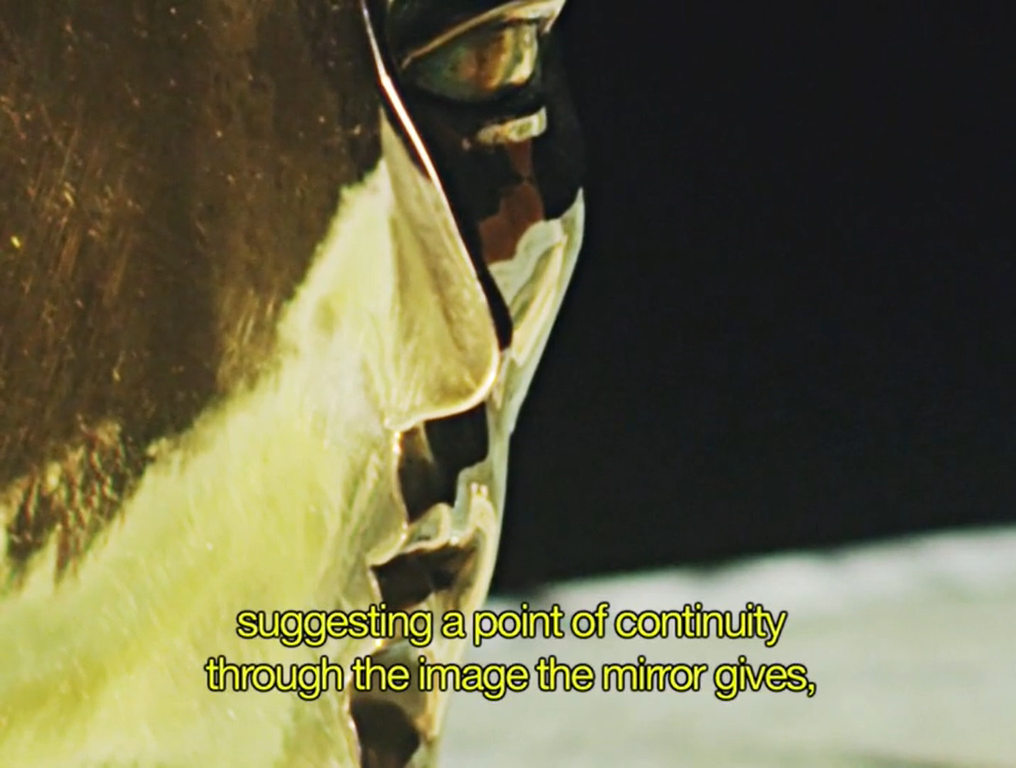
Флориан Форестье — Мы вспомнили о Мишеле Анри, и только что Вы говорили об Алене Бадью, которому посвятили отдельную книгу («Анти-Бадью: О введении маоизма в философию»[12]). Можем ли мы вернуться к Вашим дебатам с философиями различия и их философами — с Делёзом и Деррида в частности?
Франсуа Ларюэль — Я противопоставил Одно различию и философиям различия, в частности, философиям Делёза и Деррида — тому различию, которому суждено стать новым философским Абсолютом, сменяющим Бытие. Тем не мене, уточню, я хорошо знал Делёза, кем я всегда восхищался. Он обладает философской гениальностью, по-настоящему достойной восхищения — особенно, гениальностью формулы, насыщенности [densité] и… танца. Ещё лучше я знал Деррида, а также немного Левинаса, чьим соратником [collègue] я был в молодости, и которому я посвятил коллективный сборник «Тексты за Эмануэля Левинаса»[13], куда входили тексты Деррида, Лиотара, Рикёра, Дюфрена, Жабеса, Бланшо. Как я говорил до этого, Левинас это не философ Иного [un philosophe de l’Autre]. Философ Иного — это Деррида. Левинас говорит о другом человеке [autrui]; и он ставит под вопрос главенство философии куда лучше, чем Деррида.
Флориан Форестье — Получился ли между Вами, Делёзом и Деррида диалог?
Франсуа Ларюэль — Делёз посвятил мне два примечания в «Что такое философия», которые были ошибочны по содержанию. В свойственной ему гениальной манере плести [tordre] отсылки, Делёз прочёл мой проект как возвращение к спинозизму Единого Бога[14].
Я попытался ответить на выступлении в Коллеже Философии [Collège international de Philosophie], а затем в коллективном сборнике «Не-философия современников»[15], подчеркнув различие между философией Спинозы, задающей направление [для делёзовской мысли], и не-философией, которую Делёз присваивает, но робко, немного как Мерло-Понти[16]. Я предоставил более глубокий ответ в «Философиях различия»[17].
В «Уклоне письма»[18] я объяснился с Деррида[19]. Эта книга вышла вслед за интервью с ним, Жаном-Люком Нанси, Сарой Кофман, Филиппом Лаку-Лабартом, интервью, которые были достаточно длинными, как это всегда бывает, когда общаешься с учеником. Вообще, диалог с Деррида был трудным и напряженным. Во время нашего спора на заседании в Международном колледже философии он обвинил меня в полемосе[20]. Когда я пробовал показать, в чем, по-моему, деконструкция оставалась слишком философичной, Деррида сказал мне: «это прямо как в Чикаго, Вы выхватываете моё оружие и направляете его против меня». Допустим, чтобы направить револьвер против его владельца, нужна определенная прыткость и неоспоримое мастерство…

Флориан Форестье — А что насчёт Лакана? Не знаю, согласитесь ли Вы, но ближе всего к Вашей мысли мне кажется именно Лакан из-за его способа применять философию, делая из неё симптом. Что касается меня, то это после Лакана мне стало казаться, что я начал Вас понимать, но также, возможно, после работы Дидье Мулинье «От психоанализа к не-философии: Лакан и Ларюэль»[21].
Франсуа Ларюэль — Да, конечно, но это скорее косвенное влияние. Некоторые тезисы и позиции Лакана повлияли на меня. И всё же я не такой заядлый [systématique] читатель Лакана. Это «влияние» более неопределенное.
Флориан Форестье — Существует определенный способ «вопрошать» о реальном или, возможно — в случае философии — быть обреченным на то, чтобы его «клонировать».
Франсуа Ларюэль — Да, клонировать. В «Принципах не-философии» я разработал целую теорию того, что я называю трансцендентальным клонированием. Но я не мыслю реальное как нечто исключительно негативное или подлежащее вычету [soustractive]. С тем же успехом можно сказать, что-то, что я пытаюсь помыслить, это данное без выдачи [donné sans donation][22].
Флориан Форестье — Я только добавлю здесь, что некоторые философы отказываются от этой терминологии данного. Жоселин Бенуа полагает, что реальное это то, что у нас перед глазами [ce qu’on a], с чем мы имеем дело и с чем мы сталкиваемся непосредственно, а не то, что было бы нам дано и к чему нужно было бы иметь доступ[23].
Ещё одним важным аспектом Вашей работы было показать значение дуальностей, которые структурируют философию, и логики, которая лежит в их основе. Вы довольно часто говорили об этом (уже в интервью 1990 года с Жаном Дидье Вагнором, опубликованном в «В качестве одного», где вы даёте очень подробный и ясный ответ), поэтому я не буду просить Вас повторить здесь всё, что Вы могли бы сказать по данному поводу.
Франсуа Ларюэль — Эта тема имеет ключевое значение. Я решил проанализировать философию как извлечение и оперирование дуальностями. Возьмём дуальность между опытом и a priori в трансцендентальной философии. Философия это двухэтажный дом, где второй этаж может служить в качестве наблюдательной вышки, разом являющейся частью дома и чем-то отдельным от него. Есть цокольный этаж [rez-de-chaussé], первый этаж и наблюдательная вышка, которая позволяет обозреть пейзаж целиком. После Канта эта смотровая площадка становится трансцендентальной; паноптикум — показательный пример в данном случае. Этой логике я противопоставляю другую, вдохновленную квантовой механикой и функционирующую, скорее, не через синтезы, а через наложения или суперпозиции. В квантовой механике два состояния могут быть наложены [superposes] друг на друга, из этого наложения возникает новое состояние [но] прежнего типа. Суперпозиция выступает в качестве своего рода трансцендентального, которое постоянно вбирает назад свою трансцендентность и приводит к новому состоянию — к имманентности, а не к очередному моменту синтеза.
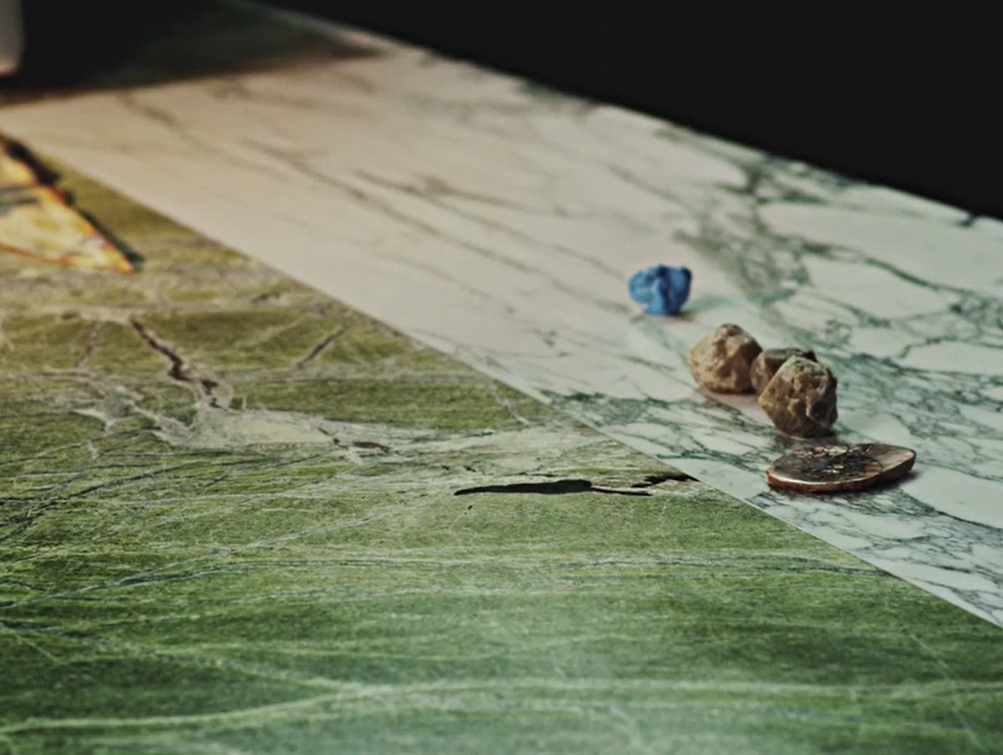
Флориан Форестье — Кажется, что обращение к квантовой механике свидетельствует об эволюции в том, как Вы видите не-философию и представляете её публике. Вначале Вами был сделан выбор в пользу аксиоматического трансценденталистского изложения, и в пользу формализма, которым был очарован ещё Лакан: формализм это то, что заставляет мыслить [force la pensée], принуждает нас мыслить, отказавшись от понимания. Аксиоматика порывает с рефлексией. В не-стандартной философии мы как бы переходим от фазы симптоматизации [философии] к фазе, на которой получают развитие новые способы [её] применения.
Франсуа Ларюэль — Вначале я выстраивал не-философию, используя для этого аксиомы. Аксиома есть то нечто, что заставляет нас мыслить — вопрос о том, что заставляет нас мыслить, чрезвычайно важен для Делёза[24], но также для Деррида и Лакана. В данный момент я смотрю в сторону модели из квантовой физики, но упрощенной и квалитативной: теперь мы имеем дело не аксиомами, но с концептами, суперпозициями и не-коммуникативностью[25]. Для начала следует вывести некое состояние неопределенности [état indéterminé], образуемое потенциалами и виртуальностями. Путём отбора (с помощью системы дизъюнкций и разрезов) мы добиваемся конкретизации одного из потенциалов или приходим к его непредвиденному раскрытию [realization aléatoire].
Флориан Форестье — Здесь в дело вступает измерение фикции. Открыть философию для новых применений означает сделать её способной к изобретению — изобретению чего-то через особую практику философии. Тема фикции уже давно присутствует в Вашем творчестве.
Франсуа Ларюэль — Я питаю большой интерес к фикции как к вектору или направлению истины. Я уже очень давно говорю о фикции, но, о моделировании или об установке на вымысел [posture fictionnante] я начал говорить относительно недавно. Я ищу, как можно противостоять присвоению [фикции] философской достаточностью, которая — я забыл это уточнить, настолько для меня это очевидно — по смыслу шире всего того, что принято понимать под «философией».
Флориан Форестье — Мы переходим к последнему кругу вопросов, касающихся Ваших недавних размышлений о мессианстве и мессианизме. Кажется, что после периода формальной критики — периода разочарования, можно было бы сказать — Вы вернулись к чему-то такому, что является, если не повторным обретением веры в философию, то, по крайней мере, возвращением надежды на неё.
Франсуа Ларюэль — Возможно, здесь действительно уместно говорить о надежде. Но я не рискну говорить о надежде-фикции [espérance-fiction]! Я уже давно не христианин и ещё меньше тот, кого можно было бы назвать верующим. На худой конец, если угодно, «христианский мыслитель». У меня эта формулировка вызывает меньше возражений, поскольку христианство всегда отзывалось во мне своими мятежными настроениями [postures de résistance], из которых рождается своего рода атмосфера или вариационная форма, задающая ход моей мысли. Вопрос мессианизма уже очень давно сопровождает её, словно некая мелодия или лейтмотив. Мессианизм это само определение человека. То, что я назвал обычным человеком — это человек, лишенный своих философских атрибутов, и чья сущность — если она у него вообще остаётся — это мессианство. Каждый человек это христианское событие, способное вызвать перевороты и потрясения.
Флориан Форестье — Вам известно, что тема мессианизма широко представлена в современной философии, особенно у Деррида. Как вы позиционируете себя по отношению к деконструктивистскому мессианизму?
Франсуа Ларюэль — Мне кажется, что у Деррида мессианическая структура является чрезмерно иудаистской, можно сказать — абстрактной. Это мессианизм формы: «может ли нечто произойти?»
Флориан Форестье — Освещая дебаты между Деррида и Марионом[26], Капуто, чтобы как-то определить дерридианский мессианизм, использовал следующую форму: когда придёшь ты[27]? Вы затрагиваете эту тему в «Христо-фикции»[28].
Франсуа Ларюэль — Моё понимание мессианизма ориентировано на изобретение и открытие, на родовое человеческое в них, а не только на пришествие [venue] Другого человека [l’Autre homme]. Все мы являемся Христами, и этот мессианизм — не пустынность иудаистского ожидания и не наполненная действительность «реального присутствия» в христианстве, это мессианизм, в котором ожидание и надежда должны принять на себя неведение, сплетающее случайные события [qui tisse l’aléatoire]. Мы, каждый человек, уверены в том, что являемся первым пришествием мессии, не ведая о дне и часе этого пришествия.
Флориан Форестье — Так Вы оказываетесь практически в самом центре французской метафизики, особенно — метафизики Бергсона.
Франсуа Ларюэль — Меня интересует такой мессианизм, для которого творение [creation] — это предмет ожидания и само ожидание как творчество или действие [œuvre]. Не-философия стала более позитивной, как мысль Ницше, которой необходимо было пройти через крайне критическую фазу «Человеческого, слишком человеческого», являющуюся, по сути, тотальной редукцией философии с помощью физики и физиологии, прямым нападением на религию. Без философствования нельзя обойтись, даже если оно и плетётся «в хвосте». Таким образом, самое важное — это привести в действие саму философию, нежели действовать с её помощью [mettre la philosophie « à l’œuvre » plutôt qu’ « en œuvre»].
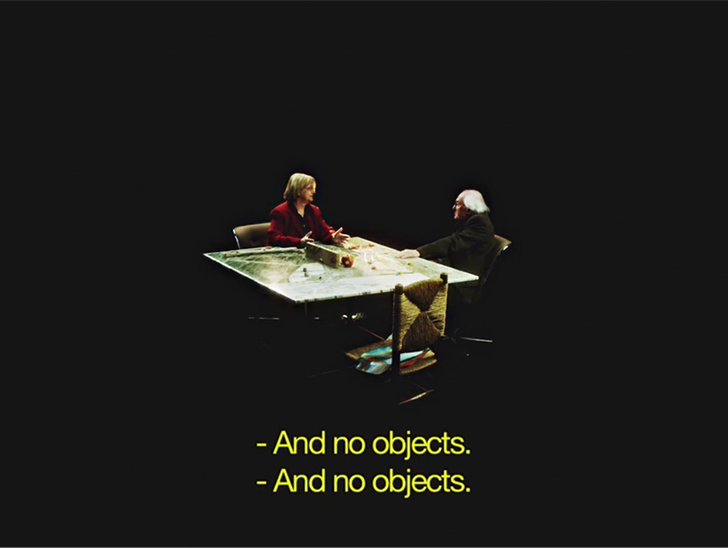
[1] См. также интервью Флориана Форестье с Марком Риширом, также размещенные на Actu-Philosophia (подготовлено not_saved): https://syg.ma/@not_saved/intervyu-s-markom-rishirom-chast-1-perevod-s-francuzskogo; https://syg.ma/@not_saved/intervyu-s-markom-rishirom-chast-2-perevod-s-francuzskogo — прим. перевод.
[2] В нескольких местах, где того требует звучание, термин posture (поступь) было решено переводить как установку. По той же причине objet появляется в тексте и как предмет, и как объект. — прим. перевод.
[3] Laruelle F. En tant qu’un. La «non-philosophie» expliquée aux philosophes. Paris: Aubier, 1991. P. 29.
[4] См. Фуко М Theatrum philosophicum // Делёз Ж. Логика смысла / пер. с фр. Я. И. Свирского. М.: Академический Проект, 2011. С. 438-470; См. Введение к Делёз Ж. Различие и повторение / пер с фр. Н. Маньковской, Э. Юровской. ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 20-25. Deleuze G. Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France, 1968 pp. 15-20. — прим. перевод.
[5] Вероятно, отсылка к книге Левинаса Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence. La Haye: Martinus Nijhoff, 1974. — прим. перевод.
[6] Laruelle F. Philosophie et non-philosophie. Liege; Bruxelles: Mardaga, 1989; Ларюэль Ф. Философия и не-философия. Введение / пер. с фр. Н. Архипова // Еще один, 1(1), 2024. С. 49-94. — прим. перевод.
[7] Laruelle F. Le principe de minorité. Paris: Aubier, 1981.
[8] Laruelle F. Une biographie de l’homme ordinaire. Des autorités et des minrorités. Paris: Aubier, 1985.
[9] Laruelle F. En tant qu’un. La «non-philosophie» expliquée aux philosophes. Paris: Aubier, 1991. pp. 207-226; Ларюэль Ф. Ересь. Большое интервью о «Биографии ординарного человека» / пер. с фр. Н. Архипова // Syg.ma. URL: https://syg.ma/@nikita-archipov/fransua-laryuel-eres-bolshoe-intervyu-o-biografii-ordinarnogo-cheloveka — прим. перевод.
[10] Philonenko A. La liberté humaine dans la philosophie de Fichte. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1980.
[11] Richir M. Méditations phénoménologiques: Phénoménologie et phénoménologie du langage. Grenoble: Jérôme Millon, 1992. pp. 12-23; Ришир М. Первое размышление: Введение. О феноменологическом анализе как движении зигзагом / пер. с фр. А. Ямпольской, С. Карлсон // HORIZON. Феноменологические исследования, 9(1), 2020. С. 283-305. — прим. перевод.
[12] Laruelle F. Anti-Badiou. Sur l’introduction du maoïsme dans la philosophie. Paris: Éditions Kimé, 2011.
[13] Laruelle F. Au-delà du pouvoir. Le concept transcendantal de la diaspora // Textes pour Emmanuel Lévinas, ed. François Laruelle, Paris: Éditions Jean-Michel Place, 1980, pp. 111-126; Ларюэль Ф. По ту сторону власти. Трансцендентальное понятие диаспоры / пер. с фр. А. Сковородко // Еще один, 2(1), 2024. С. 189-212. — прим. перевод.
[14] «Одну из самых интересных попыток в современной философии предпринял Франсуа Ларюэль: он обращается к некоторой Всецелости [в оригинале стоит Un-Tout, букв. Все-Единое — прим. перевод.], которую характеризует как "нефилософскую" и, странным образом, "научную" и в которой коренится "философское решение". Такая Всецелость напоминает Спинозу» Делёз Ж. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. М.: Академический Проект, 2009. С. 50; «Франсуа Ларюэль предлагает понимать не-философию как "реальность науки" по ту сторону самого объекта познания… Но тогда непонятно, почему такая реальность науки не является также и ненаукой» Там же. С. 253.
[15] Ларюэль Ф. Ответ Делезу. Я, философ, лгу / пер. с фр. М. Лясковского // Еще один, 1(1), 2024. С. 267-311; Laruelle F. Réponse à Deleuze // La Non-Philosophie des Contemporains. Paris: Kime, 1995, pp. 49-78. — прим. перевод.
[16] Замечания на тему встречаются в Мерло-Понти М. Знаки. Москва: Искусство, 2001; Possibilités de la philosophie // Résumés de cours. Collège de France 1952-1960. Paris: Gallimard, 1968. pp. 141-156. — прим. перевод.
[17] Laruelle F. Les philosophies de la difference. Paris: PUF, 1986.
[18] Laruelle F. Le déclin de l’écriture. Paris: Flammarion, 1977.
[19] См. перевод беседы Деррида и Ларюэля: Деррида Ж., Ларюэль Ф. Уклон письма, 1977 / пер. с фр. А. Морозова // заводной карнап. URL: https://teletype.in/@rezkonedristani/ecart
[20] Derrida J. Laruelle F. Controverse sur la possibilité d’une science de la philosophie // La Décision Philosophique, 5, 1988, pp. 63-76; Английскй перевод: Derrida J. Laruelle F. Controversy over the Possibility of a Science of Philosophy / trans. by R. Brassier and R. Mackay // The Non-Philosophy Project. Essays by Franзois Laruelle. New York: Telos Press Publishing, 2012. pp. 76-95. — прим. перевод.
[21] Moilinier D. De la psychanalyse à la non-philosophie Lacan et Laruelle. Paris: Éditions Kimé, 1995. — прим. перевод.
[22] См. Ларюэль Ф. Начала не-философии. Введение / пер. с фр. Н. Архипова // Еще один, 1(1), 2024. С. 105. — прим. перевод.
[23] См. Бенуа Ж. Реализм и метафизика / пер. с нем. Ф. Лоран // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, 6, 2016. Поскольку в данный момент ссылка на сайт журнала не активна, ознакомиться с текстом можно здесь — прим. перевод.
[24] «В мире есть нечто, заставляющее мыслит [force à penser]»; «Глупость [bêtise] (а не ошибка [erreur]) — наибольшее бессилие мышления, но и источник его высшей власти над тем, что заставляет мыслить [force à penser]» Делёз Ж. Различие и повторение / пер с фр. Н. Маньковской, Э. Юровской. ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 175, 332; Deleuze G. Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France, 1968. P. 182, 353. — прим. перевод. Более подробно см. С. 174-185, P. 180-191.
[25] «Не-коммуникативность. Один из двух универсальных принципов Квантовой Механики (алгебраического происхождения), наряду с принципом суперпозиции. Согласно ему, обратные произведения двух "физических величин" [produits inverses de deux "quantités physiques"] не равны между собой или не сообщаются друг с другом. Будучи трансформированным здесь в правило унилатеральности или Последней Инстанции, от которой он неотделим, этот принцип гласит, что Последняя Инстанция (как родовая) и философия, являющаяся её объектом и тем, что запускает её герменевтическую работу [occasion herméneutique], не сообщаются друг с другом или образуют унилатеральную дополнительность или комплементарность» Laruelle F. Philosophie Non-Standard: Generique, Quantique, Philo-Fiction. Paris: Kimé, 2010. P. 56. — прим. перевод.
[26] О Даре: Дискуссия между Жаком Деррида и Жан-Люком Марионом / пер. с англ. В. Рокитянского // Логос, 3(82), 2011. C. 144-171. — прим. перевод.
[27] Caputo J.D., Arrien S-J. Apôtres de l’impossible: sur Dieu et le don chez Derrida et Marion, Philosophie, 2(78), 2003. pp. 33-51; Первоначально комментарий Капуто (под названием Apostles of Impossible: On God and Gift in Derrida and Marion; французский текст представляет его расширенную версию), как и дискуссия Мариона и Деррида, были опубликованы в сборнике God, the Gift, and Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1999. pp. 54-79, 185-223; Можно добавить, что данная формула применялась и до Капуто: в частности, её можно встретить у Бланшо и у самого Деррида: «Еврейский мессианизм (у ряда комментаторов) даёт нам прочувствовать связь между событием [événement] и несбыточностью [inavènement]. Если Мессия стоит у ворот Рима, среди нищих и прокаженных, можно подумать, что его неузнанность оберегает его [от чужих глаз] или препятствует его прибытию [venue]. И всё же, его узнали; кто-то, мучимый желанием спросить, обращается к нему с вопросом: "Когда ты придёшь [Quand viendras-tu]"? Быть здесь, следовательно, ещё не означает прийти. Находясь подле Мессии, который уже здесь, до́лжно продолжать звать: "Приди, приди". Его присутствие [presence] не гарантировано. Только ещё грядущее или уже прошедшее (ибо сказано, что Мессия уже пришёл, как минимум однажды), его прибытие не совпадает с присутствием. Теперь недостаточно одного зова; существуют известные условия [conditions] [для этого прибытия], будь то усилие самих людей, их добродетель, их покаяние; но всегда есть такие условия, о которых мы ничего не знаем. И если случится так, что, на вопрос "В какой час твоё прибытие?" Мессия ответит "Сегодня", то такой ответ, несомненно, поразит: получается, сегодня. Это означает сейчас [maintenant], всегда сейчас» Blanchot M. L'Écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980, p. 214-215; Деррида приводит цитату из Бланшо, говоря о мессианском ожидании в «Политиках дружбы». См. Derrida J. Politiques de l’amitié suivi de L’oreille de Heidegger Paris: Editions Galilée, 1994. P. 55; Derrida J. The Politics of Friendship / trans. by G. Collins. New York, London: VERSO, 2005. P. 37, 46 — прим. перевод.
[28] Laruelle F. Christo-fiction. Paris: Fayard, 2014.
Перевел – Александр Сковородко (https://t.me/nosmessiesordinaires)
