Лингвистика власти: Свобода против Царства. Тесно ли анархизму в марксизме?
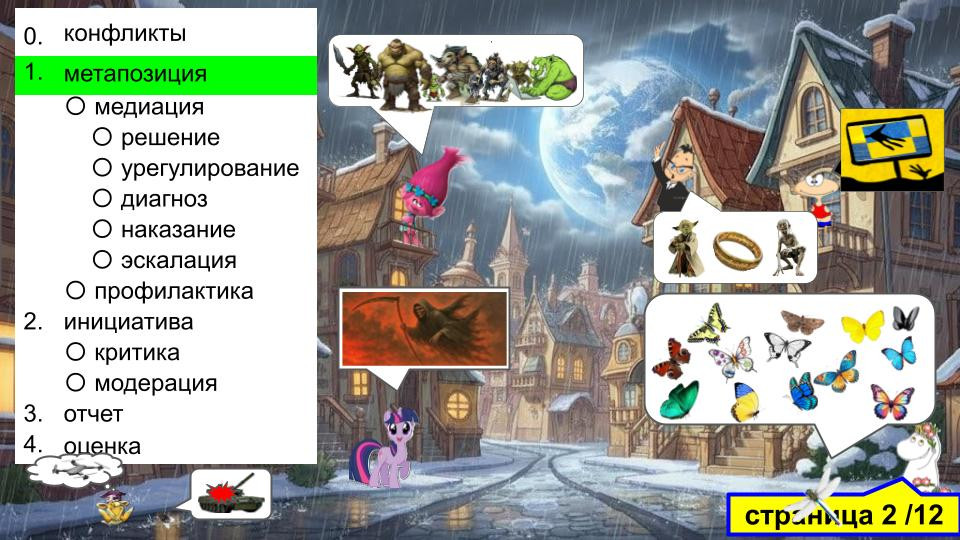
Марксистская терминология широко используется анархистами. Это объясняется тем, что марксизм и анархизм во многом разделяют конечную цель, а марксистская теория была проверена в исторической практике крупных государств. Кроме того, марксизм дал язык для анализа эксплуатации и ввёл понятия, ранее отсутствовавшие.
Однако экономическая эксплуатация — не единственная форма господства. Власть проявляется и вне экономических отношений. Классовая теория не всегда объясняет формы угнетения, не сводимые к экономике. Поэтому анархизм предлагает более широкий анализ, включая интерсекциональный подход, где классовое угнетение — лишь один из видов.
Особое внимание заслуживает термин «диктатура пролетариата». Лингвистически он соединяет противоположности: диктатуру и освобождение. Аналогичное напряжение присутствует в формуле «царство свободы». В фундаменте теории оказываются конструкции, в которых противоречие заложено уже на уровне языка. Язык задаёт рамку действия, и практика затем выстраивается внутри этой рамки.
Отказываться от марксистской терминологии полностью нецелесообразно, но необходимо развивать собственный понятийный аппарат и практику, применимую к современному капитализму.
Современность характеризуется конкуренцией, войнами и технологическим ускорением. Иллюзия конца больших войн оказалась ошибочной. При этом впервые существует риск глобального самоуничтожения.
Технологии развиваются быстрее, чем формируется коллективная этика их применения. Искусственный интеллект уже используется, в том числе анархистами, но создаётся корпорациями. Развитие автономных технологий требует инфраструктуры и ясных целей.
Поддержка технологического развития «снизу» необходима, но важнее фундаментальнее коллективные принятия решений. Федеративные структуры слабы, а опыт самоуправления передаётся фрагментарно. Самоорганизации вынуждены развиваться вслепую.
Сегодняшний политический ландшафт — это арена конкуренции. Государства выясняют отношения с помощью санкций и оружия, а внутри них разгорается не менее ожесточённая борьба политических групп за влияние, интерпретацию событий и право говорить от имени общества. Война становится не только трагедией и разрушением, но и ускорителем внутреннего соперничества. Каждая сила стремится встроить происходящее в собственный нарратив, мобилизовать сторонников, укрепить позиции и перераспределить ресурсы — организационные, медийные, моральные. В лучшем случае группы действительно помогают жертвам, в худшем — начинают делить пострадавших на «своих» и «чужих», дискредитировать инициативы оппонентов или препятствовать помощи тем, кто ассоциируется с враждебной стороной.
Так формируется модель, в которой внешняя война государств воспроизводится внутри политической сцены — там, где она еще не зачищена диктатурами. Интерпретации действий государственных структур оправдывают убийства людей, которые становятся не объектом солидарности, а ресурсом борьбы империалистов между собой.
