«Военная трилогия». Часть третья
Оксана Тимофеева — философ, доцент Европейского Университета в
Это эссе — третья часть «Военной трилогии», личных заметок Оксаны о войне в Украине и не только, которые она вела с 2014 по 2016 год. На английском трилогия вышла целиком в 2018, на немецком в 2016 г. (Timofeeva O. ‘Kriegstrilogie’ // Lettre International. 2016. 115, s. 109-116). На русском первая часть трилогии, «И мёртвые не уцелеют» , была опубликована на сайте Openleft в 2014 г., вторая — «Солдаты и проститутки» — на «Сигме» в 2015-м.
Третья часть написана по мотивам поездки на Западный Берег реки Иордан и на русском публикуется впервые. Русское издание «Военной трилогии» готовится к публикации.
Леопардовые штаны
Как-то раз, летом 2015-го, я случайно подслушала, как две студентки-магистрантки обсуждали между собой популярные штаны с леопардовым принтом. Как можно — и можно ли вообще — их носить? Не всякий осмелился бы надеть пусть даже модный, но так близко граничащий с вульгарностью предмет гардероба. И, однако, именно такие штаны через полгода после этого разговора мы купили с одной из его участниц. Мы привезли их из Рамаллы, где проходила конференция, посвященная Вальтеру Беньямину. Рамалла не из тех мест, до которых легко добраться, и, определенно, не самое безопасное поселение на Западном берегу реки Иордан, в центре оккупированных Израилем и окруженных стеной палестинских территорий. Тем не менее, более сотни человек со всего мира проделали этот путь, чтобы понять, как на самом деле должен выглядеть Ангел истории.
От Дамасских ворот в Иерусалиме до Рамаллы мы с Машей и Ксенией ехали настолько усталые, что даже не заметили, как автобус пересек чекпойнт, а когда вышли, было уже темно и холодно. По традиции старые арабские города не имеют улиц в привычном нам смысле, у них какая-то другая география, поэтому, следуя скорее очень условной карте, мы не сразу нашли свои апартаменты. На улицах велась оживленная торговля. В
Квартира была в целом неплохая, но совершенно остывшая — очевидно, до нас в ней долго никто не жил. В первую ночь нам так и не удалось понять, как настроить кондиционер, чтобы прогреть помещение, и включить бойлер, чтобы принять душ. На улице было около нуля, и, наверное, то же самое внутри — слишком холодно для такой принцессы, как я. Пришлось спать, не снимая куртки, шапки, шарфа и даже перчаток, накрывшись тремя одеялами. Мы думали о беженцах, о том, как они живут в своих палатках всю зиму, без тепла и горячей воды, — а наутро вышли в город и первым же делом купили толстовки, мягкие тапочки, пушистые носки и леопардовые штаны.

Конференция проходила хорошо, хотя периодически прерывалась сообщениями, которые никак не увязывались с рутиной академического мероприятия: некоторые участники не смогли добраться, потому что их остановили на чекпойнте и не пустили за разделительный барьер; один из слушателей семинара остановился у своих друзей в университетском кампусе, куда ночью ворвались солдаты со слезоточивым газом; взрыв произошел напротив хостела, где проходила вечеринка; разрушили библиотеку… Местные объяснили нам, что это случается каждую ночь: израильские солдаты появляются без предупреждения, заходят в любой дом, переворачивают там все вверх дном и уходят — иногда без объяснений, а иногда кого-нибудь арестуют или скажут, что предотвращали террористическую угрозу. Это называется оккупация.
На моих глазах ничего подобного не происходило вплоть до последней ночи в Рамалле, когда меня разбудили доносящиеся с улицы звуки. Лежа в постели, еще в полусне, я навострила уши, как зверь в своей норе. Голоса людей, время от времени раздающийся крик, убегающие шаги, тишина, снова голоса, что-то похожее на фейерверк, пугающая тишина. И тут раздался взрыв. Я никогда раньше не слышала взрывов, но этот звук невозможно было ни с чем перепутать. Это точно был взрыв. Как будто где-то не здесь, где-то далеко, не то чтобы громкий, но глубокий, долгий, раскатистый звук. «Бабах!» — вот как он прозвучал, и все наполнилось эхом. Я почувствовала страх. Не
Через некоторое время я
Утром улица снова бурлила жизнью — люди вели себя, как ни в чем не бывало, здоровались, продавали и покупали мелкие товары, пили кофе, ели шаверму. В свете дня город выглядел весело. В этот момент я, наконец, поняла, что имел в виду Славой Жижек, когда, днем раньше, выступая в огромной аудитории университета Бирцейт, говорил о «достоинстве обыденной жизни». Проводя историческую параллель, Славой упомянул Балканские войны 1990-х и осаду Сараево. Вот что он пишет в книге «Метастазы наслаждения»:
Вспомним хотя бы типичный репортаж из осажденного Сараево: корреспонденты соревнуются, кто найдет более отвратительную сцену — разорванные тела детей, изнасилованные женщины, истощенные пленники — всем этим кормят жадный западный взгляд. При этом медиа гораздо более сдержаны в словах, если речь заходит о том, как жители Сараево отчаянно пытаются поддерживать видимость нормальной жизни. Трагедия Сараево — в пожилом служащем, который каждый день ходит на работу, как обычно, но вынужден ускорить шаг на некоторых перекрестках, потому что на холме неподалеку маячит сербский снайпер; в дискотеке, которая продолжается несмотря на взрывы позади здания; в молодой женщине, которая бежит через руины в суд, чтобы получить развод и наконец начать новую жизнь со своим любимым; в ежемесячных выпусках «Кино Боснии» весной 1993 г., посвященных Скорсезе и Альмодовару….[1]
Приводя в пример женщин из Сараево, не забывавших подкрасить губы перед тем, как бежать куда-то под пулями, Жижек рассказал анекдот об обмене телеграммами между немецкими и австрийскими военными подразделениями в разгар Первой мировой войны, когда на немецкое сообщение «На нашем фронте ситуация серьезная, но не катастрофическая», австрийцы ответили: «А у нас ситуация катастрофическая, но не серьезная».
Кампусы университета Бирцейт расположены за пределами Рамаллы, где-то в двадцати минутах езды на автобусе. По дороге в город после этого выступления один из организаторов, Язан, поделился историей. Когда-то здесь был еще один чекпойнт, разделявший университет и Рамаллу, где жило большинство студентов. Между городом и кампусом автобус тогда еще не курсировал, и, возвращаясь домой с занятий, студенты должны были проходить пешком пару километров между двумя зонами. Однажды случилась стычка. Группа студентов побежала на солдатов с камнями. Два толстяка не могли так быстро бежать и немного отстали от остальных, но все равно продолжали участвовать в общем движении, пока не поняли, их камни не долетают до солдат, зато попадают в спины их же товарищей.
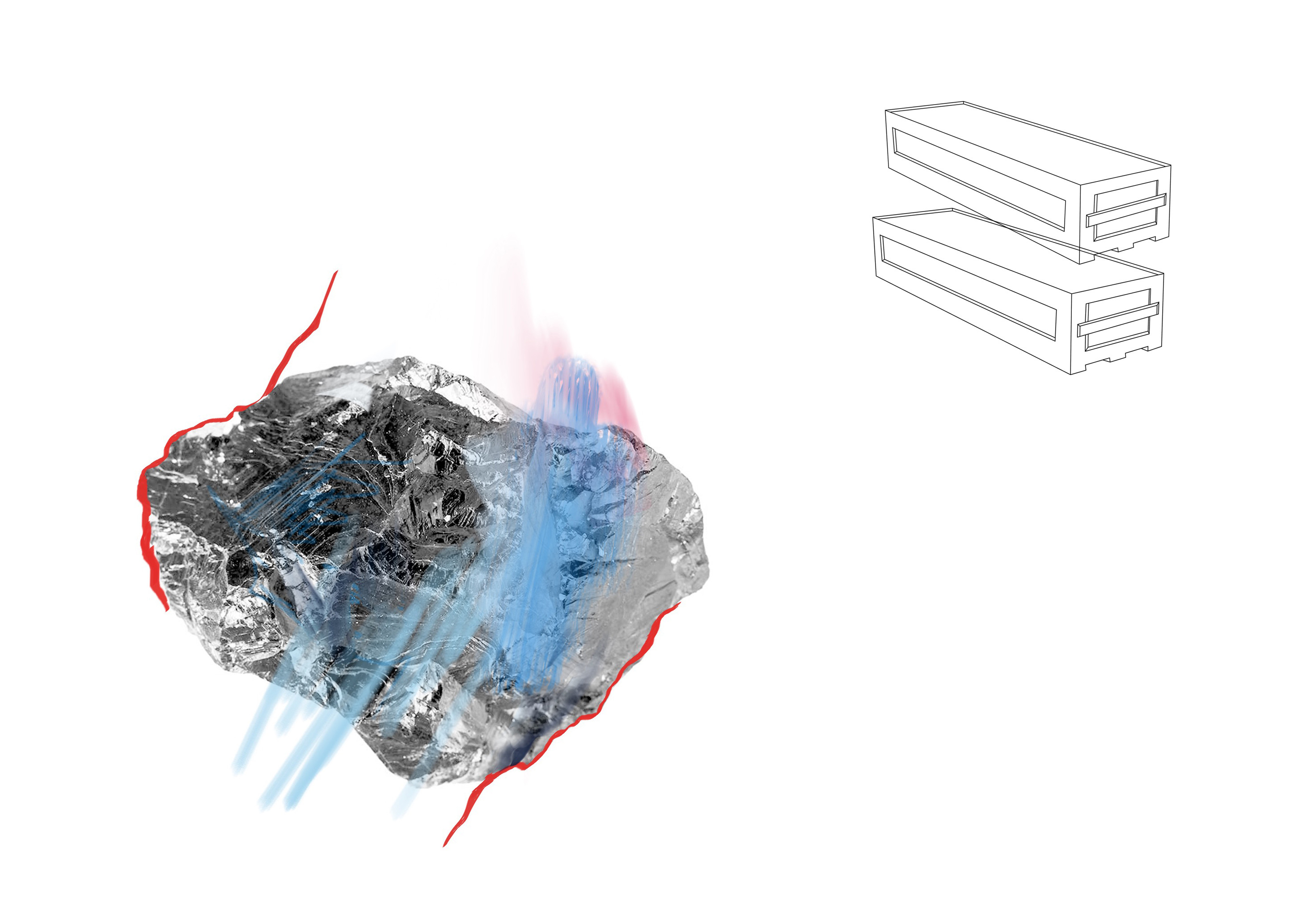
«Что? У них есть университет?» — спросила меня, имея в виду жителей Западного берега, сотрудница израильской таможни во время допроса на паспортном контроле, когда я летела обратно в Россию из
Территории оккупированные, осажденные, охваченные войной, часто представляются какими-то совершенно другими, отдаленными, особыми зонами насилия и смерти. По этому поводу, однако, Жижек отмечает: «Невыносимо то, что в
Недавно я пришла к похожему выводу. Я поняла, что то, что мы считаем мирными территориями — на самом деле скорее тыл, и что война не
Я думала об этом в сентябре 2015-го, готовя доклад для Академии мирового искусства в Кельне, куда меня пригласили обсуждать необъявленную войну между Россией и Украиной. Мероприятие называлось «Телефонные звонки с кладбища и другие истории» — так же, как работа художницы Алевтины Кахидзе, представленная на выставке. За этим названием стояла реальная история из жизни. В описании сказано:
Мать Алевтины Кахидзе живет в Ждановке, небольшом городке к
Художница придумала для своей мамы прозвище, Клубника Андреевна, вероятно, за ее привязанность к своему огороду в Ждановке, за которым она продолжает ухаживать, несмотря на то, что вокруг — бомбежки и стрельба. Многие уехали. Те, кто остался, присматривают за брошенными собаками. Время от времени Клубника Андреевна бегает на кладбище, где все еще действует последний в округе мобильный провайдер, носящий как бы ироническое название Life. На кладбище она такая не одна. Там оживленно: люди звонят родственникам и друзьям. Из этого места она докладывает об огороде, о том, как делает закрутки в погребе, собирает клубнику или ходит на рынок продавать овощи. На одной из картин женщина изображена с двумя корзинами помидор: «С огорода шла и думала… если начнут стрелять куда прятаться — за какой куст? Шла… не останавливаясь — от страха».
Жизнь упорствует в тех местах, которые мы по слепоте своей часто определяем как места смерти — от кладбища в Ждановке до оккупированных территорий и осажденных городов. Интересное русское словосочетание — мирные жители, то есть те, кто живет в мире — парадоксальным образом соединяет в себе мир и жизнь, а применяется как раз к тем, кто населяет проблемные зоны. Мирные жители противостоят военным, как если бы реальный конфликт разворачивался не между двумя (или более) государствами, а между армиями, которые ведут войну, и теми, кто живет в мире. Последние упорствуют в своей мирной жизни тем сильнее, чем более отчаянной (катастрофической) является их ситуация. Когда активные военные действия в Луганской области привели к коллапсу всей инфраструктуры — к отключению воды, электричества, отопления и газа, — жители обычных пятиэтажек стали жечь костры и вместе готовить и есть во дворах, как будто празднуя дни рождения.

Война превращает обычное население в мирных жителей. Чем ближе смерть, тем более нарочито мирной является жизнь людей, которые не уходят со своей земли. Настоящий мир — это не то место, куда все бегут в поисках безопасности и комфорта: мир отчаянно проживается теми, кто остался. Они «живут в мире» внутри самой войны и вопреки ей; они населяют войну, создавая внутри нее локусы беспримерного достоинства, с которым они поливают свой огород, заботятся о брошенных животных, красят губы, носят леопардовые штаны, пишут книги и идут под пулями в кино. Достоинство и страх идут рука об руку — ночные кошмары мирных жителей изменяют цену вещей в свете дня. Сама их жизнь в своей обыденности восстает против армий. Дети кидают камни в солдат по дороге в школу.
В последний день сентября 2015-го, когда наша страна начала бомбить Сирию, я сидела и готовилась к своему первому семинару по «Феноменологии духа» Гегеля в Европейском Университете в
На пересылку рукописи из Йены в Бамберг требовалось пять дней. Нитхаммер напомнил об этом Гегелю: самое позднее 13 октября он должен cдать пакет на почту <…> В среду и пятницу 8 и 10 октября Гегель отправляет в Бамберг значительную часть находившейся у него рукописи. В четверг началась война. У Гегеля остается еще окончание, но почта уже не работает. Утром 13 октября французские передовые части занимают Йену. Наступает, по словам Гегеля, «час страха». На войне как на войне: грабят, насилуют, убивают. В дом к философу врываются запыленные пехотинцы. Философ сохраняет присутствие духа; заметив на груди одного из французов ленточку Почетного легиона, он выражает надежду, что доблестный воин, награжденный боевым орденом, будет достойным образом обходиться с простым немецким ученым. Слова, подкрепленные вином и пищей, действуют. Но недолго. Приходят новые солдаты, и все начинается снова. Хозяева покинули дом, Гегель следует их примеру. Рассовав по карманам листы «Феноменологии духа», собрав
В одном из домов, где он прятался, Гегель провел несколько часов, дописывая и приводя в порядок остаток рукописи. И только 20 октября бумаги, наконец, удалось отправить в Бамберг. Так появилась «Феноменологии духа», самая трудная из
Санкт-Петербург, февраль 2016
Примечания:
[1] Slavoj Žižek. The Metastases of Enjoyment. Six Essays on Women and Causality (London: Verso, 1994), p. 2.
[2] Ibid.
[4] Гулыга А. Гегель. М.: Молодая гвардия, 2008 (серия ЖЗЛ), с. 50-51.
