Личность Сократа. Сократ — циник
К концу ноября в Издательстве книжного магазина «Циолковский» ожидается из типографии переиздание парадоксальной, яркой и провокационной книги русского и советского философа Константина Сотонина «Сократ. Введение в косметику», издававшейся единственный раз в Казани, в 1925 г., тиражом 400 экземпляров. Ниже представлен небольшой отрывок из книги:
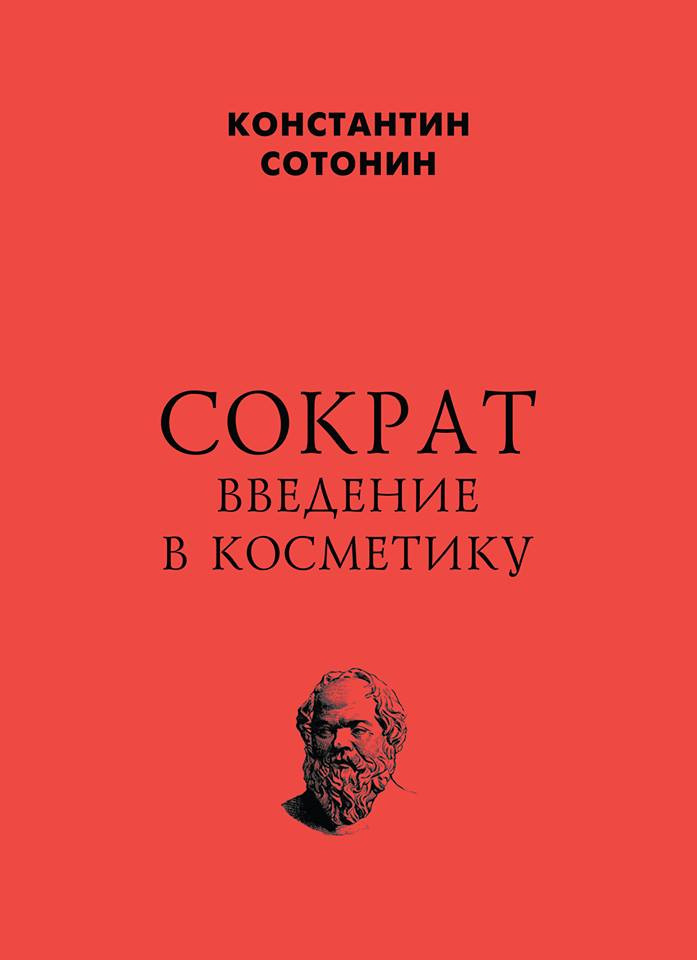
Личность философа в большинстве случаев интересна для историка философии лишь постольку, поскольку знание её помогает выяснить процесс развития мировоззрения и понять отдельные детали его; в самом изложении мировоззрения философа его личность уже забывается, его мировоззрение можно обсуждать и оценивать помимо оценки его личности. К Сократу это совершенно не применимо; его философия неотделима от его личности; Сократ — софист, Сократ — скептик, — это совсем неверно, если не прибавить: Сократ — циник; а прибавить это — значит сказать: и софистом и скептиком Сократ был только в шутку.
«Я утверждаю, что Сократ очень похож на тех силенов, которых можно видеть выставленными в скульптурных мастерских… Если раскрыть их пополам, оказывается, внутри их статуэтки богов… Я утверждаю, что Сократ похож на сатира Марсия». Невозможно подобрать лучшую характеристику Сократу, чем эта, данная ему Алкивиадом (Пир Платона 215 В), с дальнейшими пояснениями, которые он привел, и прежде всего с краткой фразой, обращенной к Сократу, исчерпывающей всю его сущность: «ὑβριστὴς εἶ», «ты —…» — перевод бессилен передать весь смысл этого слова: насмешник, наглец, наглый насмешник, — всё это слишком недостаточно; есть только одно слово, пришедшее к нам от греков же, но смысла которого ещё не знал Алкивиад и которое одно могло бы выразить всю сущность этой характеристики Сократа; её единственный смысл — «ты — циник».
В этом слове «циник», в его современном значении, содержится весь смысл греческого корня ὕΒρις [хюбрис]: и наглость, и надменность, и насмешка, и дерзость, и издевательство над всеми божескими и человеческими ценностями. Циник — тот, для кого нет ничего святого, ничего достойного преклонения и уважения, ничего очень ценного, ничего, чем нельзя было бы пожертвовать для другого; циник — тот, для кого нет ничего слишком серьезного.
Таким циником и был Сократ, первый из людей, в котором ум, рождённый быть послушным рабом инстинктов, но часто бунтующий раб, одержал блестящую, решительную победу над инстинктами: для инстинктов всегда есть что-либо слишком серьёзное; под влиянием прислуживающего ума (который иногда, как бывает нередко со старым лакеем, подчиняет господина своему влиянию) ценности сменяются, слишком серьезным становится другое, чем то что было раньше, но слишком серьёзное остаётся; и только ум, переставший быть лакеем, перестает признавать что либо слишком серьёзным (см. мои «Темпераменты» , стр. 94–95); теперь происходит уже не переоценка ценностей, но и не разбивание этих ценностей, как бывает в период бунта раба, — теперь, когда раб завоевал свободу, происходит релятивизация всех ценностей, признание их ценностями относительными: больше ничто не признаётся безусловно ценным, слишком серьёзным. Здесь кончается первый период истории культуры, период культивирующегося ума; ему предшествует период некультурного состояния человека, период безропотного служения мальчика-ума инстинктам, которым ум ещё не дает советов, не действует и самостоятельно, но каждый шаг совершает по указке господина; более или менее самостоятельным ум бывает только в играх, упражняющих его и создающих искусство. Культура начинается с момента, когда мальчик-ум становится достаточно взрослым, чтобы самостоятельно выбрать способ выполнения поручений господина; этот первый период истории культуры характеризуется наличием у ума самостоятельной инициативы в области работ, требуемых или допускаемых инстинктами, у которых он исполняет роль то лакея, то домоправителя, то даже роль тех римских философов, которых знатные господа содержали при себе, поучаясь у них, прося у них советов, — но содержали в качестве рабов; этот период прорезается внутри значительным количеством бунтов раба против господина, нередко очень сильных, сопровождающихся разрушением господских ценностей, сжиганием усадеб, заковыванием в цепи и избиением господ, — но бунтов, всегда кончавшихся неудачно: в худшем случае под развалинами господской усадьбы вместе с господином погибал и раб (самоубийство как протест); в лучшем — раб, привыкший руководиться указаниями господина, не знал, что же делать ему, ставшему свободным, теперь, сам же обращался за советом к свергнутому господину и, хотя бы в другой форме, становился опять его слугой.
Эпоха культивирования ума кончается с завоеванием им прочной свободы, и не путем борьбы и насилий, не путем заковывания господина в цепи; только юношеская бурливая кровь заставляла ум преувеличивать факты и считать себя рабом у инстинкта; ставши совсем взрослым, он узнал, что он вовсе не купленный раб, а дитя, однажды неожиданно родившееся от страстной любви инстинкта к земле. Старый отец-инстинкты немного капризен, своенравен, упрям, очень традиционен и довольно суров; но суров он потому, что слишком ревнив в отношении к своей любимой земле, — а та очень ветрена, постоянно изменяет, дарит улыбки и ласки кому вздумается, часто неумолимо и подолгу отказывается даже взглянуть на ревнивца, или заставляет прокутить с ней в одну ночь всё состояние и оставляет его нищим. Но
Сократ «не похож ни на одного из других людей — ни из прежних, ни из теперешних», говорит Алкивиад (221 С). До Сократа не было человека — циника; циником был только козлоногий бог силен, бегающий по лесам и полям, сатир Марсий, насмехающийся надо всем под звуки своей флейты, не признающий слишком серьёзным даже спора и состязания с Аполлоном, не признавший слишком серьёзным делом даже потерю собственной шкуры, которую Аполлон содрал с него, продолжавшего, вероятно, улыбаться и надсмехаться над Аполлоном, отнёсшимся к состязанию слишком серьёзно. Сатир, умирая, знал, что от его случайной, легкомысленной, продолжавшейся один день любви к нимфе родится когда-нибудь Сократ и отплатит Аполлону за отца, в свою очередь сдерёт нежную кожу с Аполлона и со всех его родичей, но сделает это не как очень, слишком серьёзное дело, — а смеясь, забавляясь, осуществляя завет отца — быть циником, ни к чему не относиться слишком серьёзно.
«Всю свою жизнь Сократ постоянно подсмеивается над людьми, шутит над ними», говорит Алкивиад (216 Е). Ирония Сократа, о которой так много и так без толку писалось, — основная черта не только его личности, но и его мировоззрения, первое положение его цинической философии, гласящее: жизнь и ничто в жизни не стоит того, чтобы к
Бриллиантов не существует, но и стеклянные бусы радуют; Сократ это знает. Люди принимают стёкла за бриллианты и ожесточенно дерутся
Люди требовали от Сократа серьёзности; но нельзя заставить ошибаться; поэтому у Сократа вместо серьёзности появилась хитрость. Люди не могли вытерпеть весело смеющегося циника, — циник стал хитро издеваться, смеясь вдвое — и над тем, что они свои стекла принимают за бриллианты, и над тем, что фальшивую монету Сократа они принимают за золото. Сократ хотел своим весёлым смехом научить людей не принимать стёкол за бриллианты, — люди заставили Сократа стать фальшивомонетчиком. Это непреодолимое пленение людей к ошибке, к серьёзности много позднее Вольтер выразил, тоже, вероятно, издеваясь, своим знаменитым положением: «Если бы не было бога, его надо было бы создать».
