DRAIN
Лето
I
Был в свежеотстроенном районе. Собаки там гуляют дорогих пород. В итоге далеко забрел, устал, но поступил очень глупо, потратив деньги на газету. Так-то бы сел в маршрутку и назад доехал быстренько, да еще и шансончиком по дороге насладился, а теперь пешком идти придется. Как-то тоже пешком шел, а на экране, его тогда только поставили, крутили всякие смешные видео, я смотрел минуты две и несколько раз смеялся. Так, видимо, смеялся, что девочка, мимо проходя, бросила: «Дурак большой». До сих пор я это помню. Ей лет шесть было. Дурак большой. Я-то. Даже маленькая девочка так воспитана, что смеяться на людях, по ее понятиям, считается дурным. Почему они, вырастая, часто так отвратительно раскрепощены? Потому что вот с такиx вот лет в них культивируют сознательность.
Бутылка по полу катается. Советское шампанское — самое советское шампанское во всем СССР. Туда катается, сюда катается. В окне филин. Следит, как бутылка перекатывается. Я тоже слежу — и за ним, и за бутылкой. Филин этот неспроста, он что-то задумал. Главное, он не сможет внутрь залететь, окно-то закрыто. Бутылка все быстрее и быстрее катается. «Дротики тебе не помешали бы, — филин говорит. — Время убивать — самое то».
Просыпаюсь. Хорошо, что я никогда сонников не читал, а то бы переживал теперь, к чему филины говорящие снятся. Еще рано, часа три утра, наверное. О, даже два. А дротики все же надо купить. Сколько я могу потратить? Раскошелюсь, но куплю.
Если уж какая мысль навязалась, я от нее не избавлюсь. Но самое отвратительное — то, что больше не усну. Мои мысли — мои ползуны. Назвали библиотеку в честь Ельцина. Спустя много лет историки выдвинут предположение, что Ельцин, возможно, умел читать, раз в его честь библиотеку назвали.

Когда одноклассники (ну, уже бывшие) спрашивали, что я там изучаю у себя, я обижался на их тон и нарочно перевирал им лекции из истории книги, что-то такое, например: в Индии было принято писать на слонах. Слоны ходили по улицам, и люди могли читать написанные на них книги и законы. Царевич Махапхари обладал личной библиотекой из пятидесяти слонов. В Средневековой Германии книги выбивали на железных листах кузнецы. Леонардо да Винчи славился собственным рецептом бумаги: он изобрел состав, в который входили рыбьи кости, опилки, захваченные вражеские знамена и молотые коровьи челюсти, — это обеспечивало бумаге невероятную прочность. Известно, что Вэ И Ленин писал секретные письма особыми чернилами из чая. Первые пишущие машинки появились в СССР; звук их работы придумал композитор Сергей Прокофьев — стук пишущей машинки должен был напоминать о выстрелах войны. В наши дни книги пишут в Microsoft Word; известно, что Дарья Донцова использует помощника-скрепку, а Борис Акунин — помощника-собачку.
Стоп, что я там… да, времени еще полно, магазин еще закрыт. Пойду, побреюсь пока. Что дальше делать? Что ж, пускай телевизор, раз больше нечего.
Да я везунчик. «Я и другие»! Я и другие, ад — это другие, я и ад. Какого цвета пирамидка? Когда нас спрашивают, мы не можем ее перекрасить. Когда можем, не спрашивают.
Или спрашивают, да мы не слушаем.
II
Опять заснул. Дача снилась, часто дача снится. Там
Альбер Камю бы лучше это описал. Он бы досочинил, что сейчас я вышел на балкон и стал поедать шоколадку, а потом провел вечер с красивой девушкой. На самом деле я один (как перст), и жрать у меня нечего. Можно на дачу съездить. Нет, не хочется.
Наш город — болото. Построен на болоте, и ничем не отличается.
О чем это я? Ах да, надо продумать, как я буду дальше жить, чем мне себя занять. Работать я не хочу точно. Если хорошенько рассудить, все, чего я хочу — лежать на диване и смотреть на обои. Я не знаю, когда это случилось, но жизнь прошла мимо меня. Может… нет, даже примерно не знаю. Как будто всегда я такой был. Я помню себя лет с шести, не помню раньше — и тогда я точно уже был нелюдим. Любимым занятием у меня было залезть под диван и лежать, глядеть на обои. Они с тех пор не поменялись, кажется.
Вот бы у меня было снотворное, чтобы я мог спать нормально. Но это ж к врачу идти надо, нет, ни за что.
Вечер уже, а я ведь ничего совсем не сделал сегодня, у меня даже мыслей не было никаких. Я все время был должен, а теперь как будто рассчитался. Что это за долг был? Наверное, долг мой состоял в том, что я все, что мне жизнь предлагала… ну, я к этому не притрагивался, в общем. Потому жизнь и перестала предлагать. Мне не нужно ничего, я хотел всегда иметь свой угол, и чтоб ко мне не лезли. Думаю, все этого хотят, но они ж не успокоятся так сразу, им нужно натащить туда вещей, денег, потом детей завести — ведь если человек живет один, тогда он вроде и не живет.
Для кого Данте писал свой «Рай», ведь я хочу знать все про ад, кто я такой, чтобы замахиваться на рай?
Но если подумать, я и про ад не хочу ничего знать. Я вообще не хочу ничего знать. Образование наше отбивает всякое желание знать, оно учит догадываться. Игрушечное образование у нас. Мне кажется, и
Отец выдирает из ковра с пола гигантские комья пыли. Запускает руку, и она проваливается в ковер, а потом комья, серые такие, пыль. «Видишь ли, сынок, в этой квартире негде повеситься. Можешь проверить!».
Это еще к чему было?
Хуже всего то, что мне постоянно снятся сны. Что-то да снится. А отец правду говорит, он мне никогда не врал.
III
Обычно-то я просыпаюсь рано. Вот в шесть утра, в пять может даже. Сегодня без двадцати шесть было, когда проснулся. Думал, чего я в жизни добился. Оказалось, что достижений нету.
Впрочем, смотря на это все, я вижу, что мне не надо ничего. Как так сложилось, что все так сложилось? Как будто жизнь — моментальная лотерея, и лотерейщик без спросу распоряжается моими деньгами: «На этот билет? А давайте, на этот!» — а мне все равно, кладите, куда хотите. Так и вышло.
Да я и не знал никогда, чего я хотел. Мне хотелось куда-нибудь отдалиться и ни в чем не участвовать. Помню, на даче в мяч играли, сестра (троюродная, что ли; сто лет ее не видел) потащила тоже, я не хотел. Встал куда-то, говорю: «Ну, давайте уже», а все смеются. Смотрю — я в самую грязь встал. Язвительный комментарий, мол, я только в грязь и мог. Будь проще. Куда уж проще? Я не виноват, что нельзя никуда уйти.
Я бы хотел писать книжки. Ну, вот я бы написал про то, как у героя стали гнить волосы. Можно от первого лица, мол, это у меня гниют, можно, чтоб это у другого героя гнили, а «я» был свидетелем: как моя рука провалилась в голову несчастного, настолько там все сгнило уже, и сам гной бы описал натуралистично. Просто я не хочу, я ничего не хочу.
«Представьте, что вам нужно будет рассказать свою жизнь за два часа!»
Мне двух минут хватит. Нечего вспоминать — ни хорошего, ни дурного. Знаете, мне и двух минут много. Родился, учился в школе. Все. Друзей не хотел заводить, мать ко мне относилась плохо.
«Вы обладаете определенной амбициозностью, но вам не хватает целеустремленности».
Да я же не спорю. Я же не спорю.
Все должны любить свою мать.
Да я же не спорю.
Я не нигилист. Нигилист определяется по поступкам. Если высморкаешься в шторку, то, пожалуй, ты нигилист.
IV
Совсем скучно. Поеду на набережную гулять. Один. Это очень интересная идея. Только попозже: с утра холодно. Впрочем, попозже будет очень жарко. Ну вот, уже очень жарко. В автобусе как в парилке. Кто-то вон детектив читает. Кто-то — это чтоб абстрактно было, максимально абстрактно, как живопись, как будто настоящее искусство. Зачем я потащился, сидел бы дома.
Нет, скучно мне! А теперь парься. Это вот тоже такое веянье — ставить монитор в автобус, клипы разные гонять. Ну там, как
Вот и набережная. Я думаю, неслучайно «Мост влюбленных» — самое популярное место самоубийств. Отгрохали набережную, дай бог каждому. Не набережная — мордоворот! Плавно можно так спуститься, так тут прогуляться, солнечно, цивилизация, культура, оптимизм. Все к лучшему в лучшем городе Земли!
Свадьбы гуляют. И не жарко им.

А природу здорово задвинули. Так ей и надо. Знатный пейзаж! Опишу поэтически: вот она, раскинулась коричневою лужей красавица-река! И как ярко отражается солнечный свет в зеленом стекле бутылок, плывущих в изобилии по ее течению, словно это рыбьи косяки, а как грациозно лежат на другом берегу бомжи, как эстетично смотрится толстяк с голым торсом, идущий впереди меня! Райская картина предстала перед моими грешными глазами.
Да, мы — совершенная провинция. Здесь — свадьбы, лимузины, в двух шагах непотребство, а на том берегу вообще бомжи загорают. Хотя, наверное, в Москве тоже такое сплошь и рядом, но у нас это отчего-то бросается в глаза.
Назад не хочу по той дороге возвращаться — снова попадутся свадьбы, а там люди счастливые, не хочу на них смотреть. Крюк большой, конечно, пришлось сделать, но зато я домой пришел усталый, усну нормально хоть.
V
С утра стоял на кухне, открыв холодильник, и, вглядываясь в его пустоты, думал о поэзии. Спросил себя: а поэзия — это вообще что такое?
Пришел к выводу, что рифма, ритм — все это наносное и не нужно, вернее, не может являться идентифицирующим признаком. Есть, конечно, слово «определяющий», но слишком оно простоватое, не годится для мыслей о поэзии. Так вот, я думаю, я нашел определение (а может, опять до меня нашли, но я, во всяком случае, нигде не видел): поэзия — это если выпендреж. Если есть выпендреж, то можно без рифмы, без ритма, главное, лишь бы выпендреж на месте был. Тогда поэзия.
Сегодня пойду во двор: на лавочке сидеть. Вот такое развлечение. Как старик. Раньше-то на этом месте сидел алкоголик дядя Коля. Хромой еще был. Теперь совсем из дома не выходит. Чего сидеть здесь? Какой смысл? О, вот Петя гулять вышел. Что-то у него с развитием, синдром Дауна, может, не знаю.
— Сидиииииииишь? — протягивает так противно, но он же больной парень, он не виноват.
— Сижу, — отвечаю.
— Я в Москву поеду! — хвастается.
— Ну, я рад за тебя, — хочу добродушно ему ответить, но не получается.
— В милицию, — продолжает хвастаться — работать, видать, в милицию мечтает идти.
— Угу, хорошо, да, — как-то слишком уж безразлично я ответил.
Он, кажется, обиделся немножко, к соседнему подъезду пошел. Что, в сущности, произошло? Виноват ли я? Стыдно стало немного, так, как бывает перед собачкой стыдно, что грубо ее прогонишь. Но ведь и это — от малодушия, не
Нет, на самом деле я на солнце перегрелся и причины не увидел: я не потому с ним «плохо поговорил», что он — больной, а потому, что это я разучился с людьми разговаривать — а может, и вредно было так внезапно остаться в одиночестве?
А может, и нет, я так только, не хочу видеть чужую болезнь.
В школе. «Это же ваши лучшие годы! Вы сквозь пальцы это все…». Не ко мне обращается, но я тогда на свой счет отнес. Я все на свой счет отношу. Впрочем, я точно что-то упустил. Ведь я мог бы участвовать в телепередачах, рассказывать историю рыбалки: известным рыбаком эпохи Возрождения был Леонардо да Винчи. Он изобрел удочку, к которой можно было прикрепить до восемнадцати крючков. Эта удочка вошла в историю как Удочка Леонардо, и сейчас хранится в Лувре. Мало кто знает, что изобретателем спиннинга был шведский физик Маркус Спиннингсон. А в СССР рыбалкой увлекался Хрущев. Ходят легенды, что однажды он поймал воооот такую рыбину на початок кукурузы.
Любое вранье в наукообразной обертке — это уже не вранье, а передача РЕН-ТВ.
— А какая у тебя любимая книга?
— «Записки из подполья».
— А кто написал?
— Гоголь.
И верит же, верит.
— А про что там?
— Там человека заперли в подвале, и мы не знаем, кто и за что. Мы даже не знаем, как его зовут.
— Ааа. Ясно.
И это ничего, что она не знает. Это в жизни не главное.
Старая ванночка. В ванночке на дне серый фарш. Какой ужас, это меня им тошнит, его тут уже килограммы, килограммы. Мамаша где-то над ухом: «Это же кошачий корм, ты совсем, что ли, сдурел?». Кошачий корм?
Этот сон можно объяснить: я ем дешевую гадость.
VI
Смотрел в магазине на цены и думал: что мы знаем об экономике? Знает ли кто-то
Ездил смотреть расписание. В автобусе кондукторша семипудовая. Пассажиров полно, почему-то одни старухи.
— А у нее соседка, вот, тогда развелась, а ребенок с ней остался.
— Но. Помню.
— Я уже семь таблеток теперь пью, по утрам перед глазами как пелена такая…
— А, не говори.
— Тамарочка мне такой сорт подсказала, принесла, так вот раньше у меня — ни в какую, а теперь…
— Дорогой, поди?
Ребеночек всех старух перекрикивает:
— А потом задушил его в голову! Помнишь, мы смотрели?
Звонким таким голоском.
— Спой бабушке лучше. У тебя голос громкий, хороший. Спой…
Невозможно не слушать — они же громко это все. Залетает такая фраза мне в голову как к себе домой, по-хозяйски располагается и жирует там, пока ее другая подобная не выгонит. А душно еще очень, и ноги затекли стоять.
Вышел на две остановки раньше, невыносимо было дальше ехать.
Я не иду до конца: когда раньше с отцом играли в шахматы, и я видел, что мне через два хода грозит неизбежный мат, я сдавался, и отец за это на меня сердился. Да впрочем, бате моему только повод дай. Помню, сердился на меня за то, что я проголосовал за Жириновского. А я ему так и сказал: да, я шутник. Все равно сердился.
И похоже, я весь в него пошел.

Зима
I
Единственное, что мне в нашей зиме не нравится, так это то, что плевки обледеневшие видно. Идешь, и вся дорога плевками усеяна. Это потому что я смотрю под ноги. Куда еще смотреть. Угрюмые небеса цвета дядипашиной машины. Плевки в изобилии встречаются повсюду, я живу не в том районе. Не в том? Вряд ли в другом иначе. Летом иначе, нынче, нынче все как во сне. Как во сне я проснулся, как во сне отучился, как во сне возвращаюсь, глядя на плевки. Оглянись, подними голову, жизнь — это не только плевки, это, что у нас тут, так вот, жизнь — не только плевки, это еще и вон та ржавеющая «Волга», вон тот вон фонарный столб и вон те тридцатилетние дома. Не замечает тот, кто не хочет, кто захочет, тот себе выдумает. Все, что хочешь, себе выдумают. Вот я и дома практически.
— Опять музыка с утра орала! Я стучал, вы что, собаки, не открыли?
Пускай себе покрикивает, не я ту музыку включал. Вдогонку ругательства, как семечки сыплются. В жизни разные обстоятельства, летом я пожил себе в одиночестве, теперь у них все наладилось, и взрослый сынок уже как-то не так, и хорошо, смена обстановки мне только на пользу, в тесноте, но это — такое везение, такое везение, что я попал сюда, здесь такие люди! Взять хотя бы этого кадра. Чаю выпить? Да ну, потом опять. А я снова учусь, не совсем и бездельник, знание — благодетель. Благодетель? То, что сила, это потом переврали, сперва-то было благо…дать…детель…как же там было? Мне не понять, мне не залезть в душу. Те, кто лезут, берут с собой зеркало, чтоб в чужой душе смотреть на свое отражение и любоваться аполлонийскостью своего миросозерцания. Я — аполлонийское, они — дионисическое. Ползают по чужим душам, как сколопендры, и свое ползанье называют странствием. А этот, снизу, вроде бы, вроде бы, у него дети маленькие, поэтому он так остро на все реагирует. У него дети, это естественно, он беспокоится, чтоб было тихо, это естественно, а что естественно, то неинтересно. В старом мультфильме: «А я что? Я ничего!»; нынче: «Да, я такой!», чувство собственного достоинства появилось у каждого, это демократия, это Горбачев изобрел. Гордость тоже изобретают, я думаю, в Сколково полным ходом работа идет, мозги кипят, лед пошел, процесс тронулся.
Короткие дни для моих коротких мыслей. Люди из бумажки — из бумажки, и, пожалуй, что из газетной. Шансончик, рэпчик, газировка «Колокольчик», досуг, сканворды, игра на телефоне, кататься на девяточке. Скоро появится гордый человек, к 2015-му году гордость проиндексируют на пятнадцать процентов, к 2020-му — еще на пять.
Что-то я засиделся за бутербродами. Ужин надо отдавать врагу, поэтому я сам все и съел. В комнате соседа, конечно, орет телевизор, новости, происшествия, случилась авария, все погибли, в зоопарке родились львята, президент отправился на экономический форум. Люби свои мысли почти так, как чужие. Те мысли, что ты вычитал, это уже твои. А в соседской комнате все еще телевизор орет. Интересно, он доплачивает за то, что у него кровать, или он ту комнату занял потому, что раньше вселился? А может, раз тот — родня, то… тут же еще все сложно так: мы эту квартиру снимаем пополам, я и Артем, у каждого своя комната (у него комната больше), а Артем — это маминой подруги сын, а хозяин квартиры — Петрович — это ее, маминой подруги, отчим, так что Артем ему как бы внуком приходится. Короче, про доплату лучше не спрашивать. Оно ведь как: у Петровича спрашивать — себе дороже, ты ему слово, он тебе сто двенадцать. В иные дни, конечно, мораторий на особо обильное словометание, тогда восемьдесят четыре. Когда как. Он каждую неделю приходит и смотрит, сделана ли уборка, не пропало ль чего, все в таком духе. Сам-то он в другой квартире живет, однушка у него у черта на рогах где-то. Еще и спрашивать его. Нигде вы не найдете комнаты за такую цену! По всему городу, да что там, я ручаюсь! Я ручаюсь! Дешево, да. Потому что по знакомству. Интересно, он таким всегда был, или травма какая-то случилась? Яйцо или курица? Если меня спросят, я отвечу, что первыми появились тараканы. В детстве у нас в квартире они водились. Я открыл шкафчик с книгами, и таракан ко мне выбежал. Как я разозлился! Я не успокоился, пока не прибил его томиком «Незнайки». Батя-то оценил тогда потом. Наверное, он сказал тогда, смеясь:
— Книга — лучшее оружие!
Он бы так сказал. Вторая молодость сейчас у них. Живите, что вы. Я понимаю, что только мешаюсь, я даже рад, что у вас все снова наладилось, и… и я тоже, я студент, и вы снова помирились, и живите, а я тут, и дешево, комната, сосед — ровесник почти что. У него в комнате кровать полноценная, а у меня кресло раскладывающееся. Хорошо хоть, что не раскладушка. И на том спасибо. А будь тут раскладушка, было бы еще дешевле? Но не спрошу, с ним лучше вообще не заговаривать. Кто значит, почему его переклинило. Народный опиум всегда без рецепта. Мамаша если приедет вдруг проведать, чего ей только в голову не приходит, да если так окажется, что и Петрович в тот же день свою квартиру проверять придет, и они встретятся, и тогда мамаша потом эдак украдкой свою подругу спросит:
— Слушай, а ты не замечала, что этот твой отчим, который нашим мальчикам комнаты сдает, он… слегка… ку-ку?
Ку-ку. Нет, она так не спросит, она, скорее, скажет «ненормальный». Ку-ку — это больше из детского языка.
— Ты че, дурак?
— Ты че, ку-ку?
— Ты че, совсем?
Вот это детские вопросы. Ладно, пора бы и спать. Пора бы и честь знать. Пора в
Как-то, вот вспомнил тоже, сидел так вечером за чаем, а Артем в клуб плясать ушел, или куда, а я сидел и чай пил, часов девять вечера уж было, и вот Петрович так поздно притащился, мол, мысль ему тревожная навязалась: а не сгорела ли квартира?
Нет, оказалось, пока не сгорела. И он тогда сказал:
— Вот… бывают же предчувствия какие! У тебя не было таких?
— Не помню, — я тогда ответил.
А он:
— Надо святой водой побрызгать, — говорит.
Достал из буфета бутылку
— Святая вода, — поясняет. — Мать моя, покойница, как-то цветы у ней завяли, а она их святой водой полила, и они снова зацвели… часто ее, покойницу, во сне вижу, подлетает ко мне, как ангел, в белой такой блузке, такого белого цвета в природе нет, такой белый — и с синим, и с желтым… и говорит: «Я пошла отдыхать». Эх… знаешь ведь поговорку: «О покойниках или хорошо, или ничего», неспроста это сказано. Нужно… нужно к людям относиться по-человечески, сколько всего человеку терпеть приходится… вот в поликлинике те люди, которые анализы проверяют… как подумаю… Господи, Господи!
А в другой раз признался, что книгу хочет написать о божественном. Я его спросил, когда ж он приступит, а он мне, видимо, заранее заготовленной фразой ответил:
— Когда буду готов. Эта книга должна вызреть во мне, как в полях зреет кукуруза.
А когда я заселялся, он узнал, что я студент, и отнесся к этому весьма одобрительно. Даже об образовании стал разглагольствовать, ну, в своей манере:
— Получать знания — это похвально. Но нужно… нужно и сеять знание по свету. Сей, и станешь Сеятелем. Сеятель — одно из имен Бога, Бог — Великий Сеятель, Веселое Солнце.
К чему вспомнил? А уснуть не могу, всякая ерунда в голову лезет. Да я и рад бы спать нормально, но не могу, чаю напился. Раз меня считают бездарным для сочинительства, я могу чужие книги комментировать, и в каждом месте, где я не согласен с автором, буду делать комментарий абзаца на три, поясняя, что автор — дурак, а вот я — другое дело. Но это несерьезно, здесь все сами себе комментаторы, редакторы, писатели и читатели. Автор — Василий Петров. Редактор — Василий Петров. Примечания Василия Петрова. Отпечатано на средства Василия Петрова Василием Петровым для Василия Петрова.

Хочу спать, но не могу. Не устал. Потому что не устал. Значит, ты есть не хочешь. На завтрак бутерброды, на ужин бутерброды, на обед в закусочной куплю маленькую пиццу. Рацион чемпиона.
II
Скоро двадцать лет. Двадцать лет, двадцать лет! Сфотографируюсь на паспорт, расческу взял с собой специально. Фотостудия? Фотоуголок. Фотограф в свитере с ромбиками, фотографировать — это очень просто, щелк, погуляйте пять минут, держите фото.
— Фотографироваться будете?
— Нет, чай пить.
Великолепная шутка! Такая искрометная! Я верю: во мне умер Петросян. Возможно, не один раз. Когда получишь паспорт, не закрывай его, когда домой пойдешь, чтоб чернила высохли, а то в четырнадцать лет захлопнул сразу, и смазалось. На улице сосед Артемка навстречу. Здорово, привет, ты можешь сегодня вечером где-нибудь погулять? В кино сходи. Ко мне сегодня должна прийти девушка. Выше меня: на каблуках два метра будет. Но странная. Призналась, что ей Гитлер нравится. Ну, внешне. Так что, сходишь? За мой счет, это само собой. Можешь тоже с
Я не хочу в кино, говорю. Но схожу, так и быть. Из мужской солидарности. Но ты тоже, я его предупреждаю, говори за пару дней минимум. А то в следующий раз я останусь и буду
Договорились, и я у него деньги на кино взял: как у старшего брата, думаю. Потом задумался о
Зато я дважды алкашам подал. Один раз из автобуса выходил, на остановке алкаш два рубля попросил, я ровно два рубля и подал. И другой раз тоже на той же улице уже другой алкаш попросил денег, и я десять рублей подал. Сперва корил себя, а потом подумал, что правильно сделал. Падающего толкнул.
Впрочем, все мы такие — падающие.
Дома за бутербродами (надо же наесться до кино) фото свои разглядывал на паспорт. Вон они какие теперь. Цветные стали. И больше. А у тех — мафия. Было ваше — стало наше. В детстве дворового алкоголика дядю Колю дразнили. Коля, Коля, Николаша: было ваше — стало наше. Он хромой, не догонит. А в школе над одноклассником подшучивали беззлобно совершенно: он на уроках впереди нас сидел, и у него под воротником пиджака (а у нас многие в школу в костюмах ходили) такая складочка из ткани образовывалась, и нашей задачей было максимально незаметно в эту складочку, нишу, что ли, мелких таких бумажек накидать, чтоб он не заметил. А это очень непросто было. Но смешно и не обидно как-то, ну, мы так думали, что не обидно.
Здесь хуже тем, что вид из окон не очень. Вот и Артемка вернулся. Сияет. В предвкушении весь. Хоть бы, говорит, только Петрович сегодня не заявился проверять. Так-то, он не должен, но он может. А он такой, ключи, понятно, есть, может подкрасться и подслушивать. Ну так и что же, мне нельзя подслушать? Или как там было. Паук есть, а баня найдется. Если бы мы… что он там говорит, я не слушал. А, все предвкушает. Да. Ага. У нас тут нигде в супермаркетах на шампанское скидок нет? В подъезде никаких рекламок нет, одна какая-то газетка бесплатно, объявления. Объявления бесплатно дешево. О, эсэмэска от нее. Слушай, номер дома какой у нас? И ты не помнишь? Ладно, говорю ему, я телевизор пока посмотрю, а потом в кино. Вот поэтому мы не голосовали по этому закону. Есть и плюсы, и минусы, а мы не голосовали. И это правильно. Будь я депутатом, я бы тоже ни по одному закону не стал голосовать. Это другие приняли, а я только смотрел. Это другие курили, а я рядом стоял.
Ехал в кино на автобусе. Не стал жирной тетке место уступать.
— Я, значит, буду стоять, а вы будете сидеть? — аргументация у меня всегда железная.
— Встаньте и уступите мне место, — требует буквально.
— Я за билет заплатил, — говорю. — И уступать не обязан. Вы что, думаете, я хуже вас?
— Нет, он что, меня за дурочку держит? — к общественности апеллирует. Хорошо, там пьяных амбалов в автобусе не было.
— Нет, это вы меня держите за рукав сейчас.
В буфете кинотеатра почему-то газировка теплая. Я говорю: «А что, холодной нету?». А кассирша: «Сейчас все брошу и пойду охлаждать тебе».
Все бросит. Вот сейчас все брошу, и тебе пойду совочек покупать. Или как там было. Кино смотрел и удивлялся, что так много народу. Мне иногда кажется, когда вокруг меня что-то происходит, что я — это они. То есть, что вот настолько теряется моя личность в общем, что остается только общее, но позвольте, ведь это общее — это же не я. Ради общего жертвуй личным. Жертвуй на храм, да попу на Мерседес. Коллектив! При советской власти бы еще в школе стыдили. Все коллективисты, а этот, видите ли, индивидуалист. Мне белый билет полагается! Карлсон! А где же ваш соратник Энгельсон?
III
Ты куда? Я в магазин. Нельзя так идти. Что не так? Ты не побрился. Побрейся, и тогда уж иди. Ты что? Зачем бриться? Ради продавщицы? Ради себя. Да и хоть бы ради продавщицы: продавщица — не человек? А я, если небритый, тоже не человек? Соблюдай формы приличия. Уступай места, подавай нищим, брейся перед походом за хлебом. Пропускай всех и каждого, уступай любому, живи ради других.
Летом одному было лучше, даже сейчас с малознакомыми людьми легче. Чем меньше знаем человека, тем лучше думаем о нем. Вернулся Артемка с пельменями, видимо, как раз в магазине был.
Так, а он побрился, прежде чем в
Вечером пришел Петрович, и они насчет оплаты торговались. Артемка возмущался:
— Побойтесь бога!
А это ж у Петровича тема излюбленная:
— Зачем мне бояться бога? Ты скажи мне, разве бог такой страшный, чтоб его бояться? Бог есть счастье, бог есть любовь, кто ж своего счастья боится?
— Да что вы все про Фому, а я вам про Ерему… я вам дело говорю…
— А это бог у тебя Ерема? — сердился Петрович. — Не богохульствуй! Делец! Все лишь бы сэкономить думаешь, о душе совсем не беспокоишься! Как, по-твоему, вот скажи, бог — где он? Бог в каждом из нас? Отнюдь! Отнюююдь. Далееееко не в каждом. Вот так. Да-ле-ко не в каждом!
И снова давай торговаться-считаться. Считаться. Первые — горелые, вторые — золотые, первые — на танке, вторые — на поганке, четвертые в лесу гоняют колбасу. Пятые — усатые, шестые — дураки.
Петрович ушел, совсем Артемку рассердив. «Хочется взять и заехать ему по башке чем тяжелым, когда он выпендриваться начинает. Пришел, и давай так богобоязненно своего же внука обирать! Буду съезжать,
На словах мы все Джеки Чаны.
— И что, говорит, что ты внук! Как у нас народ говорит: по одежке встречают. Я думаю: ну, ты, тварь, ты-то точно в народе разбираешься!
Знаток народа.
— Ты-то, урод, конечно, тебя деньги не портят… — Артемка продолжает, а я опять прослушал. — Эх, собака-собака. Ты меня уж поди и не слушаешь, надоело поди?
— Да нет, я слушаю, — вру.
— Наверное, я матери позвоню. А то так и был бы кругом должен.
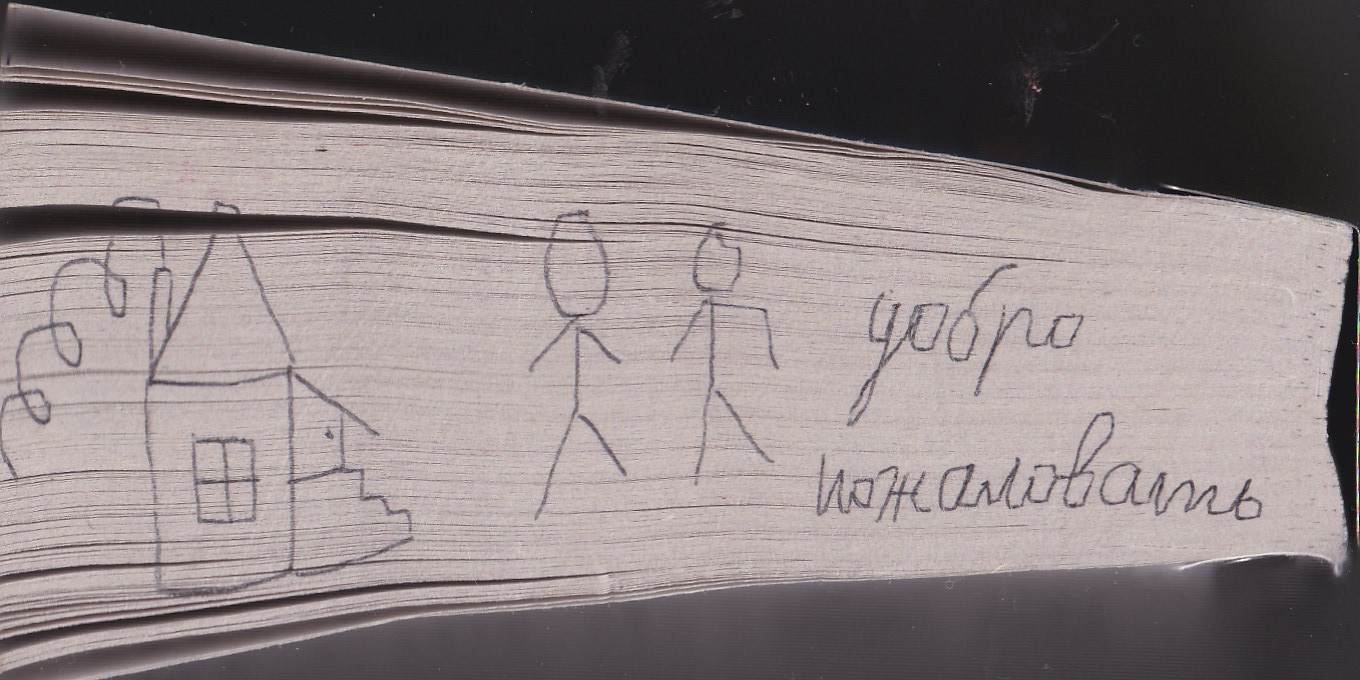
Кто кому должен. Сколько я должен? Когда мой долг будет оплачен (и свет будет мой)? Я по руке все увидеть могу. Восемьдесят лет жить будешь. Ага, и работа будет престижная, и никакого тебе Казенногодома, никаких тебе Дежурныйпоротенавыход, Здравияжелаютоварищкапитан и Служуотечеству. Потому что военник — вот он, пожалуйста. Никогда не пришью акселей, не пройду по городу пешком в акселях. Почему никогда? А если война? Кто тут у нас пушечное мясо? А с кем воевать? Мой дед воевал с немцами. Да? А мой — против них.
IV
Сегодня ел в закусочной колбасу в тесте. Так-то это сосиска в тесте, но сосисок нет, колбасу пихают. Удовольствие сомнительное. Для особенных гурманов. На даче говорит:
— Вот когда меня зовут кушать, я никогда не говорю «нет». Я отвечаю: «смотря что». Бабушка мне: «Будешь кушать?», а я: «Смотря что».
Это тебе выбирать можно. Можно сколько хочешь прицениваться, когда выбор есть. Ягоды пошла у соседей кушать. У меня губы не синие? Самое лучшее лето было. Несмотря ни на что, лучшие воспоминания. Хотя в следующие годы было скучно.
Легче всего уязвить того, кто считает себя сильнее всех.
Какой сегодня день? Сегодня вторница.
Зло сидит в душе у меня, мысли зла, слепая, слепое зло. Убийства, жалость — это происходит в другом мире, горе, меня не коснувшееся — это не горе, это заголовки новостей. Модно быть циником. Охотники на собак. Ругают дверной косяк, когда об него ударятся. Добра-то много, а вот зла не хватает, если один гнет одно, я должен гнать противоположное. Зло настоящее, это на западе не увидели (а для наших неинтересно это), направлено вовнутрь, зло — это внутреннее, добро — это показуха. Пыль в глаза, в Советской России товарищи всегда найдут. Вечерами не могу уснуть нормально уже много недель, чужая квартира, ты — жилец, блюди гигиену, подумай пятьдесят раз, брейся аккуратно, следи, чтобы блюлось. С людьми живешь. Когда один, можно сказать, и не живешь, мы живем для других, когда встречаются двое, это два тщеславия встретились. Размножение личностей, один американец, у него десятки личностей. У нас — наоборот, в одной личности воплощены все поэты, а заодно и менты, и бандиты. Мне подсовывают мысли, телевизор, родители, зло.
А скоро Новый год. Наверное, будем пить на кухне с Артемкой. Потом салют, речь президента, наоборот. Ужин вскладчину. Ты, скажет, купи мандаринов, а я оливье сделаю. Имя Оливье досталось салату, имя ученого с мировым именем досталось микробу, мое имя досталось тетрадке по русскому ученика девятого бэ класса. Хуже всего, если родители позовут на Новый год. Как отказать? Как это люди говорят «да» или «нет», я бы, если б можно было, всю жизнь выбирал. И так и не выбрал. Выдумали много разных видов ада, на востоке верят в ад холодный, горячий и ад одиночества, это самый фантастический, это явно невозможно на земле (Где. На земле). Ад одиночества, какой это ад, когда знаешь, что за стенкой люди живут. Прошлой зимой зашел в книжный, а мне с порога:
— Вам что-нибудь подсказать?
Отвечаю, мол, я посмотрю пока, и тут смотрю: срам какой, мне на плечо птичка нагадила, я прошел пару шагов, а она сразу заметила, как я вошел. Перчаткой вытер, все равно пятно осталось. Птичка — голубь — символ божий, бог на меня… богу на меня… Кто не верит в бога, это еще только наполовину неверующий, полностью неверующий — это кто не верит и в человека.
Артемка нашел смешную фотографию из их семейного архива, мне показал. Вылитый Цезарь, отвечаю. Не пооонял? Два дела разом делает, говорю. Ааа. Точно. Увеличить надо.
Нет, тут надо писать картину по мотивам поэзии Пушкина. Религия позволяет Петровичу одновременно есть и ногти подстригать. Портрет дельного человека.
— Хочешь совет, чисто по-дружески? — Артемка-то.
— Ну, давай.
— Хватай, что твое, и делай, как хочется тебе. Только так. Ты… тебе на все разрешение нужно просить, пока не разрешат, ты шагу не сделаешь. А ты не спрашивай, делай, что тебе нужно, не спрашивай никого. В жизни все так, кто наглей, тот и прав.
И чайку прихлебнул. Он прав, но не признавать же это ему в лицо.
V
Паспорт забирал сегодня, огромная очередь, вся лестница в людях,
Жизнь кажется скучной, если каждый день встречаешь знакомых людей. Если бы каждый день это были люди разные, было бы интереснее. Поэтому, я убежден, и стали организовывать карнавалы.
Он пишет, в сознании здорового и свободного человека нет места для случайностей. Покажите мне такого человека. Покажите человека. Это человек. При свете лампочки мою руки. Мыло сушит кожу. Сухой климат. Здоровый человек, пышущий здоровьем, он не станет хозяйственным мылом руки мыть. Сушит кожу, сухой климат, пейте какао. Здорового человека нет. Свободного человека нет. Человека нет. Бога нет. Ничего нет, есть только стены из мыслей и мысли, запертые в стенах, и на улице снег валит, и мои мысли ничтожные, измученные, мысли-калеки, мысли калеки, нелепица, падающего толкни, толкни мои мысли, мысли толкни. Нормальный человек. Они были там, нормальные люди. Я построю стену из своих мыслей, со стороны это будет карточный домик, я назову его «Райский уголок» и буду там жить.
Райский уголок. Уголок райский, если это свой уголок. Райский — только уголок, адский — целый город. Целый город не рад мне, не рад мне памятник кошкам, не рад Ильич, не рада кондукторша: когда я захожу в автобус, кондукторша не радуется мне. Почему мне плохо сегодня? Я ходил получать паспорт.
На другой день Петрович нам набросок для его книги о божественном зачитывал. Тут совсем немного, сказал. Как распускается цветок, так и ты вместе с ним распускайся утром, и пусть каждое утро для тебя станет новой жизнью. Бабочки живут один день, будь, как они, новая жизнь ждет нас каждый день, ложась спать, мы умираем, чтобы возродиться утром. Как вам? Это будет начало главы. Да, да. Есть в этом что-то, вру. Вот и я думаю. Это цельная мысль. Спасибо, что выслушали. Ушел. Он на своем положении может так почитать, если я напишу что-то, я даже если и предложу выслушать, то потом читать не стану. Я могу, но не стану. Потому что я о себе, и никогда об общем, потому что общее — это для всех, а я — это только для меня, другого я у меня не будет, так что интересно ли, неинтересно ли в этом я ковыряться, а ничего другого не остается.
Мы — это то, чего мы хотим, тот, кто хочет того, что может сбыться, не стоит ничего, только тот, чье желание никогда не сбудется, заслуживает внимания. Хотеть возможного — это, если хотите, пошло. Невозможность — шлагбаум на пути моего хотения, настоящее невозможно, я хочу сказать, что плохо только настоящее. Любое прошлое хорошо, любое будущее чудесно, потому что их уже (еще) нет. Чего нет, то может быть уже каким мы хотим, в конце концов, они вечны, отсюда такая ностальгия, тоска по прошлому, тоска по будущему, потому что они ненастоящие, потому что они — не настоящее. Мы идеализируем, потому что мы не там, мы были, есть и будем тут. Бесполезное прошлое. Ну как напоминание о том, что жизнь нас не спрашивает. Куда мы не можем вернуться, кем мы не можем стать. Невозможно и Никогда. Так устроено. Так уж устроено. Что уж поделаешь.
Ты надо мной издеваешься. Меня мучает. Он не хочет мне помогать! Ты издеваешься. Это ее любимое слово было. Я над ней издеваюсь. Она это и отцу, чуть что. Любимое слово. Накапай ей этого, как его. Нет, нашатырный она нюхает, его пить нельзя, сынок, ты смотри мне. Вылей иди. Из головы вылетело. Чего там она пьет? Корвалол, что ли. Иди накапай. Чуть что. Чуть что. Такие сцены. Теперь помирились. Вернулись туда, откуда ушли. Как хорошо, что день заканчивается.
VI
Тридцать первое. Артемка искусственную елку в своей комнате поставил. У нас никогда искусственных не было, всегда были настоящие, дядя Паша привозил на машине, потом иголок в ковре всегда много, но это только пока я маленький был, лет с десяти вообще без елок стало. Помню последнюю елку, отец такой веселый, ель, говорит, занеси, и я занес. Но оставаться здесь на Новый год не хочется, возвращаться домой надо. Лучше прийти сразу с утра, чтобы была возможность уйти. Ошибка в том, что я не хочу ничего менять, можно было поступить в другой город. В Москву. Кву. Кву. А кому я нужен там? Жить в Москве. Я живу в Москве. Подъеду на метро. Где родился, там и пригодился, я не пригодился, это так, глупые фантазии, я же знаю, что никогда никуда не уеду. Никогда никуда.
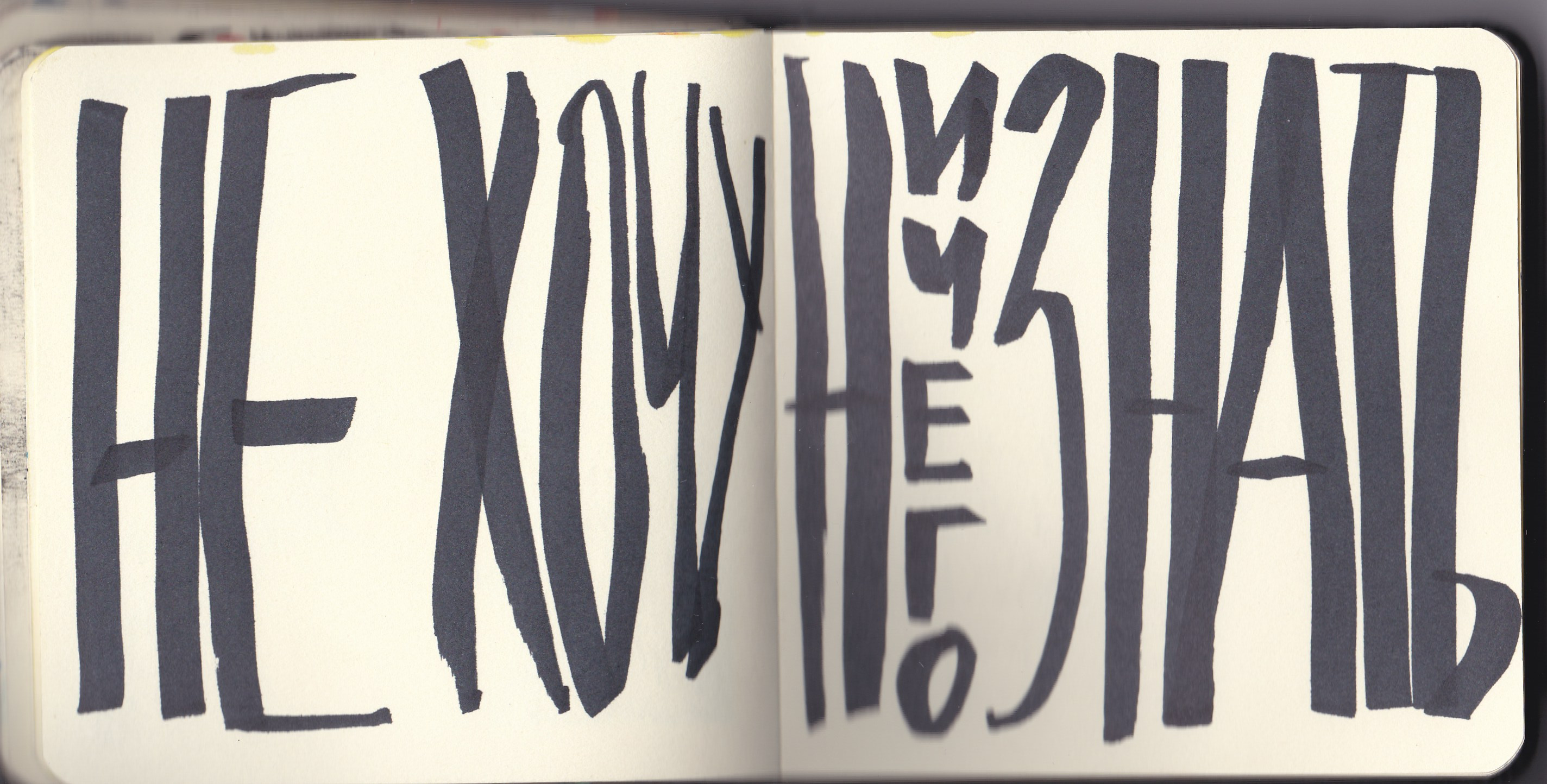
Не хочу ничего менять, так возможно, это национальная черта, мне просто хочется, чтоб меня не трогали, я не хочу ничего. Проблемы в семье не должны расстраивать, нужно жить самостоятельно. Снег коричневый на земле лежит, рыхлый, шины его таким делают, с утра небо уже серое, и я домой иду, незваный, без подарка, потому что некуда. Когда мне хорошо, на моей голове как будто такая шапочка. Очень редко. Скука, потому что людей не видишь, а людей не видишь, потому что поговорить не о чем. Как будто все вокруг играют и обсуждают только эту игру, а я не играю и потому не могу обсудить, я не знаю правил, не умею играть, только из вежливости могу спросить, поддержать разговор, но
— Привеееет!
— Привет, Петя. Что новенького у тебя?
— Подааарки!
Подарки ему подарят, мишуре будет радоваться, это мне ничего не надо. Зашел в подъезд, новогоднее настроение с собой унес. Пойду-ка я отсюда, я должен спать лечь рано, чтобы не услышать их салютов, их радости, даун Петя живет весело, это я невесть что возомнил. По телевизору этих, как его. Который пьяный-то улетел. В баню ходит. Как его? Кино старое. А, все равно. Бесцельное блуждание по улицам бесцельного города. В Москве. Городе на Неве! Что бы я там делал? Да не верю я в себя, я бессилен, я тревожусь.
Мне не нравится, в
Это блестящая литература и
Я вернулся, откуда пришел. Но сюда тоже, я не знаю, не знаю, я постоянно должен метаться между крайностями, потому что посредине — негде, посредине — улица, чужая, враждебная среда, поверну назад, к родителям. Чужие мысли. Не только о птицах за четыреста. Я ведь не жалею себя, так ли? Как будто мне оставили машину, не сказав, как ей пользоваться. А кто должен был сказать? Кто тебе что должен? Никто тебе ничего не должен, это ты должен родителям, по гроб жизни им обязан. За то, что кормили тебя. Жил у них. Горит голова моя. И в Винзилях живут люди. Но
Двадцать лет — это смешно и наивно, звучит глупо, все мои мысли звучат наивно и глупо, это молодость, это еще так только, он все поймет потом, какой был. Да ведь когда я пойму, каким был, разве я не стану тогда тем, кем я стал? Понять, что я потерял, я смогу, только когда я потеряю, но, возможно, я уже что-то потерял, возможно, мало, но, возможно, что и очень много, да и скорее не терял, а просто не приобретал нужное. Нужные знакомства, нужные навыки, нужные вещи, где твои друзья, где твои права на машину, где твоя банковская карточка, где твой аккаунт в соцсети? А если ты не хочешь участвовать во всем этом на наших условиях, то не участвуй, на своих условиях иди себе один существуй. И я пошел один существовать.
Как странно: солдат по улице идет. Или не странно, я не знаю, какие у них порядки. Солдат идет. Война начнется, он страну защищать пойдет. Да какая война-то? Ну, допустим, завтра на нас нападет Украина. Или Латвия. Или сразу — и Украина, и Латвия. Вот. Он пойдет защищать Россию. И я пойду. Приедем на учебу, замполит (или кто там) спросит: «Товарищ рядовой, будете защищать матушку-Россию?». Так точно! Ну, по состоянию здоровья меня могут в тылу оставить, труженик тыла, допустим, буду охранять склад с брезентом, наверняка есть такие отдельные склады для брезента, и, когда я вернусь, подожду, и, когда это военной тайной уже не будет, буду говорить в интервью, у ветеранов же часто интервью берут, и вот я буду говорить: «Это у вас, на гражданке, этот объект просто так называется складом с брезентом, у нас (у нас! У
VII
Даже не заметил, как опять до дома дошел. Но пока такой настрой, менее унылый, звоню в домофон. Ти-ли, ти-ли. Ти-ли, ти-ли. Ти-ли, ти-ли. Ктоо? Это я. Ооо! Как будто радуется. А может, и в самом деле? Открыли. Я зашел, оба встречают меня, мать улыбается, отец сонный, но как будто тоже рад мне. Я с порога говорю: да я без подарка, я так зашел, а
Смотрю, на столе отцовом книжка лежит в мягкой обложке. «Книга, которая лечит». Я хочу написать книгу, которая травмирует. Книга, как я пишу книгу, песня, как мы ищем новый звук, книга, которая лечит, книга, которая. Мою книгу я не прочитаю никому, я ничего не сделаю, шах, говорит отец, мне нужно быть кем-то, зачем лгать себе, то всего и сразу, то ничего не надо, это молодость, это двадцать лет, я думаю это в двадцать лет, когда я скажу: в двадцать лет я был таким, я уже не буду помнить, каким, главное, какой я сейчас, ведь я всегда буду сейчас, а тот я, что был, он всегда будет лучше, ведь он был, а я есть. Шах, снова шах, мать салат делает на кухне, я с отцом в шахматы играю, Новый год, мишура, спокойно внешне все, но внутри разрываюсь я. Между тем, кто я есть, кем я был, кем я стану, кем я не стану, что вот я летом делать буду, а ничего, это же двадцать лет, все как будто и несерьезно, но у всех вокруг уже все сформировано в жизни, я имею в виду, круг друзей, жизнь для них это сто раз хоженая до них тропа, все для них протоптано, идут себе прямо, глядя вдаль, а я так не могу, я
Я остался сейчас один и залез за диван.
