альманах-огонь: частный случай целого
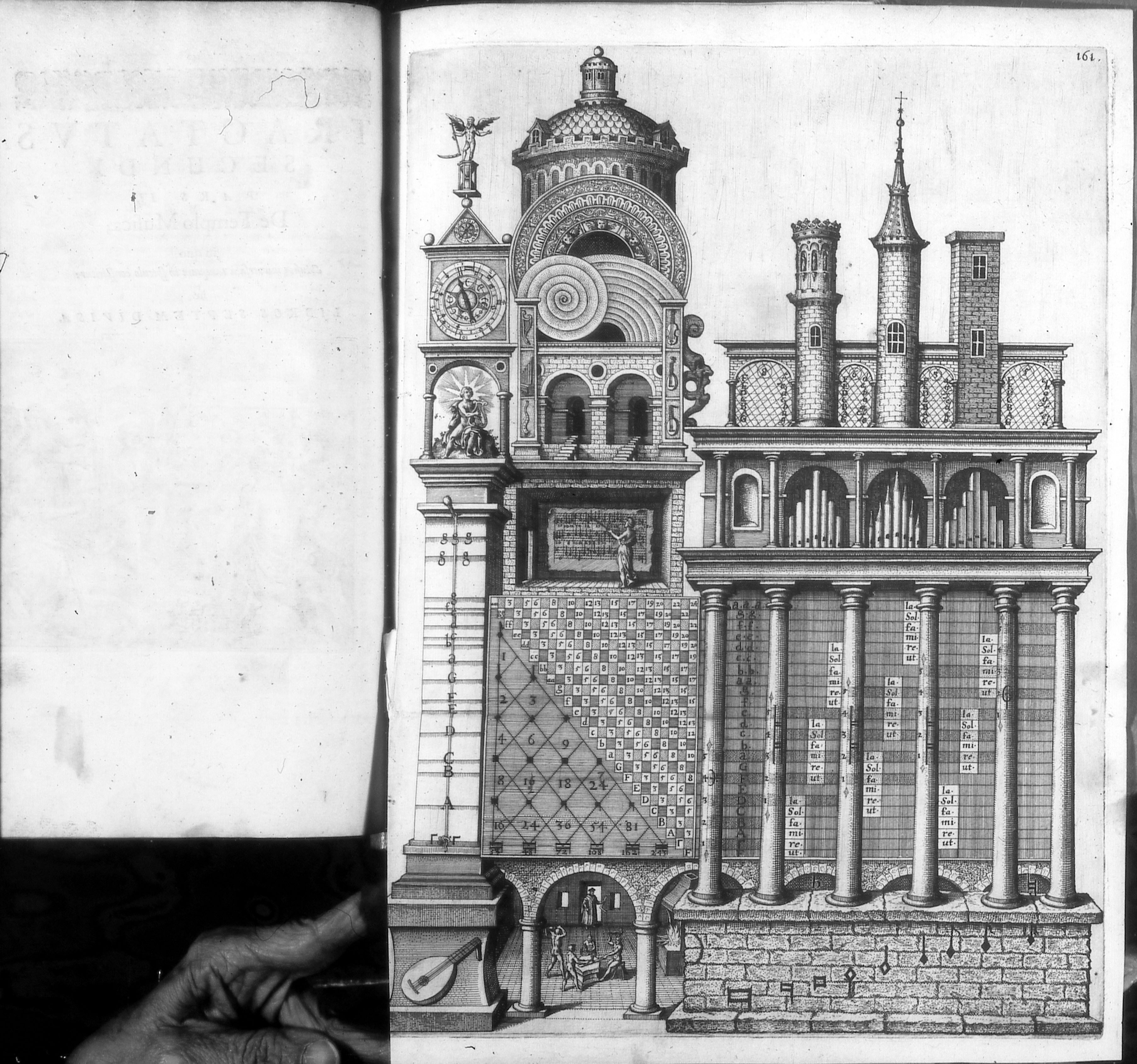
«Забудем старое различие между музыкой и словесностью, ведь это лишь намеренное расставание с первоначальными положением дел ради их окончательной встречи: первая, вызывая чары, расположенные в той или иной точке слышания и чуть ли не абстрактного Видения, превратилась в рассудок — который попадая в пространство, наделяет печатный лист тем же значением.
Между Музыкой и Словесностью существует чередующаяся грань, которая то расширяется в сторону тьмы, то непреложно сверкает единственным феноменом, который я назвал Идеей. Каждый из этих модусов тяготеет к другому и, исчезая в нем, выходит с заимствованиями: дважды, вибрируя, в завершенном виде возникает целый жанр.»[1]
Маллармe
«Музыка — это не язык и не некое сообщение… Воздействие, которое оказывает музыка, часто превышает наши рациональные возможности осмысления. Движения создаются внутри вас; вы можете ощущать их или нет, вы можете управлять ими или нет, но они находятся внутри»[2]
Ксенакис
1
Culture, as nature, unveiled
Однажды я открыл ящик своего первого письменного стола и увидел, что он переполнен музыкальными дисками. Там было множество пиратских копий альбомов, выпущенных в девяностые и нулевые, и я вспомнил тот голод, который мучил меня, когда я искал в ДК Горбунова или в Соулсике очередной знаковый post-hardcore, post-rock альбом или еще менее известный grindcore или ambient.Глядя на синюю пиксельную птицу или подрагивающие столбики Винампа, я представлял, что это порталы туда, куда другим способом не добраться — порталы во внутреннюю способность быть человеком выбирающим, на что направлено и куда уходит его внимание — и тем самым начинает формировать ту реальность, в которую он прибывает и в которой со временем начнет пребывать. Если среди этой музыки возникал вокал, то он был ревом, криком или пением на иностранном языке, горящим и дымящимся словом.
Теория всегда предполагает дистанцию, откуда видна та связь, которая объединила множество частных случаев и повлекла за собой те перемены, которое человеческое сообщество последовательно воплощает в жизни, руководствуясь чуть ли не противоположными желаниями. Если представить культуру как бесцельность, как самоцель — то это будет та самая вселенная параллельная вселенной истории, постоянно тем не менее с ней пересекающаяся.
Когда я смотрю на Клеевского ангела истории, о котором пишет Беньямин, у меня возникают две ассоциации — пуля и молочный зуб. Пуля, потому что глаза этого ангела похожи на пули. Молочный зуб, потому что в нем есть радость от мгновенности разрыва.
Линейная история мира с ее точками отсчета, датами, империями и событиями, все время пытавшаяся затмить и заставить служить себе культуру, пуля (cтрела, лазерный луч) в некую цель, но сейчас мы понимаем что с этой пулей (стрелой, лазерным лучом) что-то произошло: или она рассеялась во время полета, или некто поймал ее (здесь можно представить существо жертвенного коня, подробно описанное в начальных стихах Брихадараньяка-упанишады [3]), — культура висит облачными образами над возможным исчезновением истории, ее отходом в тонкие миры истончившихся религий и провалившихся социальных революций.
Свинец истории превратился в столовое серебро и зеркала, бесконечно отражающие мертвых. Культура — сама себе теория, сама себе проницаемость, особенно когда дело доходит до музыки, куда не входят с оружием наперевес, где оказываются просто потому, что есть день и есть ночь и есть жизнь. Во все времена музыка удерживала способность человеческого общества быть не потенциально, а действительно человеческим (что совершенно не означает антропоцентричным, то есть зацикленном исключительно на себе, скорее наоборот — быть открытым). Как пишет об этом Булез:
«Ни одна церемония немыслима без музыкального празднества с участием голоса. Никакая общественная жизнь не может избежать случаев, когда необходимо устраивать праздники или описывать себя с помощью литературы точной в своих референциях, сопряженной с музыкой, которая «отсваивает» от повседневной жизни: двор, салон, концерт, радио, пластинка — цели меняются, но направляющая мысль остается верной самой себе.»[4]
После модерна композитор уже занимается не столько детерминированными вещами, сколько меняет ситуацию в сторону большей и почти спасительной музыкальной неопределенности, обладает этой способностью что-то менять (в английском варианте это определение композитора и гитариста Майкла Пизаро: «Сomposer is somebody who changes sonic situation»[5]) — неважно, отдается ли он первопоиску религиозного в своей музыке, тем самым расширяя пространство утопии, или продвигается по контуру тишины, углубляясь в фактуру звуков как таковых, в опыт непосредственного переживания звука. Напрашивается аналогия с поэтом — человеком, который меняет ситуацию в языке и переживает непосредственный опыт слова. Но на самом деле все сложнее.
Хотя язык преследует нас повсюду, только время от времени встречаемся мы с ним лицом к лицу, и эта встреча всегда чревата нечаянной искрой, если мы сумеем осознать ее. Как солнце растет в размерах, так растет и язык, и поэт — вынужденный оператор вспышек на этом солнце. После встречи со своим материалом он и сам становится тем, кого чрезвычайно сложно предсказать и заговорить. Отсюда недоверчивость, несговорчивость и брезгливость поэтов — пока жизнь, как камера, снимает их в согласии со своими требованиями, они сопротивляются и ждут вспышек, потому что подобные вспышки — это именно то, что нужно от них другим людям. Их странно блуждающий взгляд воплощает интенсивность перемен в расширяющейся вселенной. Эта интенсивность, например, в том, как другие виды искусства ассимилируют язык в себя, его коммуникационные или периферийные спектакли, пересобирая его на смешанных территориях. Где как не в авторском кинематографе, видеоарте и экспериментальной/электронной музыке сейчас достигается та интенсивность, в которой язык умирает и возрождается без оглядки на бумажные и цифровые страницы, и напротив, как часто последние играют роль слепков с этих синеcтетических событий восприятия.
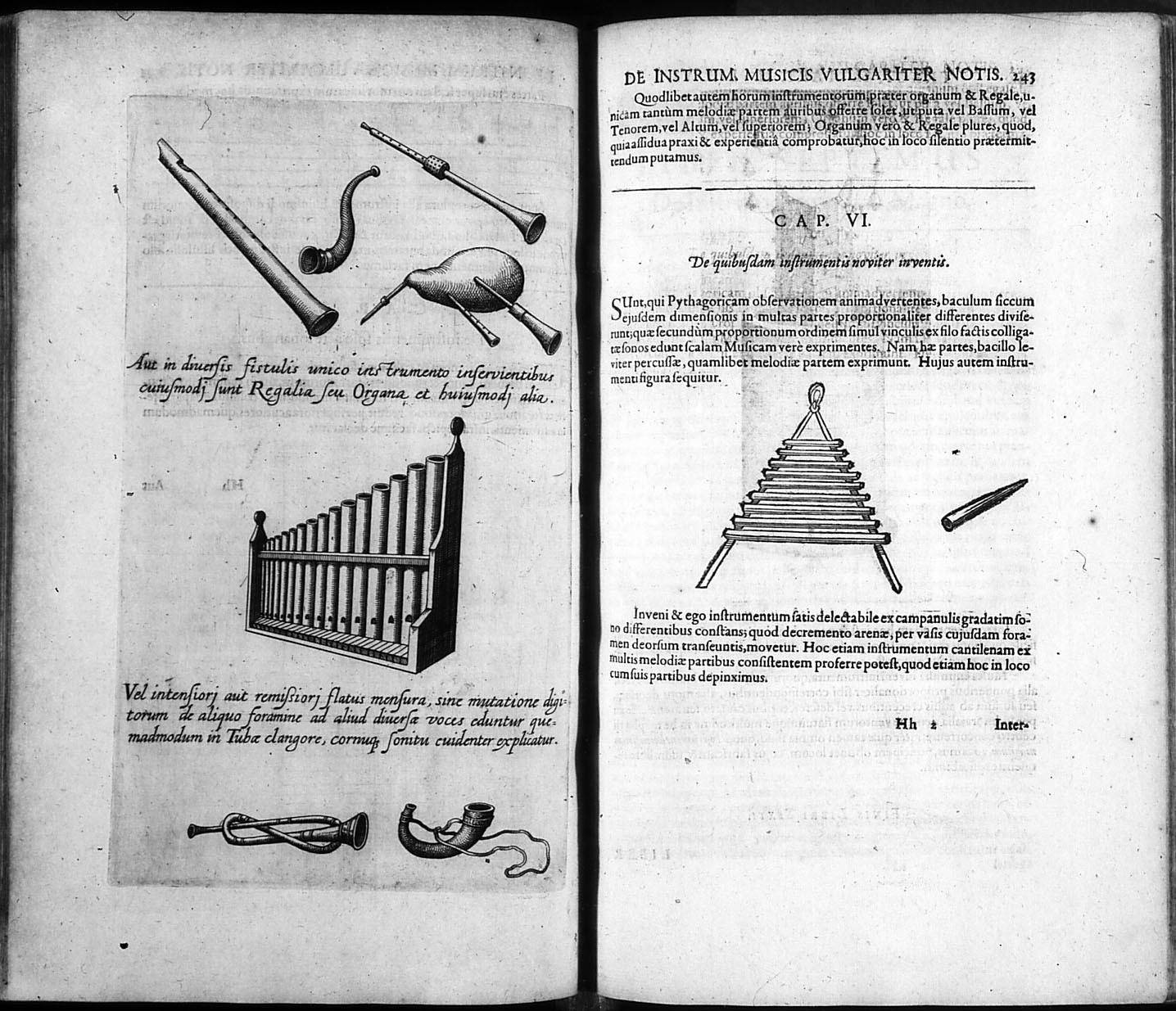
2
Мифический инструментарий, внутренний голос и внешний шум
«Всякая поэзия поначалу была предназначена для того, чтобы петься: эволюцию поэтических форм невозможно отделить от их музыкальных соответствий. Не будем забывать, что греческие трагики сами писали музыку для хоров и мелодрам. В более близкое к нам время Гийом де Машо вводит новации и в музыке, и в поэзии, и его имя принадлежит как истории литературы, так и истории музыки. Единство концепции достаточно часто нарушается, поскольку каждая «специальность» требует мастерства и знаний, необходимых для собственной сферы действий. В частности, виртуозная игра на инструментах требует независимости и бросается на поиски собственных средств выражения. Если она пока еще комментирует поэтические тексты, положенные на музыку, то вскоре она избавится от этих уз и фактически узаконит отделение поэзии от музыки, под знаком которого мы сейчас живем.»[6]
Полемизируя с Булезом, можно заметить, что, как это часто бывает с узаконенной тенденцией, под собственной растущей тяжестью она начинает меняться и перерождаться, проходя через стадию мощнейшей инерции, а затем революционного скачка. Происходит ли дальше разворот к слиянию поэтического и музыкального?
Слишком удобно было бы говорить о древних греках, распевающих свои стихи под аккомпанемент лиры — у них были не просто мифы, но мифы такой определенности и силы, о которых сейчас не может быть и речи. Эта лира, этот лиризм неопределенной реальности, и сама эта зыбкая реальность современного мира настолько переполнена звуковыми ситуациями, что к ним стали относится как материалу новой музыки, в их выборе и в методе работы с ними рождается художник нового типа. Если он живет в большом городе и пользуется смартфоном, то глаза неизменно устают от сфабрикованности и навязчивости внешнего мира. Он закрывает глаза и начинает слушать, он закрывает глаза и начинает петь. Петь с закрытыми глазами — это способ уйти от диктата отбойномолоточной внешней реальности к внутреннему ресурсу, открывая возможность голоса, суггестивной силы его вибрации, качественно преобразующей состояние. От «голоса» можно двигаться к «органу», этимология которого восходит к понятию инструмента. В китайской медицине существует связь между определенными звуками и соответствующими им внутренними органами. Голос как способ ощутить себя изнутри, как целое.
Не так давно я видел документальный фильм об отшельнике, который все еще не мог отказаться от радиоприемника и распевания песен наизусть. Его новая реальность не была абсолютно новой, ему было нужно, чтобы прошлое звучало в настоящем, но происходило обратное — это пение по памяти было способом интенсивной работы с настоящим, а не прошлым. Таким образом он давал появиться чувствам, это было празднование времени своей человечности через музыку. Звуковые волны, которые улавливал и транслировал радиоприемник, не звучали для него фоном, он был весь настроен на них, они позволяли ему прочуствовать заново это воодушевление.
Попробуем вернуться в урбанистическое подобие ландшафта и послушать один из характерных звуковых коллажей длительностью в сутки, скажем с субботы на воскресенье. Локализуем его в Курсовом переулке Москвы. Днем внешний шум мегаполиса может достигать интенсивности отбойного молотка, который исправно продолжает буравить слои кривоположенного асфальта, и уровень его шума в децибелах обратно пропорционален его способности что-то изменить. Ближе к ночи ему регулярно наследует звук ночной дискотеки клуба Gypsy на территории бывшего завода «Красный октябрь», расположенному на другой стороне реки. На утро, в свою очередь, не дождавшись затухания прямой бочки, ее начинают накрывать тихие удары колоколов всех близлежащих храмов. Если еще не хватило звуков реальности, то можно представить звук человека, нырнувшего c трамплина в бассейн. Тот самый бассейн, которому приснилось, что он храм — или храм, которому приснилось, что он бассейн?
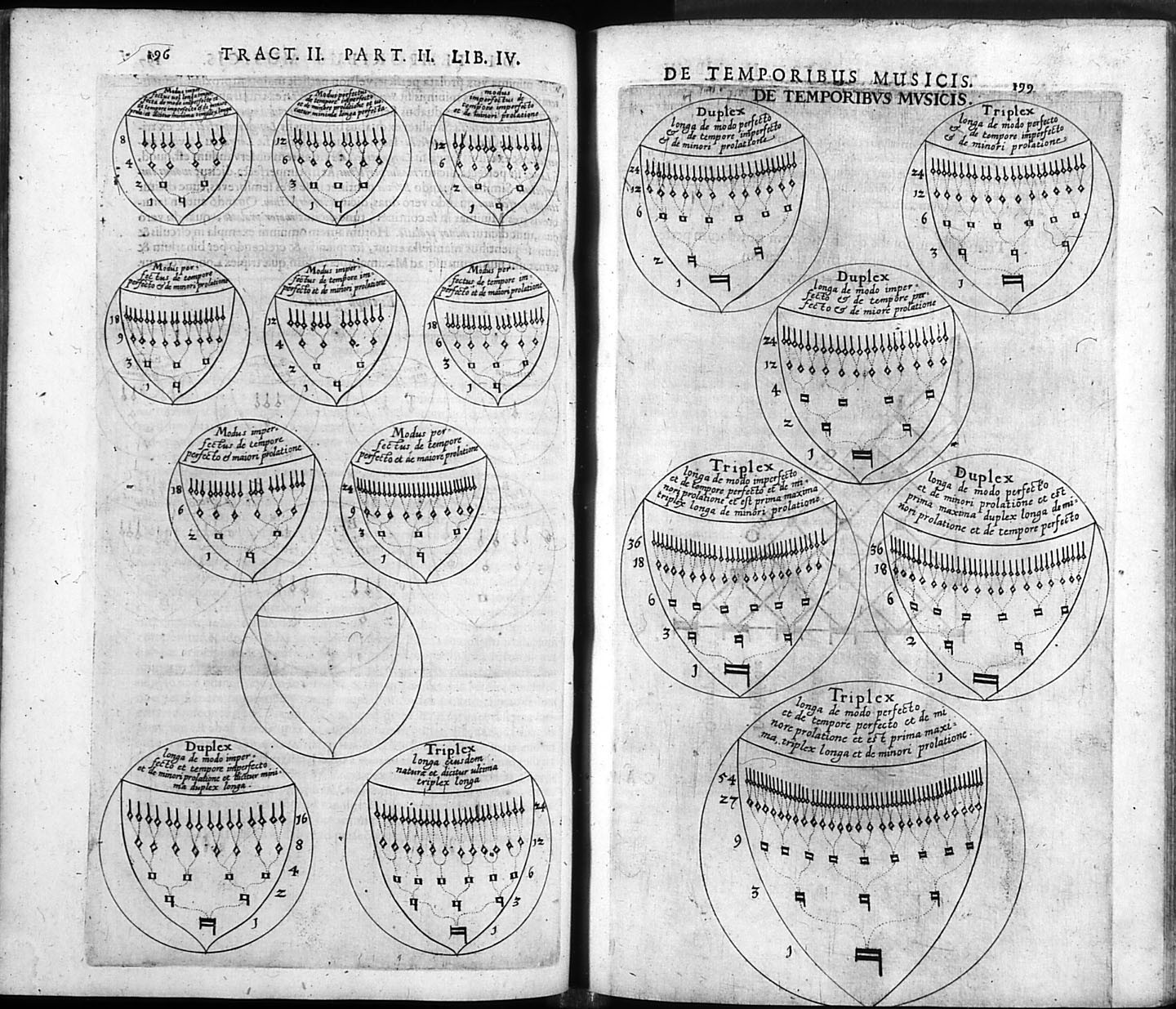
3
Сакральное электричество, метаморфозы в
Если бы мы начинали день с вопроса о самочувствии поэзии, то поиски ответа сводились бы к тому, каким образом она способна возрождаться, не превращаясь в романтические/реалистические/модернистcкие etc. руины и сохраняя связь с разными уровнями реальности. Скудные времена приобрели изо всех сил сохраняемый вид времен изобильных, и стали так тесны в своей репрезентативности, что предполагают теперь монтаж не только неправдоподобных объемов информации, но и зависимых от него мировоззренческих установок.
Поэтический язык в «кремниевом веке» — фрактальная плазма, сплавляющая те связи, которые возникают в наэлектризованном бытии, постоянно соскальзывающим в виртуальный зазор между присутствием и отсутствием. Экологическая повестка, у которой появляются свои ангелы-обличители, хорошо подсвечивает не только таяние ледников, но и ту реинкарнацию Золотой лихорадки, где вместо золота — песок и кремний, из которого создаются экраны и микросхемы, а в качестве образа-антидота — спутавшиеся ветви деревьев на обложках ambient или black metal альбомов, напоминающие о том, что есть кое-что еще кроме apple pay и приложений, которые уже больше никогда не дадут нам сбиться с пути.
«Цель священных песнопений — восхвалять божество или божеств, вызывать их благосклонность, обращаться к ним с мольбой в тяжелых обстоятельствах, благодарить их за оказанные благодеяния или предотвращенные опасности. Перед профанными же песнопениями ставится цель коллективного развлечения или — как в песнях ремесленников — сопровождения и облегчения каждодневного труда. Стало быть, эти песни связаны с социальными классами, будучи непосредственным выражением их будничной жизни до тех пор, пока они не доходят до того, чтобы буквально, посредством звукоподражаний, имитировать трудовые шумы (как в песнях людей, управляющих пирогами). Такие «утилитарные» цели не позволяют отличить просто текст от пения; в этом случае инструментальная музыка применяется лишь для ожидания звучания голоса, необходимого, чтобы поддерживать непрерывность обряда»[7]
Люди, проживающие жизни не выпуская телефоны из рук, вполне предсказуемо нуждаются в электронной музыке, как священной. Здесь показателен тот момент, что подавляющее большинство рок-музыкантов заняты воспроизводством мифа о
Электронная музыка в этом смысле парадоксальным образом возвращает человеку его «темный» метафизический целительный свет даже в
Акт синтеза, это горение пустоты, спицы в бешено вращающемся колесе, которые скрепляют центр с периферией, отсутствие с присутствием. Тот самый круг художников Дзэн, который излучал незавершенный покой движения. Реальность, этот вечный фрагмент, заслоняющий целое.
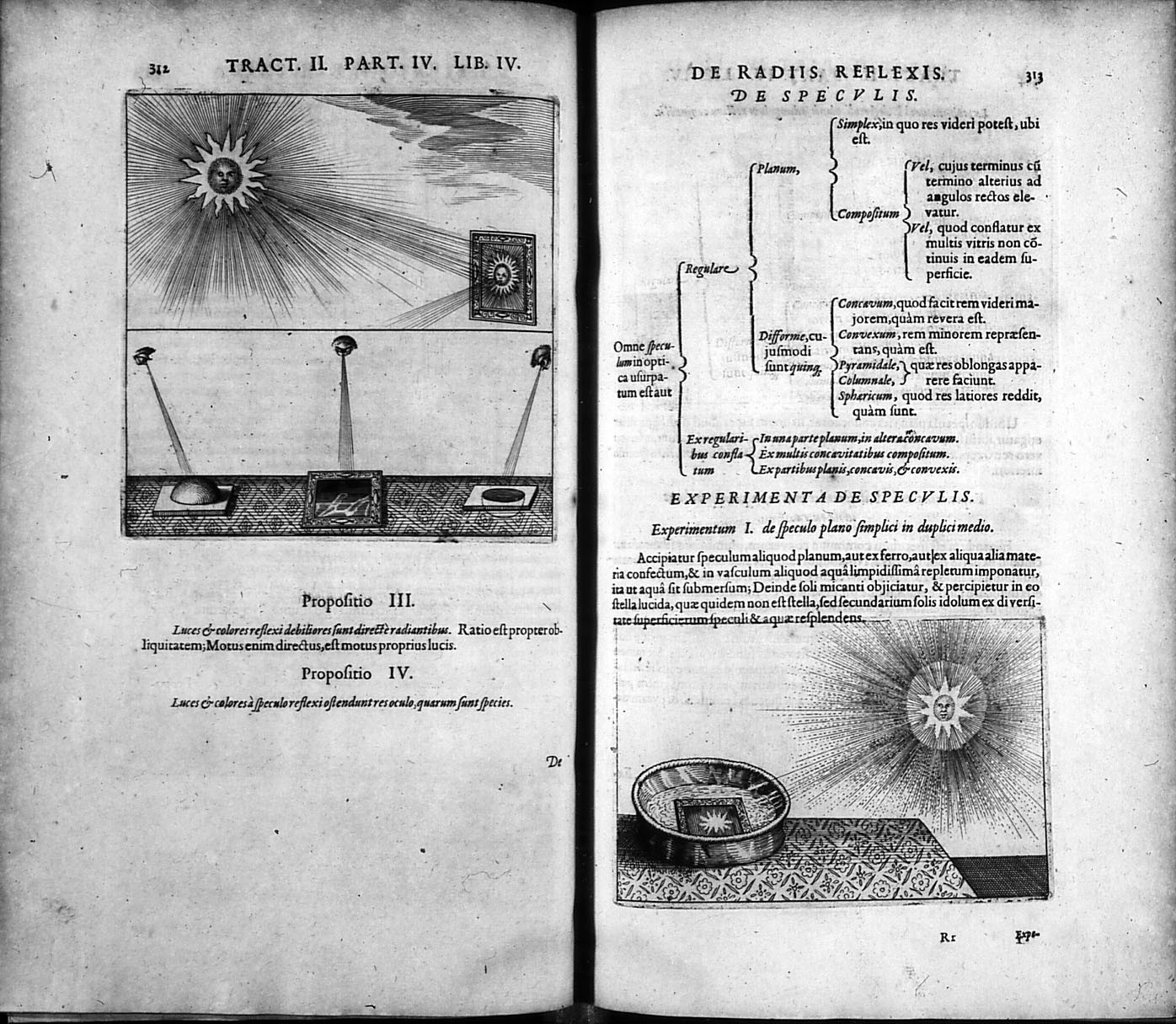
4
Проницаемость и контрапункт безымянного простора
Есть определенное нисходящее движение в движении письма — пишущие или печатающие пальцы падают как дождь — вниз, тогда как пение уносится вверх языками пламени.
Нельзя сказать, что в череде голосов, утверждающих неразрывное единство поэзии и музыки, не было тех, кто думал противоположным образом. Можно даже говорить о случаях ненависти к музыке среди поэтов (известно, что музыку, например, недолюбливал Андре Бретон, есть нелестные высказывания насчет нее у Рильке, бредившего понятием «вещи» и на противоположном полюсе от «вещи» ставившего как раз музыку. Клодель в одном из своих писем называет ее «идиоткой», упрекая в крикливости.[8]
Раздражение Клоделя понятно. Музыка может быть уличена в манипулировании эмоциями, в том, как легко она может уводить от реальности, но от какой именно реальности? Эта динамика взаимодействия, присутствия и отсутствия, которую предлагает музыка, есть и средство мерцания между реальностью условно более субъективной и условно более объективной. За условно более объективной реальностью тянется больший шлейф имен и понятий, она стянута костным языком социального договора, который иногда производит впечатление неорганической твердости. Можно предположить, что так было не всегда. В текущем же положении дел первозданное блаженство поэта, который входит в неименованный мир, невозможно. Но возможно искусство побега в безымянное. Как говорит французский поэт Андре Дю Буше в своих записных книжках — «я пишу как иду», писать как идти, чтобы натыкаться на первореальность, на безымянный простор в своем опыте непосредственного момента. Кто-то гуляя так — размышляет, кто-то — насвистывает, а Дю Буше возвращает стихийный ритм письму и находит способ именовать так свои состояния. Трение между его состояниями и безымянным простором высекает эти искры поэтического именования. Свободное расположение стихов на странице как раз сохраняет эти следы безымянного простора, эти пробитые бреши в круговороте именованного мира.
Дать состояниям имена — это одно, но тем, как именно состояния живут с этими именами, занимается в узком смысле ритм, а в широком — музыка с ее телесностью, тревожностью и самоотдачей. Здесь можно вспомнить многочисленных саунд-артистов, записывающих шум и тишину безымянного простора (field recordings),чтобы позже впустить туда свой звук или свое слово.
Теперь, когда у состояний множественные имена, музыка дает поэзии возможность раскалывать имена-оболочки, чтобы напомнить об
Первая максима в «Октологе» итальянского композитора Джачинто Шелси ставит такое условие в отношениях человека и музыки: «Не быть непроницаемым, не позволять себе быть непроницаемым»[9]. И вот как описывает опыт такой проницаемости Анри Мишо:
«Мы ловим с поличным струящееся изменение настроений. Внезапно радость открывается нам до того, как мы ее чувствуем. Теперь надо лишь узнать ее… Но что это такое? Печаль? Отчего? Почему? По какому поводу, внезапно ставшему столь многозначительным и затмевающим горизонт?… Зачастую мы пребываем в нерешительности, и было бы неправильным желать преждевременного выхода из нее. Это суждено знать лишь ей (музыке). В ней слишком большая тревога, которую она еще не может передать; лишь ей, музыке, подвластно обездвижить эту тревогу, лишь музыке под пальцами… Музыка первой обо всем узнает… Устав от образов, я играю, чтобы выпустить пар… Против шумов — мой шум… Я остаюсь в одиночестве, забыв о своих заботах, почти не ощущая их.»[10]
Одинокое музицирование, вслушивание в еще не осевшие волны встреч и событий, музыка, звучавшая с разных материальных носителей в период раннего детства и ранней юности, вся когда-либо скачанная и услышанная музыка, и потом забвение, отдаление и снова прилив того же самого, но уже другого.
Родители рассказывали мне, что какое-то время моя детская кровать стояла между двух колонок, и я танцевал в ней под альбом «Dark side of the moon», еще не научившись разговаривать. Ничем не обусловленное детское счастье, танцующее в центре тревоги взрослого мира?
Я думаю о том же безымянном просторе, где тишина непостижимым образом позволяет пейзажу быть музыкой, быть ритмом, и мы, уплотненные в своих мыслях так же, как плотна архитектура мегаполиса, повторяем слова, которые говорили уже столько раз, и ставим одни и те же треки, под которые представляем собственный предел, и они в ответ возвращают нам переживание первых мгновений бесконечности, ощущаемое не снаружи мира, а внутри него — внутри самих себя. И так появляется голос.

5
Сообщество вне себя, активная тайна
В своей работе, посвященной «Книге» Малларме, Жак Шерер писал: «Рабской истории, которой присуща последовательность в необратимом времени, противопоставлен здесь разум, способный повелевать сюжетом, реконструируя его во всех направлениях, включая направление, обратное ходу времени. То же двойное движение может продемонстрировать — в качестве одной из крайностей — превосходно сочиненная книга, а в качестве другой — набор листков, разбросанных по сугубо внешнему (произвольному) принципу, т. е. попросту альбом».[11]
(Малларме называет развертыванием движение от книги к альбому, и свертыванием — от альбома к книге.)
Подобные книгам сообщества развертываются в альбомы. Несмотря на всю зависимость людей от паттернов прошлого, они вдруг оказываются подхваченными циклами другого порядка, когда поэтическому удается пробиться именно в результате этого развертывания, напоминающего свободную, но направленную игру вышедшего из себя музыканта. Мир и коммуникация предстают тогда чем-то другим, их дискретность вдруг становится очевидна. Из чрезмерной явленности перед тем и другим эта игра позволяет опять скрыться в тайне, но это сокрытие парадоксально плодотворно и экстатично, оно не возвращается в старые границы, оно оставляет их без повседневного реактивного внимания, и таким образом те теряют не только свою навязчивость, но и силу. Вечность пахнет вниманием.
Александр Скидан в своем эссе «Поэзия в эпоху тотальной коммуникации» пишет:
«Стихотворение уже само по себе есть изгнание из мира, и отдающийся безобидной вроде бы поэтической игре свидетельствует тем самым о готовности пребывать вне закона, вне порядка истины и поддерживающей её коммуникации, быть выброшенным вовне, в том числе самого себя.»[12]
Развертывание человеческого сообщества из себя в это неизвестное, точно так же происходит благодаря этой игре и связности, в которой есть свои высокие и полные общего воодушевления моменты, когда нечто вдруг становится возможным. Быть может, только греза ребенка будущих времен может вместить в себя сообщество-откровение, а быть может, мы уже cтановимся таковым.
Именно в один из таких мерцающих моментов поэзия молнией пронизывает и связывает реальность бодрствования, реальность сновидения и реальность глубокого сна, где не существует уже никакого полиса, никакой истории, только это ощущение единого по ту сторону образов и форм.
Тем не менее мы всегда возвращаемся к ним. Их генезис всегда может выразить что-то существенное, быть молчаливым свидетельством приливов и отливов времени, даром воображаемого, открытым заново. На смену Клеевскому ангелу приходит Spiral Jetty Роберта Смитсона и так далее, новые витки спирали образов. Горизонтальный взгляд падает слезой, вертикальный видит из темени, из родничка, той самой молнией.
Скорость света с точки зрения физики всегда будет больше скорости звука, и поэтому тот редкий момент, когда они совпадают, экстатичен, тогда стихотворение становится не просто возможным, но действительным и неотменимым. Cлучившееся «здесь» письма и «сейчас» звука оказываются инструментом снятия/пересмотра границ, инструментом перемены во взаимоотношениях с текущей цивилизационной парадигмой. Я вижу своих друзей, освещенных этими экстатическими мгновениями обретенного времени в глуши общего сна.
Земля — поверхность песни, огонь — ядро, солнце глубин, откуда происходит наше непостижимое знание друг друга, и на путях обновления вечно устаревающего мира существует то, что возвращает в бесконечность («ты есть») другого. Тишина, внимание, слух, речь, легкая и неповторимая асимметрия музыкального и поэтического, напоминающая едва уловимую ассиметрию человеческого лица.
Иван Курбаков
1 П. Булез — «Ориентиры. Воображать. Избранные статьи». «Логос-альтера», “Eccehomo”, 2004., c. 173↩
2 https://cyberleninka.ru/article/n/horovaya-muzyka-yannisa-ksenakisa-1960-h-godov-ot-iskusstva-antichnosti-k-avangardu↩
3 https://scriptures.ru/upanishads/brihadaranyaka.htm↩
4 П. Булез — «Ориентиры. Воображать. Избранные статьи» «Логос-альтера», “Eccehomo”, 2004. , c. 187↩
5 https://www.youtube.com/watch?v=jsLbz4IyK0c↩
6 Пьер Булез — «Ориентиры I. Воображать. Избранные статьи.», «Логос-альтера», “Eccehomo”, 2004. с. 177↩
7 Ibid↩
8 Ibid с. 190↩
9 https://stravinsky.online/lievon_akopian_o_dzhachinto_shielsi↩
10 П. Булез — «Ориентиры. Воображать. Избранные статьи», «Логос-альтера», “Eccehomo”, 2004. c. 174↩
11 Ibid, с. 141↩
12 А. Скидан — «Cумма поэтики», НЛО, 2013, c. 224↩
