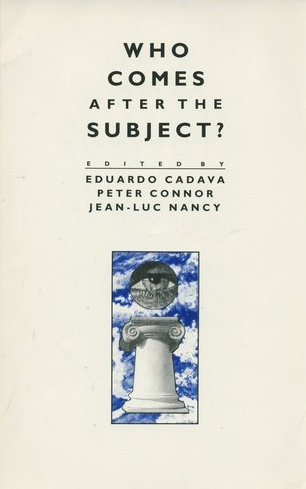КТО?
Кто-то, стоя у меня над душой и зачитывая вопрос «Кто придет после субъекта?», говорит: «Ты возвращаешься сюда из столь давних времен, когда еще сдавал экзамен на бакалавриат». — « Да, но на этот раз я провалюсь». — «Который бы мог доказать, что ты, несмотря ни на что, во многом продвинулся. И все же, помнишь ли ты, как пришел к этому?» — «Самым обычным путем, путем вопрошания о каждом слове». — «Например?» — «Ну, я бы отметил, что первое слово — это «Кто?», а не «Что?», которое постулирует начало ответа или ограничение вопроса, который вовсе не разумеется сам собой; мне следовало бы знать, что то, что придет после, это кто-то, а не что-то, не даже что-то среднее, предполагающее, что этот термин позволил бы себе быть «определенным». Он все время стремится к неопределимости, из которой ничего не высвобождается — кто-либо не в большей мере, нежели что-либо». — «Не так уж и плохо, но это могло бы рассердить экзаменатора». — «И все же я бы продолжил вопрошать, как следует понимать значение «придет после» — является ли это вопросом временной или даже исторической последовательности, или же логического отношения (или их обоих)?» — «Ты хочешь сказать, что существовало какое-то время — или период — без субъекта или чего-то тому подобного, как полагал Бенвенист, за что и был раскритикован, что всегда личные «Я-Ты» — отсылающие к личности — утратили бы свою суверенность, в том смысле, что все это более не обладало бы правом на признание себя (itself) в конкретном «этом» (it), в том, что в любом языке не может выставить требования чего-то личностного, разве что неумышленно: идет дождь (it is raining), это таково (it is), это (it) необходимо (привести несколько простых, но, разумеется, недостаточных примеров). Другими словами, сам язык внеперсонален, или он был бы таковым в той мере, в какой люди перестали бы предпринимать попытки говорить, или случись им просто умолкнуть». — «Такое впечатление, что, в качестве экзаменатора, ты сейчас отвечаешь мне, в то время как я даже не знаю, о чем меня в данный момент спрашивают. И поэтому я повторяю вопрос: Кто придет после субъекта? И формулирую я его уже по-другому: Что было, когда субъекта еще не было, ибо субъект — это недавнее изобретение: снова субъект, скрытый или отвергнутый, заброшенный, искаженный, кинутый пред cущим (being) или, если более точно, неспособный позволить Бытию или логосу даровать ему место?» — «Но разве не слишком ты торопишься, истолковывая этот вопрос в смысле «Кто придет после субъекта?», а не «Кто будет после субъекта?». В действительности ты лишь стремишься потакать себе в скорейшем обретении времени, когда субъект еще не был установлен, отрицая изначальное решение, которое, от Декарта до Гуссерля, полагало субъект в качестве привилегированной инстанции, которая только и сделала нас людьми модерна?» — «Да, кто придет после субъекта? Ты прав, экзаменатор, что отвращаешь меня от легких решений, когда я, как кажется, просто доверяюсь обычной темпоральности. Слово «приходит», я чувствовал это изначально, является проблематичным — даже понятое в качестве некоторого присутствующего (a present), это всего лишь приближение je ne sais quoi (как это обозначено приставкой pre в слове present, благодаря чему присутствующий всегда остается впереди (меня), в настойчивости, которая не допускает какой-либо задержки и даже возрастает от этого отсутствия задержки, что подразумевает, по крайней мере на протяжении моей речи, застигнутость в состоянии заклятия, тащит его в акте его произнесения в бездну настоящего времени (грамматического — Г.Р.)» — «Получается, если только я правильно тебя понял, что тот, «кто приходит», никогда не приходит, кроме как произвольно. Либо же он всегда уже здесь, согласно некоторым нелепым словам, которые, как я помню, читал где-то не без раздражения — где ссылка была сделана на приход того, что не пришло, на то, что могло бы прийти, не прибывая, вне Бытия, как бы по воле случая (adrift)». — «Термин “по воле случая», на самом деле, здесь вполне приемлем, но и мои неуклюжие ремарки не всецело бесполезны, и они возвращают нас обратно в незащищенность, которой не может избежать ни одна формулировка. Тот, «кто приходит», возможно, всегда уже здесь (согласно злоключению или, наоборот, удачи круга), и «Кто», без лишних требований ставя эго под вопрос, не находит присущего ему места, не позволяет себе быть допущенным Мною: «это», которое, возможно, уже вообще больше не это из идет дождь (it is raining), и даже не это из это таково (it is), но и не переставая быть безличным, не позволяет себе также быть измеренным и внеличностным и сдерживает нас у предела неведомого». — «Оно удерживает нас для того, чтобы вовлечь нас в это, несмотря на то, что становление вовлеченным предполагает исчезновение «нас» в качестве, возможно, бесконечного истощения субъекта» .— «Но разве не отдалились мы от Западной мысли, укрывшись в упрощенном толковании Востока, предоставив Я-субъекта самому себе (Буддийская пустота) в мире и покое?»— «Это уж тебе решать. Тем же образом, возвращаясь к вопросу, я бы посоветовал тебе громко озвучить несколько ответов, которые ты не посмел озвучить, определенно, ради того, чтобы избежать решающего выбора. Я дерзаю назвать тебя: сверхчеловек, или еще — загадка Ereignis (события — нем.), или неопределенная крайность праздного общества, или чуждость абсолютно Другого, или, возможно, последний человек, который не последний». — «Прекрати же, искуситель, это неприятное перечисление, где, как во сне, то, что привлекает, и то, что отталкивает, всегда смешано, не существует одно без другого».— «Искуситель, что ж, я согласен, более чем любой экзаменатор, и у меня есть преимущество над тобой в том, что я открываю себя и вдобавок искушаю тебя только ради того, чтобы ты сам не впал в искушение”. — «Следовать окольными путями и значит искушать себя».