Лучшие поэтические книги 2015 года
Как и в начале прошлого года, редакция L5 посовещалась и решила представить лучшие поэтические книги 2015 года, снабдив их краткими, но емкими описаниями. Мы отдельно благодарим Ладу Чижову, Ольгу Баллу, Льва Оборина и Ивана Соколова за возможность опубликовать их тексты.
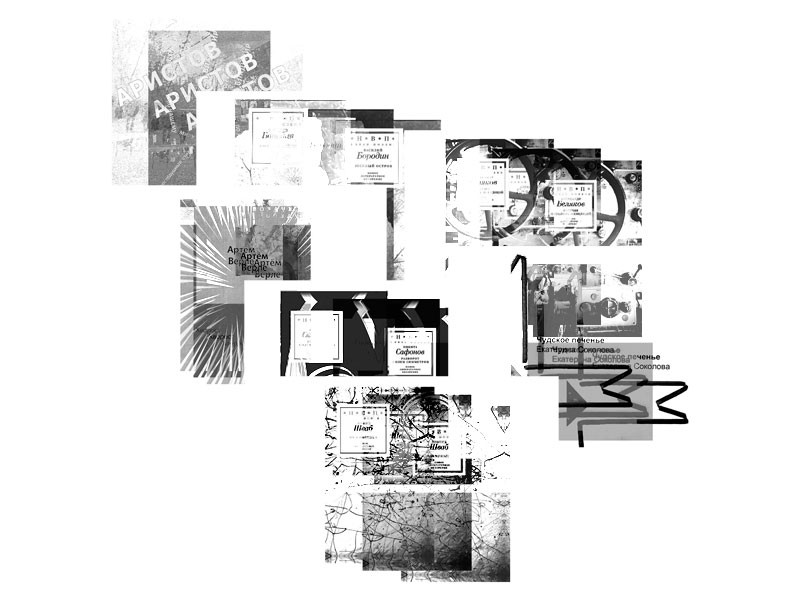
ВЛАДИМИР АРИСТОВ По нашему миру с тетрадью (простодушные стихи). Предисл. М. Кузичевой. — М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2015. — 76 с. — (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).
Ты не пошёл на открытие выставки
художника знакомого
Потому что не смог
Ну как им теперь объяснить
Что пошёл не потому что хотел не пойти
А потому что не смог
Потому что ты должен работать
Трижды поднялся ты на третий этаж
Трижды спустился
Трижды хотел изгнать из головы
невесть откуда приставшее слово «вернисаж»
Потому что в умственной твоей работе
есть слова, которые словно бы
преграждают путь другим словам
и надо их обойти
Но пути найти нелегко
разве что в город другой
попытаться поехать?
Но на что же поехать тебе?
Прыгнуть в последнюю дверь
последнего отходящего вагона
оттолкнув кондуктора чтоб она пожалела тебя
попросив потерпеть себя лишь до Твери
в тамбуре, где не курят
испросив за весь путь выкурить лишь полсигареты
Подзаголовок новой книги Владимира Аристова очень верен и в то же время обманчив. В этой книге действительно собраны нарочито «прозрачные» тексты, почти невесомые по своей плотности (словно это облака или спускающийся с гор туман — так прихотливо строки бывают распределены по странице). Вместе с тем эта не вполне характерная для метареализма вообще и для Аристова в частности «прозрачность» позволяет вывести на первый план другую особенность этой поэзии — её подчёркнутую коммуникативность, нацеленность на диалог с другим. Коммуникация часто становится темой этих стихов, выступает основным организующим их началом. Но она же и показывает, насколько разнообразны ситуации непонимания, искажающие мир, вносящие в него болезненную порцию абсурда (в то время как удачная коммуникация всегда равна гармоничному примирению с миром). Эту книгу можно использовать как ключ ко всему творчеству Аристова, поэта, по общему мнению, сложного: она позволяет понять, что выступает движущей силой его стихов и что стоит в центре его прежних, куда более герметичных текстов.
Кирилл Корчагин («Воздух»)
***
АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ Ротация секретных экспедиций. Вступ. ст. В. Шубинского. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 240 с. — (Серия «Новая поэзия»).
шатуна и шахту повенчала
темнота не знавшая лица
чтобы прочитать письмо с начала
надо подпалить его с конца
взгляд и пламя потрудились вместе
дружески сошлись на полпути
смысл неясен
автор неизвестен
адресату некуда идти
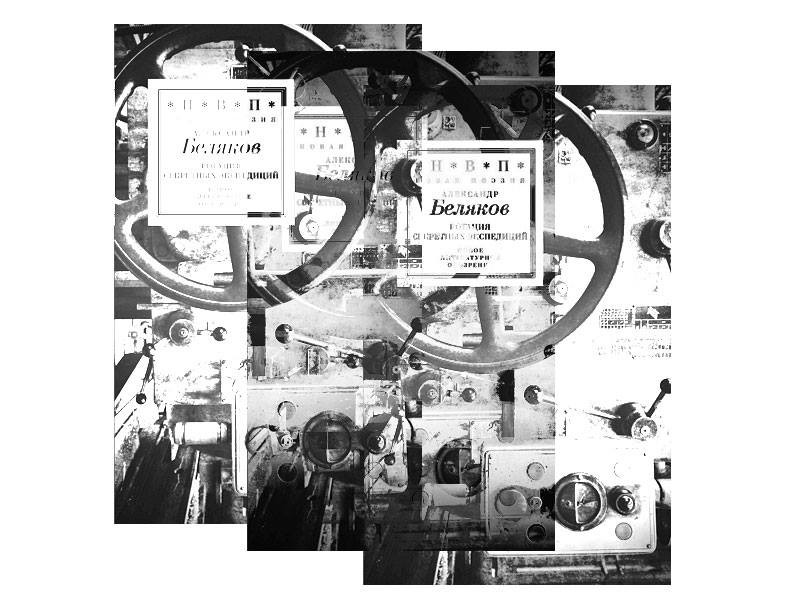
Центральный мотив в новой книге ярославского поэта — мотив катастрофы со всеми свойственными ей чертами: падением уровня воздуха, деморализацией команды, постоянным присутствием неясной угрозы и т.п. От выведенных в заглавие секретных экспедиций — перемещавшихся по «ничьим землям» Леонида Шваба — поступают тревожные послания, но намеренная стёртость размера и речи в целом (несмотря на использование достаточно редких для поэзии слов) делает их как бы само собой разумеющимися. Грубо говоря, Белякову очень точно и своеобразно удалось очертить травматичную природу постсоветского субъекта, и в новой книге — посредством выверенного и точного метафорического ряда — это приобретает чуть ли не эсхатологическое измерение.
Денис Ларионов ("Воздух")
Вокзал Александра Белякова находится на полпути от Михаила Айзенберга к Алексею Цветкову; можно было бы говорить о точке Лагранжа, если бы не тот факт, что Беляков, несомненно, обладает собственной, и внушительной, поэтической массой и способен смещаться в том или ином направлении — а часто и в третьем, непредсказуемом. Предыдущая книга, «Углекислые сны», производила большое, но несколько сумбурное впечатление; нынешней книге пошла на пользу слегка подправленная хронологическая структура, благодаря которой мы имеем возможность наблюдать плодовитого поэта в его развитии. Белякову доставляет искреннее удовольствие с помощью сочной звукописи и богатых рифм заниматься «сопряжением далековатых идей», и такое же удовольствие должен пережить его читатель. В этом смысле стихи Белякова — мгновенные проводники эмоции, производящие попутно физический эффект над ландшафтом, в которых разворачивается их действие, и не теряющие энергии; такое приращение энергии внутри стиха, обманывающее физику, — признак работы сжатого смысла. Многочисленные физические аналогии здесь оправданы хотя бы потому, что естественнонаучный дискурс (как и у Цветкова) в стихах Белякова занимает большое место, а сам он — математик по первоначальной профессии (любопытно, что, как и другой поэт-математик, Сергей Шестаков, Беляков тяготеет к форме восьмистишия, весьма укоренившейся в современной русской поэзии). Ближе к Айзенбергу здесь — отвлечённая пейзажность («вящий воздух дрожит неистов / полон спящих парашютистов / на несущей его эмали / держат сущие вертикали // будто средства прямой защиты / за подкладку зимой зашиты / на свету проступили летом / в безопорном конспекте этом», «вот предмет без особых примет / посылает пространству привет»), ближе к Цветкову — подкреплённые естественнонаучным взглядом на мир сарказм и богоборчество («творец не хочет быть персонажем / а мы обяжем / поймаем и скажем: / молись засранец / хватит на детских костях плясать молодецкий танец», «по мере приближения к ядру / немудрено уверовать в дыру // не брезжит ниоткуда свет иной / а свет дневной распался за спиной // расстроенный наёмный персонал / впотьмах мешает спирт и веронал»). Перед нами одна из самых развитых поэтических техник и — повторим это — одно из самых богатых оригинальных поэтических воображений. Оно сочетает две не радикально, но всё же далёкие традиции и обладает большим запасом риторических позиций: именно они в конце концов составляют неоспоримую индивидуальность.
Лев Оборин («Воздух»)
***
АРТЁМ ВЕРЛЕ Хворост: Книга Стихов. — М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2015. — 64 с. — Книжный проект журнала «Воздух».
отправляемся в тёмный лес
за хворостом
хоть и не знаем что это такое
но веди нас, хворост!
мы вверились тебе, хворост!
ты в лесу нам откроешь нас
освятишь и очистишь
хворост
мы уже сгораем от нетерпения

Стихи Артёма Верле впервые появились в печати чуть больше года назад. Как в случае других (относительно) поздних дебютантов — хотя вопрос, можно ли считать дебютантом исследователя философии истории и известного в своем регионе публициста — Верле сразу выступил с довольно зрелыми текстами, в которых было видно, как поэт стремиться совместить — и успешно совмещает — оптику поэтического минимализма и неопозитивистские интуиции:
я учил свой язык
но я этого не помню
хотя как-то я должен был его выучить
<…>
о забвенное время
когда другие открывали передо мной
все возможности
большинством из которых
я незамедлительно пользовался
По сути, Верле предлагает свой ответ на важную сегодня проблему диалога философии и поэзии: ведь поэт-минималист и
Денис Ларионов
***
НИКИТА САФОНОВ Разворот полем симметрии / ; вступ. ст. С. Огурцова. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 152 с.
Между контуром и касанием, или касанием, вымещенным в контур, расположенным на периферии этих равенств, этих численных разнесенностей Этому месту: от дальних границ к ауре помещений, к тому,
что длилось, пока продолжалось вещание, пока постоянство оставляло буквы, оставленные самим себе, в центре всех
ситуаций. Всех возвышений, фиксированных картой.
(Думаешь: картой, как формулой, как небывалым ветром на
местности)
Оставленные самим себе, буквы, означив близость границ,
укрывали все переменные (перемещения) дороги, теряющейся
в тёмном пространстве, на неощутимом ветру.

Выход новой книги Никиты Сафонова — одно из наиболее значительных событий последнего времени. Читателю открывается пространная и мобильная конструкция, состоящая из сложной модели взаимосвязанных поэтических циклов, каждый из которых может быть переконфигурирован в новую констелляцию (ср., например, стихотворение «Мы пошли дальше и не видели там лес, не стояли…» из цикла «Идея круга» и текст «Упражнения в пении», опубликованный вскоре на сайте «post (non)fiction» после выхода книги). Невооружённым глазом заметна связь этих текстов с традицией Language school, в том числе и с русскоязычными авторами-трансляторами этого типа письма — Драгомощенко, Скиданом, Абдуллаевым, Улановым. Это считывается даже на формальном уровне: лауреат Премии Драгомощенко, Сафонов активно перемежает поэтические тексты, записанные «в столбик», с поэтическими текстами, записанными «в строчку», что — на самом поверхностном уровне — работает как такая вешка, сигнализирующая читателю, с какой поэзией он сейчас столкнётся. Напряжение в этой зоне усиливается от того, что некоторые тексты самым недвусмысленным образом размывают даже границу между переносом стиха (verse) и автоматическим переносом прозаической строчки (line), так, что порой читатель буквально не может сказать, написано ли это «стихом» или «прозой». В «легенду», которой пользуется эта изощрённая визуальная картография, входят римские и арабские цифры, порой — ссылки на страницы (читатель всякий раз не знает, что конкретно стоит за ссылкой, — перед нами своего рода немые означающие, беккетовские «зашитые рты»), а также летящая пунктуация, эти запятые, размечающие короткие синтагмы внутри общего протяжённого потока, как паузы размечают музыкальные фразы, а прерванное дыхание монтажа — кадры любовного соития. Субъект этой речи — недовоплощённое «я», странствующее среди обломков своего восприятия. Мотив «путешествие как исследование себя» является ключевым для целого ряда стихотворений в книге: открывающийся субъекту ландшафт распахивается в глубину, но обнаруживает лишь тотальную дискретность, болезненную несвязуемость фрагментов в одно целое. Опыт «я» слишком противоречив, это ранит его и не даёт покоя — «я» здесь только и существует как беспрестанная попытка свести себя воедино, наталкивающаяся на принципиальную фрагментированность, отсутствие связей между частями опыта. В такой посткатастрофической атмосфере разрозненное, расчеловеченное «я» стремится обрести самость в поэтическом акте, в некоем луче света, отчаянно выхватывающем то обломок скалы, то лесное урочище, то разрушенный мост, и весь опыт «я» как бы и становится в этот момент «fragment terrestre offert a la lumiere». Сафонов — поэт поразительного элегического дарования: своей музыкальностью и точным подбором слов, иносказательно описывающих распад собственного опыта, его письмо напоминает о лучших текстах Овидия и Китса. При всём античеловеческом характере вторгающейся в эту поэзию лексики — жестокого, сухого, безжизненного механицизма, — голос поэта лишён малейших нот насилия, но способен с благородной скорбью свидетельствовать экзистенциальную малость и ненужность современного человека. Поэзия Сафонова признаёт ничтожность и хрупкость созидания, познания, фиксации своего опыта перед лицом катастрофы «я», но его слово не замутнено, не зажато — оно свежо, певуче и свободно, как распрямляющийся лук.
Иван Соколов («Воздух»)
***
ВАСИЛИЙ БОРОДИН Лосиный остров / Василий Бородин; вступ. ст. А. Порвина. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 144 с. — (Серия «Новая поэзия»)
чай разлетается чуть-чуть
вмятыми шариками: путь
из них любого — невесом,
«проснувшись в сон»,
и космонавты их легко
по́ носу щёлкнут, как мальков,
или в наушниках — не «что»,
а решето:
в сетчатом треске тишины —
само безмыслие длины
крутящего себя пути,
и
ты прости,
что не пишу тебе, как прошёл сегодняшний день;
я латал обшивку
и смотрел боковым зрением, как
дальние звёзды — вспышками — объединялись в фигуры,
а
потом между ними так же мгновенно терялась связь
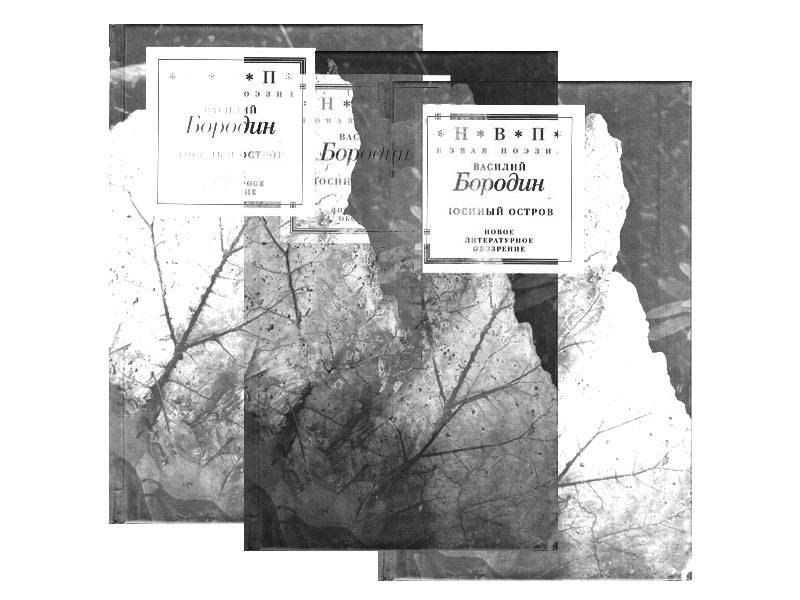
В книге Василия Бородина «Лосиный остров» собраны стихи, написанные за последние десять лет. И хотя книга составлена так, чтобы представить блоки текстов в их хронологическом порядке, мы этого порядка не замечаем — книга монолитна. Читая, мы не думаем о трансформации поэтики, способов говорения, смены тем — это неважно. Важно другое: акме. То, как Бородин передает образы, как он их лепит — удивительно: «терменвокс распадается на мензуру и амплитуду/ туда смыли золото по ошибке/ и икона в воздухе обрастает/ человеком — встречным, любым другим/ поролон в подошве плохих кроссовок// расставанье, гимн». И по всей разности методов письма, подходя то к многословности, то к минимализму, то обращаясь к размеру, то обходясь без него, поэт держит во внимании образ. Описывая «сокровенные натюрморты» мира или «рассказывая рассказы», он всегда держится за полноту образа: конь стоит направлен в ухо/ — это ещё не топот а/ тень его — какого духа,/да?" И автор — он как будто бы идёт и примеряет на мир разные линзы, выплёскивает в нас зарисовки и рассказы увиденного через разные «риторические окна». Отсюда — инфантильность образа автора, примеряющего мир на разного себя.
Лада Чижова («Воздух»)
Бородин хлебниковски ясен — и хлебниковски же минималистичен. Он ясен такой ясностью, какая видна только при взгляде поверх конвенций: языковых, культурных — он видит и выговаривает мир, как впервые. Он называет то, чего нельзя не назвать: азбуку бытия, его первоэлементы. Это — речь о самом существенном — без, однако, той тяжести, весомости, что обычно сопутствует существенному в нашем воображении. Он лёгок. Есть поэты сотворения мира, поэты, выговаривающие его настоящее, и поэты подведения ему итога. При этом историческая эпоха, в которую пишутся соответствующие тексты, не имеет (почти) никакого значения. В некотором смысле сотворение мира, его развёртывание в настоящем и его конец происходят всегда — это вопрос восприимчивости. Вторые и третьи почему-то всегда в большинстве. Бородин из редчайших: из первых.
Ольга Балла («Воздух»)
***
ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА Чудское печенье /Поэтическая серия Арсенала. Нижний Новгород: Волго-Вятский филиал. Государственного центра современного искусства, 2015.
мы не саженцы твои, а беженцы,
не сеянцы, а бездомные собачцы,
мы пришли осваивать чужие высказывания,
чужие линии электропередач.
станем фотографировать себя и друг друга
на мутном фоне,
станем поле пустое пинать,
которое сняли в соседской стране
без детей и славянских привычек, —
вдруг что доброе выйдет:
вид на жительство,
разрешение на работу

В предисловии к новой книге Екатерины Соколовой Илья Кукулин замечает, что само появление этого сборника говорит о том, что Соколова становится одной из центральных фигур младшего поэтического поколения. На мой взгляд, это было понятно еще и до выхода этой книги. Даже — до выхода книги «Вид» (2014). В этих стихах хлебная корочка языка характерно надломлена, так узнаваемо разложена перед читателем: "пронаблюдает,/ как вьется русский язык над тобой,/ лежит снежок медицинский, — / учись северянином быть, а не то. " Эти стихи в
Лада Чижова («Воздух»)
Новые стихи Екатерины Соколовой существуют в странном промежуточной области, где рождается речь. Собственно, читая эту книгу, мы оказываемся свидетелями этого: слова появляются очень медленно, они словно бы никогда полностью не уверены в том, что обладают правом стать речью, а мир, к которому они обращаются, подчеркнуто размыт, погружён в некое зыбкое произведение, ведомое, согласно известному тезису Лакана, столь же зыбким языком. Эти стихи можно рассматривать как последовательное сопротивление тотальности, миру, который заставляет давать окончательные ответы, — здесь нет ничего окончательного и определённого вплоть до того, что сама поэтика стремиться стать неуловимой, «прозрачной», смешиваясь с теми словами, что возникают в сознании между сном и бодрствованием, — словами , которые будто ничего не выражают, но всё же хранят в себе некий странный сомнамбулический опыт.
Кирилл Корчагин («Воздух»)
***
ЛЕОНИД ШВАБ Ваш Николай: Стихотворения / Леонид Шваб; вступ. статья Б. Филановского. — М.: Новое литературное обозрение, 2015
Расчеты показали что лучше вернуться домой
Ничего здесь не будет ни руды ни породы
Озеро скалы и мох
До ближайшей деревни четыре дня пешего ходу
На возвышениях с южной стороны озера
Мы обнаружили остов гигантской деревянной пирамиды
Древесина истлела в труху
Ветхая конструкция грозила немедленным обрушением
Совершенно пустынные дикие места вокруг
Илья и Марта вдруг поцеловались
Григорий уронил карабин и встал на колени
Я ничего особенного не почувствовал было нестерпимо душно
После мы ни разу не вспомнили о находке
Как будто сговорились вычеркнуть тот день из памяти
Илья и Марта поженились, уехали в Чикаго
Григорий погиб, я потерял всякий интерес к изысканиям

1. Шваб, по сути, первый, настоящий и единственный русский экспрессионист. Растрескавшаяся, разорванная субъективность его текстов предстаёт в веренице крупных планов, где камера фокусируется на человеческом страдании. Это безусловно отсылает нас к предвосхитившему искания европейских экспрессионистов Константину Случевскому, равно как и к размыкавшим случевскую связность Борису Поплавскому с его истошными, кислотными красками и обэриутам с их объективируемой негативностью. Объективизм модерна (слово = вещь), однако, у Шваба переплавлен в ироническую дистанцию новейшего искусства (цепочки слов = вещевые сгустки, наблюдаемые на расстоянии). Особое значение имеет учитываемый его поэтическим проектом опыт конкретистов и концептуалистов: вереницы разорванных фрагментов вещного мира регистрируются не сами по себе, но всегда в свете их социальной ауры. С драматургической или сурдопереводческой точки зрения, речь Шваба представляет собой кипящее мельтешение речевых жестов: осколки клише, обрывки узнаваемых, социально маркированных фраз, — здесь нельзя говорить о поэтизмах / прозаизмах, но нужно различать биение и столкновение разностилевых и разноречевых секвенций. Всё это вроде бы говорит о сближении поэтики Шваба с поэтикой Василия Ломакина — вот ещё один «экспрессионистский» поэт того же поколения, для которого столь же важна артодианская пластика речи, нарубленная в фарш — у одного ножницами семантического монтажа, а у другого челюстями новейших медиа. Однако при огромном значении для обоих ещё и такого фактора, как эмигрантская нота (а следовательно, и той рамки, в которой всегда находится их высказывание: «взгляд извне»), у Шваба отсутствует та экзальтация, которая у Ломакина находит единственный выход в дух захватывающей дрочке на поэзию Серебряного века. Чуть более по́зднее воплощение схожей экспрессионистической линии мы видели у Виктора Iванiва, хотя у последнего эти разрывы совершенно не акцентировались: у Iванiва не было этого маниакального стремления обозначить координаты каждого шва, его речь изначально исходила из пространства, чьи координаты всякий раз (де)монтировались заново.
2. С распадом речи — если не на модернистские кубы и супрематические обломки словесных знаков, то как минимум на серии переменных (Шваб и алеаторика! Кто б описал?) — связана акцентуация монтажной оптики. Обсессивная визуальность, кинематографичность швабовских стихов уже стала общим местом в критической рефлексии, однако, даже не обращаясь к опыту смежных дисциплин, читатель должен остро среагировать на нанизывание внешне не связанных фразовых логик. Монтаж у Шваба это не только банальные ножницы, отграничивающие один зрительный план от другого, — куда важнее, что склейки и швы, шитые белыми и живыми нитками, выпирают на уровне семантической структуры текста. Мотивная сетка здесь вообще проступает лишь при пристальном вглядывании — на поверхности она устранена. Именно с этим в первую очередь и связан «второй абсурдистский поворот», который осуществляет Шваб. Сегодня в текстах Введенского и Олейникова смысла можно различить куда больше, нежели бессмыслицы, однако Шваба всё ещё манит мечта о полной самостоятельности словесных групп, о сакральном «абсурде» — так в его текстах возникают узнаваемые обэриутские сигнатуры: Искрилось молоко сверкал картофель / Клубились полчища врагов, — или: Секунды времени равняются котлетам. Внешняя, поверхностная антиреальность стихотворений Шваба может напоминать и о классическом сюрреализме, извода Арагона, к примеру (И школьницы пляшут на синей траве / И львы как артисты на тротуарах лежат), но сильнее всего по нам ударяет то, что Шваб как бы изымает из сюрреалистской логики обязательную для той скользящую пластику перетекания мотива в мотив: излюбленной тем же Арагоном паронимической аттракцией Шваб не пользуется практически никогда. Изоляция фрагмента утрирована.
3. Это вступает в неожиданные отношения со специфической структурой стиха у Шваба. Каждый стих здесь также предельно герметизирован, сверхвысока доля стихов, которые являются синтаксически завершёнными предложениями и интонационно законченными фразами. Каждый анжамбеман в этом случае выступает сверхсильным сигналом, размыкая и одновременно акцентируя изолирующую силу клаузулы. Собственно, это и есть монтаж в прямом смысле слова: каждый обрыв строки — монтажная склейка. Сегодняшнему читателю это не может не напоминать об уникальных по своей интенсивности опытах синтаксической герметизации стиха у Зальцмана и Гора.
4. Стих Шваба крайне неопределён, поэт с удовольствием уклоняется от предложенного курса, вроде бы впадая то в одну, то в другую метрическую инерцию, однако сразу же даёт нам и совершенно неметризованный стих, в результате чего даже полноударный четырёхстопный ямб внутри гетероморфной строфы может не запускать механизм внутреннего скандирования. Эта ритмическая шизофрения выступает неожиданным средством диффузной связности: колеблющиеся ритмы заставляют нас по несколько раз перечитывать отдельные стихи, реинтерпретируя их стиховую и синтаксическую структуру. За счёт этого взаимопроникания шизоритмических пульсаций в смежных стихах, последние внезапно оказываются сильнее пригнанными друг к другу. Тем самым создаётся эффект, обратный герметизации отдельных стихов. Синтаксически и мотивно текст разъят на фасеты, но ритмически (за счёт совершенно идиостилевого гетероморфизма) он слит, хотя и в задыхающемся, неровном, булькающем ритме.
5. Поэтика Шваба уже подтвердила свою продуктивность, отражаясь в самых разных практиках более молодых авторов, от Владимира Беляева до Сергея Сдобнова и Александры Цибули. Особую, тревожную значимость его текстам придаёт совершенно уникальная фиксация на фигурах насилия, которые, однако, за счёт фирменной дистанции субъекта и «регистрирующей» интонации, не вовлекаются в опошляющую их возгонку. Насилие у Шваба не похоже и на тот иррациональный, досущностный военный эмбиент, который разлит по хронотопу текстов Кирилла Корчагина априорным условием, подкладкой речи. У израильского поэта насилие сосредотачивается в непредвиденных точках континуума, прокалывая сгущённую сферу разноречия моментами ясности — пунктумами. Война и насилие у Шваба есть некая шопенгауэровская воля, именно она разрежает речевое мельтешение и калейдоскоп стилевых осколков и утверждает некую однозначность смысла. Принято описывать швабовскую манеру как совершенно бесстрастную, безоценочную. Наверно именно присутствие войны в его поэзии помогает увидеть, что это не так: насилие и убийство у Шваба остаются максимально негативным переживанием, концентратом бессмысленности существования — а значит, и обещанием смысла как такового. Удивительно, что опыт чтения новейших стихов Шваба демонстрирует постоянный контакт его поэтического субъекта с интериоризированной фигурой войны — в отличие от большинства российских поэтов, эта константа сохраняла свою актуальность для швабовской лирики даже в сравнительно «мирные» нулевые.
Иван Соколов («Воздух»)
