Иван Соколов. Число и качество (об экономике премиальных различий)
Развернутый текст Ивана Соколова — первый в ряду материалов, посвященных Премии Аркадия Драгомощенко. Его откровенно полемический характер призван развернуть дискуссию о Премии в сторону институциональной критики, не отказываясь и от анализа поэтических техник, которые попадают в её орбиту.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Подробного публичного текста о работе поэтической премии Аркадия Драгомощенко за последние три с половиной сезона так и не появилось, если не считать исчезающих в никуда комментариев в соцсетях и тех высказываний, которые премия сама о себе производит (например, письма и речи жюри на сайте и в «НЛО»). Предлагаемые ниже замечания являются комментариями пролегоменального характера, пытающимися подступиться к тому, как говорить и думать о премии АТД одновременно и в рамках её внутренней логики, и во внешних контекстах. Моя позиция здесь, конечно, осложняется сразу несколькими параметрами, но сформулировать некоторые критические соображения именно сейчас представляется необходимым. В особенности это касается тех проблем, которые обозначились уже в предыдущих сезонах, но стали острее с обнародованием короткого списка этого года, так как ответственность за него я необходимо разделяю с остальными голосовавшими. Я должен здесь оговориться, конечно, что мои замечания ни в коей мере не призваны атаковать ни всю коллегию номинаторов как публичное тело, ни любого из них по отдельности: все мы, я надеюсь, инвестировали должную долю ответственности в работу с премией. Риторической мишенью этих размышлений не являются также ни попечительский совет, ни создатели и кураторы премии — значение их инициативы для поля литературы сложно переоценить. Вопрос в другом — в том, какое значение внутренние конфликты премиальной процедуры имеют для публичной сферы и как их анализировать.

ОТ ТЕКСТОВ К ЦИФРАМ
Утверждения о порочности любой премиальной структуры стали уже привычным трюизмом окололитературного дискурса, но проблемность специфических механизмов литературной премии стала для меня очевидной только из личного опыта. Одно из главных впечатлений — то, насколько безнадёжно искажается логика чтения у голосующего. В процессе внимательного прочитывания, осмысливания и оценивания каждой подборки и акт оценивания, и механизм соотнесения себя с эстетическим объектом полностью девальвируются. «Чистая» оценка невозможна, как и «объективно хорошая» поэзия. Любой момент конструирования отношения к художественному объекту всегда парит на подозрительной дистанции от оценивающего субъекта и неизбежно пронизан спектрами чужих потенциальных оценок — иногда эти спектры образуются целыми виртуальными референтными группами. То есть ты думаешь, окей, эта поэзия никак не соприкасается с наиболее близкой мне областью эстетического поиска, если вообще не враждебна ей, но тем не менее в ней производится работа, которую целый ряд референтных групп скорее всего счёл бы значимой, и поэтому необходимо присудить автору не минимальный балл, а
Подмена художественного восприятия соображениями удобства, однако, не является махинациями какого-то конкретного или абстрактного алчущего власти жюри или экспертного сообщества, но ингерентно вложена в процесс оценивания на микроуровне: любой выставленный балл каждого эксперта отражает не объективные достоинства номинанта, но преимущества, которые эксперт полагает наиболее выгодными при успехе этого номинанта по сравнению с возможным успехом любого другого и всех остальных вместе взятых. Премиальные дебаты лишь более выпукло отражают ту диверсию, которую распределение поэтов по шкалам производит по отношению к литературному процессу: на уровне демократизированного голосования номинаторов по

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ЛОВУШКЕ ИЕРАРХИЙ
Ключевым — и пока, насколько я понимаю, не решённым вопросом процедуры премии Драгомощенко, является соотношение объективной массы соединённых усилий экспертного сообщества (голосование номинаторов) и более высокого удельного веса голосования жюри. Важным достижением премии Драгомощенко стало создание позиции ответственности для двадцати экспертов, которая обязывает их прочитать ещё девятнадцать подборок молодых авторов, часто им нисколько не близких, и выработать то или иное к каждому отношение. Эта ситуация, однако, осложняется игрой иерархий. Внешне первые три сезона отличались доминированием малочисленной фигуры власти в лице жюри над демократией коллективного выбора экспертов (которые вроде бы не должны сущностно от жюри отличаться): волюнтаристским решением жюри приоритеты экспертов могли быть легко сброшены со счетов. Работа четвёртого сезона премии и появившийся в результате шорт-лист продемонстрировали обратную сторону проблемы. Казалось бы, неравноправие качественное сведено к минимуму (10 баллов номинатора против 12 баллов члена жюри кажутся более справедливым соотношением, чем раньше), но тем самым сильнее проявилось неравноправие количественное: шесть человек жюри против двадцати номинаторов при незначительном отличии максимальной оценки в сумме дают 72 балла против 200 — и здесь вопрос политики премии встаёт более остро. Одним из непростых впечатлений от предыдущих сезонов стали неоднократные попытки членов жюри (и особенно председателя) дистанцироваться от совершаемого выбора, продиктованные стремлением сохранить свою независимость как агента литературного поля. Вместо публичного жеста разделения символического капитала с неофитом художественного производства нам сообщали, что говорящий/ая «вообще голосовал (а) за других» и просто поставлен (а) в безвыходную ситуацию, когда количественное превалирование голосов номинаторов вынуждает жюри выбирать лауреата из короткого списка, который, в
Здесь и открывается оборотная сторона количественного неравенства, которая не была мне очевидна извне процедуры оценивания в первые три сезона: как вообще премия может осуществлять какую-либо эстетическую и культурную политику, если заданные ею в изначальном пресс-релизе ориентиры предельно размыты, а воля «малого» коллектива жюри стеснена усреднённым желанием «большинства» (то есть номинаторов)? Окажись жюри, пусть и ротируемое периодически, составлено не из таких полярных и несводимых воедино позиций, своим выбором и дебатами вокруг него оно могло бы задавать значимую для поля художественного производства повестку. Однако воля «большинства» с какой бы то ни было конкретной художественной повесткой несовместима, и даже Дмитрий Кузьмин не передоверил бы отбор авторов для номера журнала «Воздух» двадцати номинаторам премии АТД — просто потому, что это не имеет смысла даже внутри парадигмы широты критического отбора.
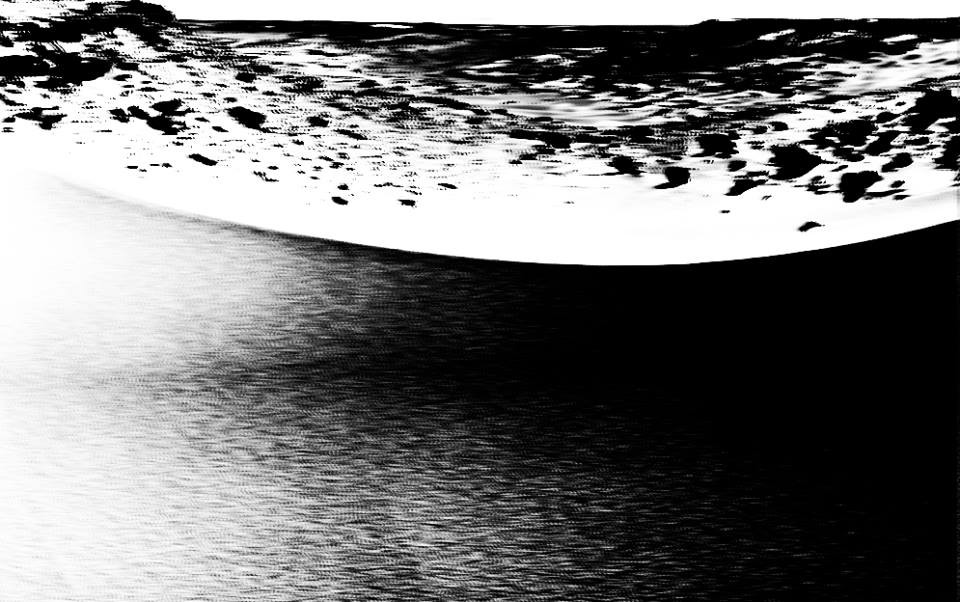
ДИАЛЕКТИКА МАЖОРИТАРНОСТИ
Усреднённая «воля большинства» (частью которого в этот раз, полностью осознанно, оказался и я) представляется одним из самых опасных механизмов, на которые полагается премия Драгомощенко. С одной стороны, эта установка порождает ожидание, что молодой поэт, которого сразу оценило столько уважаемых критиков, наверняка занимается очень важными вещами в рамках своих художественных поисков. С другой, пытаясь отвлечься от образа освещённого софитами молодого новатора, чей силуэт моментально западает в души и отпечатывается в сердцах всех зрителей, понимаешь, что перед тобой то ли советско-интеллигентский, то ли вообще романтический «театр» раннего успеха. На практике такой триумф есть амплификация специфического, мажоритарного типа признания, которое для премии Драгомощенко всех четырёх сезонов имеет совсем другое значение. В разнообразии (а следовательно, «объективности») состава коллегии номинаторов, список которых премия предъявляет общественности, заключается солидная часть её реноме: соседство имён Павла Арсеньева, Дмитрия Кузьмина и Аллы Горбуновой, воплощающих собой разнородные, даже непримиримые картины литературы, убеждает нас в том, что результаты наверняка будут непредвзятыми. Однако их непримиримость наиболее прямо указывает на то, что формирование связной повестки на основании их объединённых голосов невозможно — и станет оно возможным только тогда, когда количество непримиримых точек зрения будет перевешено разительно бо́льшим числом критиков, чьи позиции были бы куда теснее приложимы друг к другу и кто мог бы составить некую «партию», производящую внятный месседж своим голосованием. Дело, однако, в том, что при таком раскладе презумпция коллективной объективности голосования номинаторов тут же бы обвалилась. В отсутствие «партии», каковая альтернатива отнюдь не представляется единственно необходимой или как минимум беспроблемной, гетерогенный коллектив несовместимых позиций также не в состоянии произвести актуальную повестку — и эта задача перекладывается на плечи членов жюри, которые не до конца уверены в том, что они готовы принять ответственность за решение чуждого им гетерогенного большинства. Отсутствие собственной позиции у премии приводит к механической поляризации и внешнего литературного процесса («социальное» против «метафизического», как сформулировал Дмитрий Кузьмин), и своего внутреннего выбора (два вектора в
Эта нерешительность усугубляется самой диспозицией коллегии номинаторов: я сказал выше, что при наличии ярко выраженной партии в составе номинаторов их голосование не могло бы претендовать на формальную объективность. Но, как я увидел в процессе собственного оценивания подборок номинантов — и это подтвердилось шорт-листом, — искомой объективности нет и в нынешнем варианте, так как в отсутствие эстетической «партии» гетерогенный кворум номинаторов голосует числом, здравым смыслом, общими критериями, иными словами — голосует за
И здесь я могу перейти к
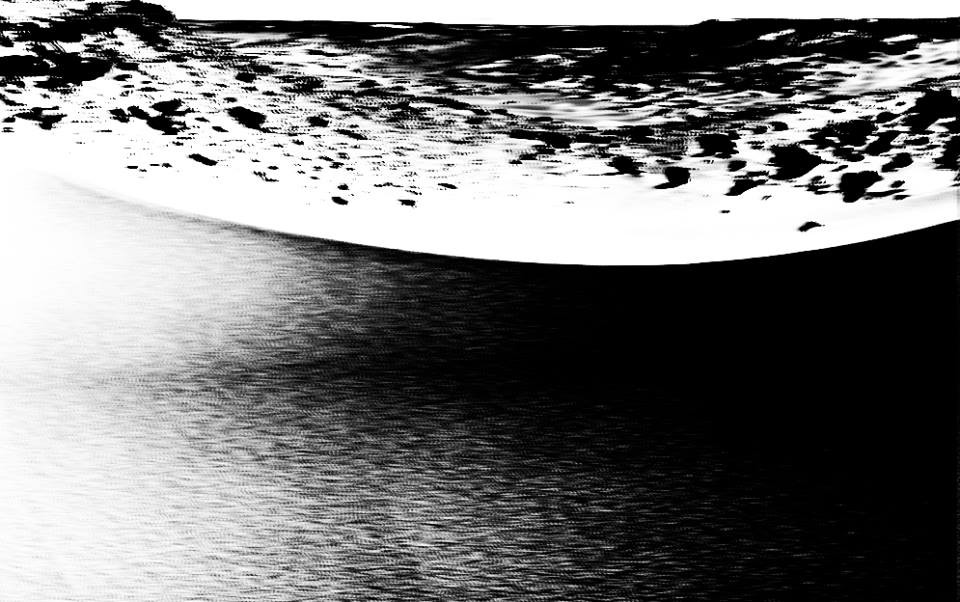
В ПОИСКАХ КОНСЕНСУСА
Многие стихи Ксении Чарыевой я считаю безусловно заслуживающими пристального внимания и всячески поддерживал бы жюри любой премии, хоть Белого, хоть Беллы, в том, чтобы отметить её поэзию. Трудности начинаются в тот момент, когда это решение принимается Премией Аркадия Драгомощенко. И вопрос совсем не в том, что практика Чарыевой исчезающе мало соприкасается с поэтикой патрона премии (как бы нас ни уверяло в обратном халтурное письмо её номинатора), а в том, что от облечённого очевидными политическими валентностями выбора жюри премии Драгомощенко ждёшь какого-то более нюансированного жеста. Я действительно думаю, что работа Чарыевой занимает важное место на карте современной поэзии — или по крайней мере это справедливо в отношении того, чем она занималась до последних пары лет, когда, как мне стало казаться, её поэтическая машина встала и продолжила функционировать в том же режиме, что и раньше, но уже реже двигается с места и в некотором смысле от этого стабильного воспроизведения «поэтики Ксении Чарыевой» стала терять в своей интенсивности. Однако ещё до этого Чарыева успела стать едва ли не воплощением надежд московской поэтической среды на то, что должно явиться среди молодой поэзии. Нет никакого сомнения в том, что стихи, которые Чарыева писала в конце нулевых — начале десятых, были по праву опознаны сообществом как мощный приток новой силы эстезиса, но загвоздка в том, что слишком многое органично происходящее из динамики самого центра этого эстезиса случайно совпало с распространёнными ожиданиями и надеждами (и отчасти даже ресентиментом). Стихийность и метафизичность её поэтики, специфическая «нестандартность» лирического героя, предпочтение в пользу экспериментов с узнаваемыми моделями, используемыми у старших авторов ближайших поколений, — изначальные свойства чарыевской поэтики стали терять в автономности и в известной мере объединяют целый кластер поэтического сообщества, поддерживающий не столько поэзию Чарыевой, сколько те культурные устремления, для которых она стала удобной идентификацией. Конечно, Чарыева достаточно независимый автор, и в разные спекулятивные манипуляции с символическим капиталом втянуть себя не даёт, за что ей надо отдать должное. Но нельзя забывать о том, что предпочтения номинаторов и финальный выбор жюри в рамках жёсткой премиальной логики диктуются не аспектами поэтической индивидуальности как таковой, а логикой шахматного хода, концентрирующего внимание на той или иной части поля. В этом смысле награждение Чарыевой не только запаздывало бы за актуальным развитием событий, но и поддержало бы тот участок статус-кво, который связан с уже устоявшимися конвенциями молодой поэзии.
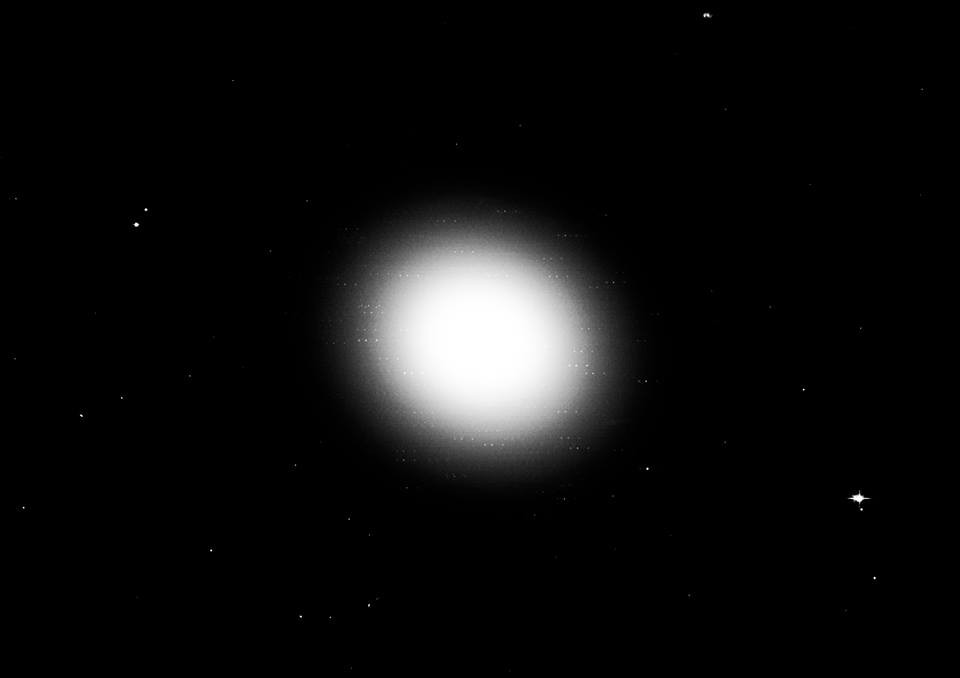
ПОЭТ И КОНТЕКСТ
Подборка Кузьмы Коблова стала для меня одним из наиболее важных открытий этого премиального сезона, встречей с новым, проступающим откуда-то с окраины речи ландшафтом чувственности. Поэтическое говорение — то есть выстраивание ежемоментно изменяющихся отношений между собой, своей памятью, желанием и Другим — у Коблова предстаёт как череда методических, скрупулёзных актов слежения субъективности за мельчайшими движениями её интеллектуального тока и телесной обращённости к Другому внутри лирического времени, которое всякий раз кажется вот-вот досягаемым — но нет, не досягаемо никогда. За дальнейшими поворотами этого письма хочется внимательно следить. Его кандидатура в качестве лауреата премии в этом сезоне, однако, также представляется мне проблематичной. Отказываясь выстраивать собственную эстетическую политику, премия рискует войти в колею аккуратных, компромиссных решений, всякий раз приемлемых для большинства. Индивидуальное политико-эстетическое высказывание по своей природе не может и не должно служить экраном для беспрепятственной идентификации каждого читателя с представляемым ему искусством. Напротив, именно категоричность в отстаивании определённого понимания литературы и одновременно открытость новому и будет диалектически создавать пространство демократии, в которое включается формально исключённое из него большинство. Представим себе премию Драгомощенко, которая решила бы сделать ставку на, условно говоря, «социально-критический» полюс и присудила бы первое место в 2015 году Никите Сунгатову, в 2016 году только Эдуарду Лукоянову, а в 2017 году — например, Дмитрию Герчикову. Большинство было бы скорее всего солидарно-но-несогласно с премией, которая манифестирует такой выбор; те, чьё видение литературы связано с «линией Драгомощенко», были бы разочарованы такой политикой, — но последовательность, уход от эстетической беспринципности, всегда проглядывающей за бесформенностью решений, наконец всё то, что мы подразумеваем под ответственностью в политике культурных институций, своей предельной артикулированностью подразумевало бы равноправное существование других доменов искусства и других представлений о том, что сегодня происходит в поле поэтического производства. Ошибка в том, что одна премия полагает, будто она должна покрыть всё поле, — эта авторитарная, но бесформенная претензия и толкает её в итоге на самые невнятные шаги.
Именно в этом смысле меня и беспокоит тот призрак компромиссности, что проглядывает за возможностью присуждения лауреатства Кузьме Коблову, хотя из этих трёх кандидатов я бы выбрал именно его, если бы оказался перед необходимостью такого выбора. При всём многообещающем своеобразии его текстов, их премиальный успех оказывается отчасти облегчён периферийными, возможно, вчитываемыми в них свойствами, которые при этом далеки от основного феноменологического сюжета этих стихов. Я говорю об атмосфере рассеянной меланхолии, которой окутаны реляции его лирического субъекта, о легкодоступной фрагментации и элегической отчуждённости участков собственного опыта (особенно в текстах «в строчку») и, наконец, о паратаксисе назывных предложений, теперь устойчиво ассоциирующихся с «манерой» Аркадия Драгомощенко и в некотором смысле превратившихся в норму любовного и интроспективного письма, которое заинтересовано в определённой дистанции от своей воображаемой неопосредованности. Всё это не так уж сильно связано с поэтикой патрона премии и является небрежным уплощением, инструментализацией и коммодификацией того, что критика последних двадцати лет смогла проартикулировать в отношении поэтического проекта Драгомощенко. Ещё менее это связано с тем, что, насколько я могу судить, в первую очередь интересует самого Коблова, если исходить из принципиального для его письма акцента на визуальности дизъюнкции, а не на разлитой по пространству нежности и сковывающем её механицизме паратаксиса (пора уже, наконец, это проговорить: паратаксис стал фетишем новейшей поэзии). Именно эта рецепция Драгомощенко, когда АТД — это про любовь, кого-то нету, кто-то далеко, встреча невозможна, смерть наступает на речь и т.д., грозит оккупировать восприятие Кузьмы Коблова в случае его победы в сезоне 2017 года, и от медвежьих объятий этой ауры хотелось бы спасти его хрупкое письмо, потому что именно её след чудится в возможности того, что и присутствие Коблова в
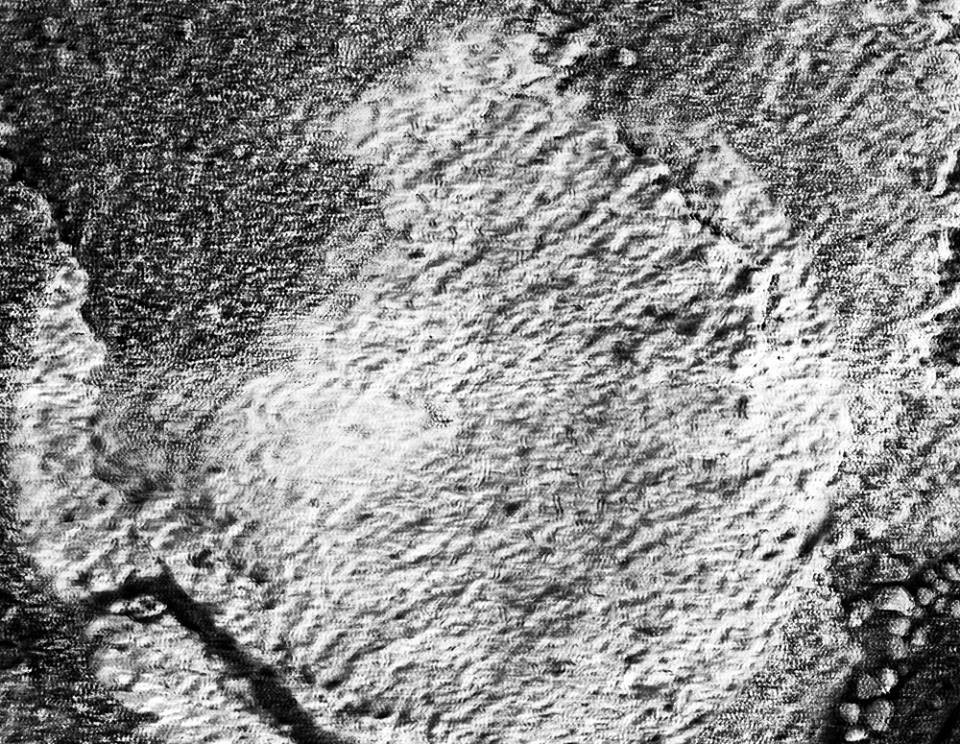
АНЕСТЕТИКА НАСИЛИЯ
Поэтические амбиции Ильи Данишевского знакомы мне с третьего сезона премии, когда он оказался номинирован в длинный список. Тогда беспомощность этих текстов в сочетании с рекомендациями уважаемых коллег оставляла в недоумении относительно того, какие бессмысленные практики иногда литературный процесс желает приютить инклюзивности ради. Литературная репутация Данишевского, насколько я понимаю, изначально была связана с его прозаическими произведениями. За последние пару лет, однако, социальный капитал Данишевского претерпел динамическую трансформацию и, похоже, наконец-то оказался конвертирован в капитал символический. По мере развития этого процесса, Илья Данишевский, ранее известный как редактор издательства «АСТ», периодически выпускающий там небессмысленные вещи, распространился по литературному пространству так широко и стремительно, что, кажется, не обделил своим участием ни одной медийной платформы. Степень, метод и скорость этой интервенции поражают воображение — от открытия гостеприимной рубрики в «Снобе», кооптирующей одного за другим авторов актуальной прозы, а иногда и поэзии, до проникновения на такие разные площадки, как, с одной стороны, модные «Носорог» и «След», а с другой — легендарное «Зеркало», чья публикация прозы Данишевского моментально попала в
В самом деле, новые стихи Данишевского заметно изменились по сравнению с текстами прошлого года: в них стало больше тематической конкретности, и в самом письме просматриваются более уверенные импульсные узлы. И мне бы не хотелось бросать тень сомнения на обоих номинаторов Данишевского, которых я ценю и уважаю, как и на всех экспертов и членов жюри премии Драгомощенко, проголосовавших за этого автора — но я всё пытаюсь понять, что же я в этой истории упускаю. Больше всего смущают не доброжелательные голоса решающего количества экспертов, и не дружеские жесты Станислава Львовского и Аллы Горбуновой, написавших Данишевскому вполне комплиментарные номинационные письма, — всё это можно попробовать себе объяснить. Непонятно другое: каким вообще образом, помимо давления социального и символического капитала, эта литературная продукция смогла оказаться в контексте сосредоточенной компетентной дискуссии о вопросах экспериментальной поэзии молодого поколения (а не в любительской поэтической группе ВКонтакте, собирающей тысячи лайков)?
На самом деле, в поэзии Данишевского как не было осмысленной художественной работы в прошлом году — так не прибавилось и в этом, только теперь она пришла на смотр прикрытая модной ветошью. Очевидная проблема его текстов заключается в том, что они осознанно нацелены на то, чтобы сорвать банк, обратить в капитал свои формальные и тематические моменты. Над своей задачей Данишевский работает с убийственной деловитостью, методично превращая свои тексты в блюдо из меню мишленовского ресторана, словно сверяясь по
Наиболее странное сближение — для этой подборки одновременно и наиболее важное: те устремления поэзии Данишевского, которые связаны с желанием быть сложнее и актуальнее, апроприированы им из поэзии Кирилла Корчагина. Оттуда это захватывающее дух взаимопроникновение субъекта, реальности и истории, выражающееся в плавучем синтаксисе, распинаемом на скользких анжамбеманах, оттуда устойчивая связка желания с историческим насилием, оттуда вообще поэзия потока, которая у Данишевского выходит из берегов и затопляет всё высказывание. Уже для вдумчивого читателя поэзии Корчагина эти аспекты могут показаться проблематичными, но, оказавшись в лирике Данишевского, они не сдержаны ни железным напором поэтического интеллекта Корчагина, ни его пониманием того, что такое педалирование политического / телесного становится их фетишизацией. Стихи Данишевского спроектированы так, чтобы наиболее успешно манипулировать читательской энергией сопереживания — и они берут за душу, трогают, увлекают, до тех пор пока не очнёшься, в отвращении от того, какой беспринципности предполагается сопереживать.
Наконец, с точки зрения социальной и антропологической ценности стихов Данишевского — а из писем номинаторов видно, что эта оптика особо волнует сообщество сегодня — его поэзия вообще должна быть объявлена нерукопожатной и смыта в канализацию истории. Настойчивые реверансы Данишевского в сторону современного квир-письма обнажают его хищническую стратегию, состоящую в инкорпорировании любых болевых точек современного антропологического опыта в снятом, объективированном виде: непрекращающаяся возгонка болезненности, «поэтика травмы» и агрессивная фетишизация тела оборачиваются дискурсивным угнетением гендера и сексуальности. Даже квир-дискурс, изначально рассчитанный на тотальный подрыв жанров, норм и кодов письма, оказывается беззащитен перед хваткой Данишевского, о чём уже успел написать Дмитрий Кузьмин: «для Данишевского [готовые социальные] конвенции уже сексуализированы до предела, но это их не подрывает, а упрочивает и гипостазирует: негативный квир Данишевского совершенно лишен освободительного, вообще претворяющего потенциала, это своего рода тепловая смерть». Действительно, стихи в премиальной подборке переполнены клишированными образами квир-идентичности, о банкротстве которых уже давно заявляет само квир-сообщество.
Все эти соображения оставляют в замешательстве относительно того, как вообще оценивать лидерство Ильи Данишевского в голосовании премии Драгомощенко. Если причина во внутренних особенностях системы голосования (счастливый эффект средних баллов?), то система должна быть реформирована сколь угодно радикально, чтобы больше никогда такого не допустить. В конце концов далеко не всех голосующих его стихи убедили как самое достойное из возможного: между его очками и потенциальным потолком, который можно было бы набрать, поставь все двадцать шесть человек высший балл, всё равно есть разрыв, который покрывает примерно восемь голосов, которые тогда должны были присудить ему низший балл. Повторюсь, однако, что всё это нисколько не подразумевает, что у меня какие-либо претензии к любому из тех, кто вотировал вхождение Данишевского в

***
Проблема, однако, не в моей личной аллергии на манипулятивные поэтические практики, а в том, что своей беспринципностью поэтика Ильи Данишевского, собственно, и подчёркивает то ощущение компромиссности и усреднённости, которое создаёт шорт-лист этого года: здесь, как сквозь призму, становится видна беспринципность самой премиальной процедуры. Уже то, до какой степени мой текст был вынужден концентрироваться на арифметических манипуляциях, есть следствие того, каким образом выстроен дискурс вокруг премии. Последняя пресс-конференция, как и дебаты прежних сезонов, то и дело апеллировала к цифрам, почему-то не отдавая себе отчёт в том, насколько этот приём манипулятивный («всё объективно — цифры говорят сами за себя») и, как напоминает критическая теория, идеологически далеко не невинный, в той мере, в какой количественный критерий перевешивает любые качественные. Апелляция к цинизму цифр заранее ставит любого критика премии вне игры — спорящий с цифрами выглядит по меньшей мере глупо. В итоге всё сводится к хитроумному (или, если угодно, простодушному) сочетанию тяжеловесной бухгалтерии на этапе голосования и волюнтаризма в момент формирования шорт-листа и выбора лауреата. Вместо возможного разговора о поэтике в сколь угодно широком теоретическом или политическом контексте — бесконечная настройка технологий плебисцита. На фоне звереющей общеполитической ситуации такой крен в цинизм в сочетании с непроговорённостью оснований выбора — тревожный симптом, особенно когда эстетические аргументы возводятся к политическому, но само политическое остаётся туманной и неотрефлексированной сущностью. В результате, в коротком списке оказывается поэзия, безразличная и к языку, и ко всем угнетённым заодно с их угнетателями. «Сообщество и личность гибнут, когда требуется одна сосчитываемость».
Наконец, заявление жюри о том, что премия делает выбор в пользу плюрализма поэтик, а не «линии Драгомощенко», уводит в сторону от сути проблемы: претензии на широту и объективность, с одной стороны, приводят к мажоритарному компромиссу, а с другой, подрываются самой процедурой голосования. Что касается «линии Драгомощенко» — далеко не очевидно, что это за линия: у всех своё понимание того, какой набор качеств ей соответствует и каков её политический смысл сегодня. По этим же причинам сам вопрос о том, кто «на самом деле» продолжает линию Драгомощенко, становится предметом спекуляций: из номинационных писем последних трёх сезонов видно, что отсылка к Аркадию Драгомощенко стала дежурным риторическим приёмом, и в конце концов провести эту связь оказывается возможным вообще с любой поэтикой без исключения — то есть ни с какой.
