Павел Арсеньев ___ Сергей Огурцов Я говорю, следовательно (?), ты существуешь
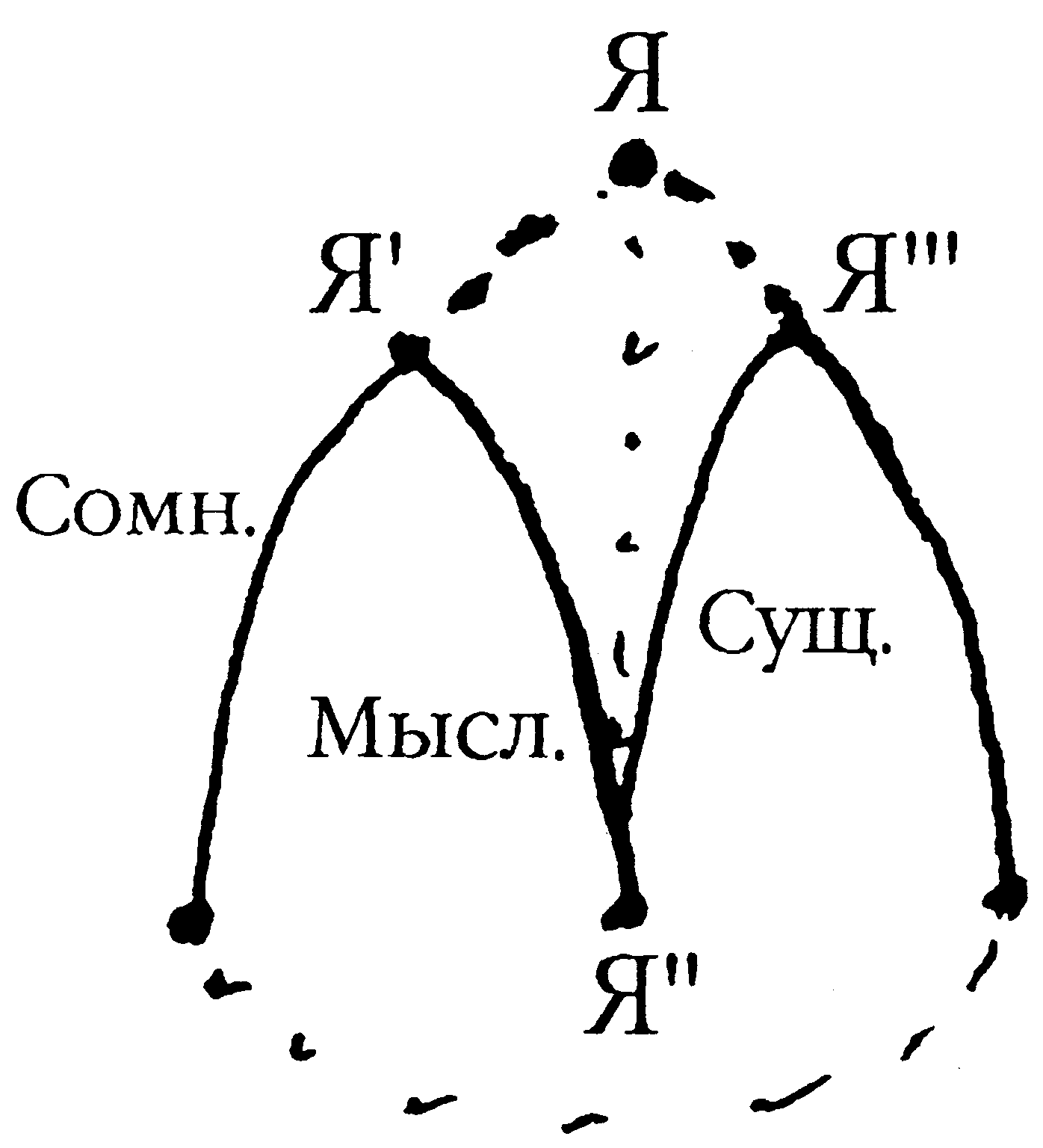
I. угнетенность до адресата
Павел Арсеньев: Мне бы хотелось повернуть разговор в следующее русло. Имеется в виду контекст проблематики выпуска — проблематики субъектности высказывания. Мишель де Серто, зачарованный вопросом «Кто говорит?», на фукианском материале (пациенты/бесноватые) разрабатывает вполне предсказуемый ответ (разумеется, всегда говорит господствующий над первыми и владеющий языком закона), но с совершенно бесподобной траекторией. Суть терапии пациента и экзорцизма бесноватого заключается в его именовании, препятствующем дезертирству, преодолению социально-речевой топографии. Литературная и судебная практика citation (во французском это слово значит одновременно и цитату, и повестку в суд) позволяет с позиции знания говорить другое и о другом. Точнее, писать, ведь исключенные из законного языка как правило только голосят. А именование в первую очередь закрепляет за субъектом речи имя собственное, его социальное означающее, должное скреплять договор о «порядке вещей» (а, значит, и о возможном порядке лечения или порядке преследования), в рамках которого «я» высказывающегося должно равняться паспортным данным. Бесноватый или поэт может на это ответить только цепочкой ускользаний, которая не ломает строй языка закона, но повреждает работу его атрибутирующей системы, как правило, он так и делает, настаивая на том, что «он — нечто другое» (подразумевая под этим «нечто нездешнее» — со всеми вытекающими отсюда метафизическими переадресациями). Но, вопреки обывательским представлениям о том, кто водит рукой поэта или говорит через бесноватого, в сухом остатке мы имеем исключительно жажду искажения наличной таксономии субъективности. Несмотря на все несходство утверждений (точнее, глаголаний) поэтов и мистиков с постулатами теории анализа дискурса (как раз прекрасно знающей, что за субъекта всегда-уже говорит дискурсная и ею подразумевающаяся идеологическая формация, производя самого субъекта как эффект) в обоих случаях имеется в виду неустойчивость места речи, единственно декларируемая первыми и констатируемая второй, а в пределе — необходимость лишения языка способности навязывать субъекту закон высказывания (первые в этом более мистичны, вторая — более пессимистична). Т.о., высказывание «я — это другой» настаивает не на существовании нездешнего субъекта этой речи, но на известной «этости» (т. е. настигаемости для или даже принадлежности идеологии) всякой «нездешней» речи, сознающей это и от того совершенно справедливо и прикидывающейся, и беснующейся. Подразумевая «Я — другой, нежели тот, кем вы хотите меня называть», субъект стремится переприсвоить объем субъектности, у него отнятый и протезированный идеологемой тождества. Я ← другой.
А как понимаешь формулу Рембо: «Я — это другой» ты?
Сергей Огурцов: Начну с лаканизмов. «Я — другой»: субъект фундирован другим как важнейшим означающим; мое желание — желание другого. Однако верно (особенно для болезни) и обратное: желание другого — мое желание, другой — это я. И прежде чем пуститься в психоаналитику, укажу, что важно в формуле «я — другой» прежде всего само соотнесение, «я» ↔ «другой», взаимозависимость и
ПА: Видишь ли, здесь есть некоторое принципиальное отличие, т. к. я говорю о Другом Рембо, как о предлоге, позволяющем ускользнуть от именования в принципе, но если ты желаешь сосредоточиться на проблематике «послания» и возможности неконвенциональных отношений участников этого процесса, в рамках которой Другой, пусть сколь угодно неопределен, но отличен от «Я», то я могу задать тебе следующий вопрос: почему ты так спокойно переходишь к корректировке статуса или контура адресата, если непонятно, почему вообще начата речь. Ведь если тебя (уверяю, не только тебя) смущает укорененность в сущем некоего классического «адресата» революциённых стихов, гробящая их освободительный потенциал, то мне представляется значительно более подозрительной классическая «субъектность» подобных текстов. Даже без столь сильных средств, как в случае с бесноватыми и поэтами, в речевой цепочке, материально производимой одним субъектом, ряд явных языковых средств на уровне дискурса всегда будет указывать на ту или иную степень присутствия другого и, следовательно, на эксплицитную и конститутивную неоднородность речи. Например, еще другой пересказанной речи: синтаксические формы косвенной и прямой речи однозначно обозначают в рамках предложения акт высказывания другого. Только в этом случае автор будет исходить в своем утверждении присутствия другого не из дефицита субъектности, а, напротив, из избытка авторской воли, жалующей с барского плеча компетенцию высказывания другому. Т. о. изменится вектор отсылки: Я → другой.
И в этом смысле она будет скорее равняться утверждения «Он — такой». Что, впрочем, редко оказывается жестом бескорыстным, как правило, включающий в свое произведение чужую речь делает своего партнера заложником необходимых первому композиционных и стилистических эффектов. Так же, как в ситуации записи показаний бесноватого или перехвата речи поэта доксой, угнетенному этой процедурой остается только изрекать «Я — это другой», чтобы избежать скрепления показаний нарушением тождества личного местоимения и приписываемых ему предикатов [1], герой, которому вменяется некоторая реплика, кричит со страницы каждого произведения «Не верьте! На самом деле я совершенно другой!», потому что формулировка всегда принадлежит владеющему языком. Именно поэтому меня больше интерсует то, из чего конституируется сама компетенция говорения. Вторая позиция делегирования высказывания будет изначально властной, даже если она оторочена литературными кружевами, тогда как первая — всегда позицией угнетенного, даже если она, в свою очередь, подбирает литературные лохмотья, чтобы прикрыть наготу своей жизни от пристального ока доксы.
Заметь, если Другой всего лишь глух или спит или даже не знает языка (вообще подобные примеры, уж извини, чаще всего имеют место в логической фантастике), он тем более существует в качестве гаранта возможности речи, а еще большим гарантом или скорее даже тем, кто берет твою речь в заложники, является тот, кто ни проснувшись, ни обретя слух, ни даже выучив язык, все равно не будет обладать той компетенцией, чтобы говорить, и именно поэтому будет как бы вынуждать высказаться за себя тех (со всеми вытекающими отсюда опасностями), кто такой привилегией обладает и будто бы может ставить под сомнения условия, позволившие ее обрести.
СО: Показательно, что ты называешь философские концепты (в делезианском смысле) «логической фантастикой». Увы, используя рационалистический дискурс теории коммуникации (адресат, послание) лишь множим муляжи множества, не слыша Другого. Именно Другой и является истоком любой «моей» речи. Но далее речь или взывает к Другому и слышит его, или запирает «я» в темницу Того-же-самого. Вопрос «Кто говорит?» выполняет именно эту функцию: дважды сближая того, кто говорит, и того, кто слышит, он создает иллюзию присутствия Другого и его тождественность Тому же. Будучи обращен к тому, кто вопрошает, этот вопрос порождает эффект коана «Кто я?», запускающего фракталы иллюзорного остранения, уровень за уровнем уводящие субъекта речи от момента я-голоса: «Кто я, который говорит?» — «Кто я, который говорит: кто я, который говорит?…» — и так далее, до бесконечности симулируя Другого-во-мне. По другую сторону вопрошания вопросом этим скрывается, что задан сам он только ввиду того, что мог быть кем-то услышан. Ибо вместо честно обращенного вовне: «Кто слышит?», вопрос прикидывается обращенным в пустоту вопрошающего. Для мышления, ищущего выхода к мышлению, возможен лишь один вопрос: «Ты говоришь?»
Разумеется, даже неспящий и говорящий Другой именно что «угнетен» — то есть приближен речью до статуса «адресата», до статуса «понимающего», что лишает его возможности быть Другим. Другой — это то, что угнетается «мною». Угнетается ради того, чтобы «я» говорил, чтобы «меня» слышали. Я предлагаю мыслить власть более абстрактно, то есть в наиболее общем виде: там, где предполагается власть систем (например, государства) над индивидом (или коллективом), я веду речь о власти Того же над Другим, «я» над «ты» — что и лежит в основе любой видимой власти.
II. грамматика другого
ПА: Я попробую задать вопрос провокационный в первую очередь терминологически, что может помочь нам перейти к более детальному анализу феноменов поэтической речи: что для тебя подразумевает задействование языка в критических целях — если такое вообще возможно? Как вообще соотносятся, по-твоему, инстанции субъекта, языка и идеологии?
СО: У языка есть функции поважнее, чем «критические» — и доступны они, в первую очередь, поэзии, тогда как «критической» может быть и мысль (т. е. наука, в широком смысле, а относительно обсуждаемой проблематики — философия, социология, антропология и т. п.). Но еще до того, как назвать эти более важные цели, подумаем: что есть «критическое» теории? Или: где критическая мысль достигает своего акме? Критика есть аналитическое сомнение, вопрошание-к-истинности. И апогей вопрошания — критическая саморефлексия, постановка под вопрос «самого себя».
В этом заключается и предельная критическая функция языка как такового.
И тут она граничит с той самой «более важной» задачей, свойственной поэзии (я
ПА: Обрати внимание, я говорил о «критическом задействовании языка», следовательно, субъектом этого «задействования» должен являться некто помимо языка. И для меня не существует никаких «функций поважнее», язык существует только для того, чтобы быть задействованным, и в этом смысле неотделим от мысли — критической или инерционной. Хотя поэт по сложившейся мифологии и должен на этот счет обладать воззрениями значительно более эзотерическими, но я, к сожалению, не могу ничем похвастаться.
То есть, хочу спросить, каким типом высказывания должно являться (само)-критическое использования языка в поэзии.
СО: Задействованным — да, но может ли Один задействовать язык без Другого? Кажется, я достаточно ясно высказался насчет того, где мне видится предел критического задействования языка («постановка под вопрос самого говорящего»), и ничуть не отрицая этой интенции для поэзии, намекнул на то, что последняя только и стремится пересечь границу «критики» ради Встречи — перейти из ясности во тьму.
Переход этот диалектический: Встреча не отрицает «критической» работы, более того — обусловлена ею. Но возможность подобной диалектики изначально была открыта именно поэзии, что и определяло сущность последней. (Уже много позже подобные задачи программно стали ставить перед собой философы, ср. Делез.) Все это представляется мне предельно экзотеричным.
Встреча — это разговор-к-Другому, или — зов Другого. Ты не сможешь говорить с Другим на своем языке: он его не понимает. Невозможно выучить его язык: тем самым ты просто создашь Другого из некоего «знания» о «нем», которым на деле не обладаешь вследствие тотального несовпадения перцептивного устройства. Тогда ты понимаешь, что невозможно говорить-с…
Ибо это малое «с» уже пред-полагает познанность другого, вашу невозможную близость, которая через мгновение разрушается явлением Совсем Другого. И так бесконечно. Ничто не длится, ничего нельзя присвоить. Другой постоянно ускользает из
ПА: Но тогда эту чехарду можно продолжать до бесконечности: называть нечто Другим — значит в грамматическом смысле тоже это определять, ограничивать, стреноживать, сколь бы абстрактным и защищенным от обвинений в очевидности и утилитарности не было само слово «другой». Заметь, благолепной категории «говорении-к-…» ты поостерегся добавить даже это «другому».
СО: Ничуть не бывало. Другой — это функция движения различания (Дерридианский différance). Ограничить ее можно, лишь избрав произвольно (т. е. по воле собственной, путающейся со случайностью) на графике функции некоторую точку — в нашем случае, «адресата» высказывания. Именуя функцию, мы не ограничиваем поле ее значений — ибо обретает она их в зависимости от выбранных нами переменных. Важно не путать саму функцию как множество возможных значений с результатом подстановки переменных. Позволю себе еще одну метафору: Другой — это функция, описывающая топос плана имманентности.
Говоря-к-…, ты отнюдь не
ПА: «Говорение-к-…», насколько я понимаю, конституирует себя отличием предлога от используемого в конструкции «говорения-с-…», а точнее отличием грамматического значения падежа — дательный вместо творительного. Можно сказать, что если «говорение-с-…» формирует («творит» — со всеми вытекающими двусмысленностями и погрешностями) своего «адресата», то «говорение-к-…» лишь предвкушает, не манипулируя им напрямую, если вообще имеет его. Думаю, это достаточно близко к твоей мысли. Но проблема заключается в том, что это «говорение-к-…» оказывается своего рода обновкой для классической модели грамматической адресации поэзии (ср. сотни стихотворений, озаглавленных «К ***»), основным моментом которой является опосредованность обращения то ли нарциссизмом, то ли условиями и условностями литературного поля. Когда высказываешься «прямо», не делаешь адресата третьим лицом, но именно эта грамматическая необходимость появляется вместе с дательным и предлогом «к». Чаще всего стихотворения, озаглавленные «К ***», сами по себе (уже) были вполне равнодушны к возможному ответу, но не равнодушны к отклику (критики). Их авторы, занимая позу отвергнутого и не допущенного к прямой речи, в действительности опять же конденсировали всю атмосферу диалога и апроприировали известный объем власти обращения. Прости, но сложно принимать подобные дискурсивные эффекты так, как на том настаивает их производитель, т. е. не замечать.
СО: «Производитель», как правило, ни на чем, кроме «произведенного», не настаивает: различие функций «X, пишущий поэзию» и «X, пишущий о поэзии, писанной X» очевидно. И если уж ты попомнил первого, то следует обратить внимание на его стихи. Возьмем в качестве величины X часто мною тут поминаемого Целана. Приглядись: у него наиболее часто употребляется местоимение «ты», при том, что стихи могут быть снабжены традиционной надписью. Хотя и здесь деконструкция должна идти до конца: никакого «К…» в этих стихах нет. Они над-писаны — и это чрезвычайно важно — «просто-напросто» именем.
В отличие от «производителя», впрочем, настаивает грамматика — тут ты точен, однако возможна иная интерпретация.
А именно: действительно, сама грамматическая форма подразумевает, что «говорение-к-…» отказывается от творения субъектом речи объекта оной. Такое творение в речи было бы именно тем пред-конституированием, которое, как я объяснял выше, «угнетает Другого», лишает его шансов проявиться в речи. И если уж ввязываться в это рассмотрение грамматики (через падежи), то «говорение-к-…» дает Другому шанс явиться-Другим, а
Под конец, позволю себе усомниться в выводах, основанных на гримасах лиц местоимений. С одной стороны, что «ты», что «он (а)» подразумевают примерно одну степень известности того, о ком идет речь. С другой, если «ты» внутри текста выдает прямую обращенность речи (причем иногда насильно опрокинутой в читающего, а иногда вовсе не его ушам предназначенной), то «он» подразумевает лишь обращенность к некоему неупомянутому «ты», которое, однако, все равно имплицитно присутствует.
III. сумерки политического
СО: Может показаться, что все эти зовы Другого и сопутствующая им педагогика перцепции отрицают «прямое» политическое действие по изменению «реального» положения дел. Ведь вполне очевидно, что влияние на, скажем, трудовые отношения, социальные институции и т. п. требует некой «прямой» практической работы, дидактического, «ясного» высказывания. Однако таким образом определяемое «прямое действие» целиком и полностью является работой в сфере policy, полиций — как сказал бы Рансьер.
Искусство, величающее себя socially engaged, ангажированным, политическим, критическим, реалистическим, объективным и проч., в частности и поэзия, слишком часто проповедует спасенным. Или уже-желающим-спастись, что одно и тоже.
Уже самоименования его отсылают к определенному режиму репрезентации. Художники обращаются к уже оформленным коллективам, уже заметным конфигурациям субъективности, а то и вовсе к конкретным аудиториям — называя это политическим действием и оставаясь при этом в режиме policy.
ПА: Ну, в той мере, в которой поэзия обладает своей спецификой, отличной от специфики публицистики или политтехнологизма, разумеется, она не может быть «прямой», поэтому, как, полагаю, ты понимаешь, «поэзия прямого действия» — это такая метафора или, точнее, гипербола. Но я все равно не понимаю, почему ты так заочно кастрируешь всякую «прямоту». Хотя, может быть, это и важная терапевтическая процедура. Мне это больше напоминает классическое требование поэзии особых квот «поэтического языка», отличного от языка банальной практической коммуникации, в действительности лишь упрочающее имманентный принцип иерархизации поля (поэзии). Я думаю, ты не будешь спорить с тем, что всякое высказывание (речевое произведение), имеющее автора, является властным. И почему «прямое» здесь поперед «темного» оказывается зачисленным в профанный разряд policy, я не совсем понимаю. Для меня как раз настаивание на специфичности сферы, не проницаемой для непосвященных и социологов, является в первую очередь властным, пусть и в своей отдельной взятости. Тогда как «прямота» может являться куда как непрямой риторической конструкцией, работающей с политическим именно через знак своей «ясности», бедной формы.
СО: «Прямое» высказывание я попытался определить как тип «понятной» речевой конструкции, «общая» понятность которой вытекает из ее подспудной (или явной) обращенности к некоему адресату, то есть из факта пред-конституирования этого адресата, что наглухо закрывает для него возможность стать-Другим (в речи). «Темное» — это все то непонятное, «эзотерическое» (якобы) в стихах, что столь часто получает вполне «официальное» наименование «герметичной поэзии», «декадентского искусства», «абстракционизма», «формализма» и проч. И хотя я говорю «темное» с тоном реверсивной издевки, но за «темными» словами и впрямь ощущается темнота, ощущается в прямом смысле: физически, ибо речь идет о неясности перцептивного поля, в которое ты попадаешь, о растворении известных ориентиров. О такой темноте и пишет Лаку-Лабарт [2], подчеркивая, что она сопрягается с поэзией, но не возникает в ней, и связана эта темнота (тут они солидарны с Целаном [3]) — с предвкушением встречи, но никак не со стремлением к одиночеству. (Если «одиночество» звучит слишком «темно», можно понимать его и как индивидуализм, который занимает место, оставленное критической ясностью, но никак не поэтическая темнота, которая есть зов Другого.)
Поэзия, как и ее темнота, ни в коем случае не является «непроницаемой для непосвященных» — я нигде не говорил об эзотерике поэтического иначе, чем как о мираже тех, кто этой самой темноты — а значит, Другого — боится. Равно чужда мне и сакрализация политического (профанизация полицейского), на которую ты намекаешь. В конце концов, сказано же: кто-то должен заниматься и прямой пропагандой, и активизмом, и много какими еще вещами, требующими и языка, и ясности, и критической интенции — а не (только) темного зова Другого. Моей задачей было продемонстрировать политическое значение т. н. герметичной поэзии, а вместе с ним и политическое измерение в этой оптике: во взгляде Другого.
Я предполагал лишь описать функции «прямого» и «темного» внутри предложенного мной принципа Другого как достаточного условия распахивания политического пространства. Кастрация тут видится тобой именно в виду интереса собственного желания и угрозы ему: постулируя определенную поэзию «прямой», ты претендуешь и на «политическое» ее действие. Я — для такого взгляда — явно пытаюсь установить иной закон. Но это не кастрация, это именно что указание на фалличность «прямой» поэзии; аналогия с геометрией «прямого», видимо, неслучайна: фаллос и является инструментом полиций, оружием подавления различий и утверждением некого порядка; фаллос также намекает на тот самый «творительный падеж». О чем и речь: темнота, «вагинальность», если угодно, — это возможность жизни и первичный хаос, из которого возможно — но которым не оплодотворяется — рождение субъекта.
Все это, разумеется, отрицает любые «квоты» на поэтический язык. Речь не о требовании некоего (определенного) языка от поэзии, но о требовании поэзии от языка. Ты и сам проговариваешься, предполагая некую меру специфичности поэзии (относительно той же публицистики, а значит, и социологии, и активизма, и т. д.). Я лишь попытался поговорить об этой, вне всяких сомнений, темной зоне: о специфике поэтического. Как я уже где-то писал, даже тексты Лунгула, где доминирует публицистика, местами пронзает именно что поэзия. Адорно в том же духе обсуждал Брехта [4]. На самом деле, лучшие образцы «понятной», прямо политизированной поэзии (и искусства вообще) всегда полны темнотой странных формальных приемов и проч. И важно обратить взгляд именно на эти поэтические проблески, а вернее, черные дыры.
ПА: «Субъективность» есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка, основание «субъективности» определяется языковым статусом «лица», без выражения которого существование языка (и, разумеется, речи) немыслимо. Именно на категории лица, не соотносящейся ни с понятием, ни с индивидом, но с той особой ситуацией единовременного акта речи (instance de discourse), зиждется возможность совершать действия при помощи слов. Перформативное высказывание, т. о. предполагает не описание (в том числе мыслительной) операции, но утверждение определенного отношения субъекта к порядку действительности, далее лишь упоминаемому. Оно является не
А поскольку имплицитно перформативными являются и высказывания, грамматически не соответствующие нормальной форме перформатива, но оказывающиеся действенными благодаря контексту и ситуации высказывания. Это позволяет заключить, что всякое художественное высказывание, будучи произведенным с определенной позиции — позиции правомочности лица, его совершающего, и особых обстоятельств, в которых оно совершается (позиции автора и пространства литературы), можно рассматривать как производящее событие, т.е. перформативное.
Я настаиваю не на «прямоте» поэтической адресации, но только на необходимости осознания перформативности всякого художественного высказывания. Речь ни в коем случае не идет о зависимости контура имплицитного автора от биографической фигуры, как раз напротив, субъект существует только в момент высказывания, далее как бы снова рассеиваясь в неречевом, даже испытывая ностальгию по субъекту своего высказывания. Т. о., «прямое» высказывание никому не «тыкает», но в то же время не желает и оговаривать третьих лиц, потому сосредоточивается на конструировании (всегда носящем временный и экспериментальный характер) и испытании собственной субъективности, как области наиболее проблемной и даже подозрительной, на что я указывал выше.
Т. о., «прямота» не откладывает и не упрощает вопрос Другого, но обращает его к самому субъекту высказывания.
СО: Имплицитная перформативность любого высказывания бесспорна. Как и связи языка и субъективности, хотя я тут был бы аккуратнее, отметив, что субъект соотносится и формируется скорее языком вообще, нежели высказыванием — а значит, «мерцания» случаются не с угасанием / продолжением речи, а в более тонких пульсациях языка как такового; более того, языковая стадия является лишь кульминацией, но никак не началом становления субъективности.
Но далее мы разойдемся: отнюдь не всякое (художественное) высказывание является событием. Событие и перформатив несовместимы: событие не производится, и не производит ничего. Его явление не-пред-сказуемо, но очевидно; событие — это чудо, чудо Встречи Другого.
«Прямота» в твоих словах почти синонимична критической установке; «испытание субъективности» и есть предел критической функции языка. Однако в стихах многих авторов, так или иначе под «прямотой» и «секуляризацией» поэзии подписавшихся, я нахожу прямоту гораздо более прямую, с которой и спорю сейчас. Это прямота вульгарного реализма, которому известна некая, как ты говоришь, «действительность» и ее «порядки» (слова дискурса власти). Среди последних — упование на
Здесь необходимо вернуться к моему аргументу: политическое остается по ту сторону ясного и прямого, там, где появляется Другой — через след ли, через зов ли, в
По разным причинам именно этот эффект представляется мне наиболее разрушительным — и с точки зрения поэтического, и с точки зрения политического.
Обычно socially engaged искусство чурается этих теней «метафизики», попросту постулируя себя как реалистическое. Понятно, что тут как раз и доживает свое та классическая европейская метафизика, с которой боролись Хайдеггер или Левинас. Введенную дихотомию «говорения-с-…» / «говорения-к-…» уместно относительно подобных претензий на реализм представить адорниански: «То, что выступает под ширмой реалистического искусства, самим фактом своего существования в роли искусства делает реальности инъекцию смысла. <…> В отношении реальности это изначально носит идеологический характер».
«То, что выступает под ширмой реалистического искусства, самим фактом своего существования в роли искусства делает реальности инъекцию смысла.»
Инъекция смысла — это прививка против вируса Другого, которого все мы опасаемся больше всего. Другой несет в себе неведомое, травмирующее, а в пределе — смертельное. Там, где появится Другой, не будет Того же, не будет субъекта, субъекта вот-этой-вот-речи-говорящей-о… Прививка здравого смысла против темноты Другого в себе, в нежелании от-речься и верно служить тому, чего нет рядом, и что никогда не будет рядом, никогда не ответит на твою речь, никогда не подсядет к тебе на облачке наконец завоеванного райского Another World…
После прививки смысла, преодоление метафизики для подобной тождественной антропной модели (сформировавшейся, видимо, в Новое время как исторический осадок секуляризации) возможно лишь в некоей тотальности подлинного опыта, сродни тому, который пережил Лукач, признавший после заключения в Румынии Кафку писателем-реалистом.
Другой обнаруживается — сам-собой — лишь в зонах разрывов всякого содержания и мнимой «ясности», в опыте со-бытия, неподвластного говорящему. Поэзия — это прежде всего акт не выражения [5], но восприятия; поэтический текст — это не рот, но ухо, распластанное на странице: читающий вслушивается словами поэта. И сам поэт говорит не чтобы быть услышанным, но вслушиваясь: ты говоришь?…
ПА: На самом деле я имею в виду только то, что даже если мы перестанем действовать под прикрытием «идеологически правильных сентенций» и будем открыты всякой Встрече-с-Другим, то все равно будет оставаться возможность застрять в самой рафинированной самокритичности дискурса Другого (тоже, надо сказать, ставшего во после французских 60-х хорошим тоном), не только подозрительно регулярно клонящегося к индивидуализированному ландшафту психологии (-анализа), но и, возможно, еще более застрахованного от рецепции, чем навязшая в зубах социальная (гражданская) поэзия по отношению к «несуществующему» пролетариату. Красивый жест подвергания собственных предпосылок сомнению в таком случае грозит остаться лишь жестом, приводящим не столько к продуктивной рекогносцировке точек говорения-слушания, сколько к бесконечному попятному движению оговорок, на деле совпадающим с удалением субъекта критической рефлексии в интеллектуалистский санаторий.
Я говорю не о «раскулачивании» специфики поэтического, но только лишь о том, чтобы не забывать о горизонте необходимости сравнять искусство с землей политики.
СО: Твои опасения понятны и справедливы. И более того: искусство, «индивидуализированного психо-ландшафта» не только «застраховано от рецепции», оно именно что закрыто Встрече-с-Другим. Критическая рефлексия является необходимым — пусть и недостаточным, на мой взгляд — условием оной, расчищая пути для все большей автономии искусства (понятой не как невнимательность к контексту, но иммунитет против аппроприации дискурсом власти, который подавляет и критическую рефлексию, и Другого в том самом «Я-это-Другой»).
А вот формула «сравнять искусство…» вызывает некоторую тревогу на фоне нередких проявлений малой ждановщины в левой среде. Ее первыми жертвами становится все непонятное: «темная» поэзия, «формалистское» искусство. Реакционность этих разборок не требует доказательств. Я абсолютно уверен, что наша задача состоит не в создании пантеона некоего «правильного левого» искусства, а, напротив, в реаппроприации всех культурных практик, особенно в исторической перспективе.
И критерием не может быть ангажированность автора или «классовая правда» произведения. Искусство, как улицы, не может быть буржуазным отроду — но только по факту его использования тем или иным образом. Любое «хорошее» искусство содержит в себе освободительный потенциал, и задача левых — освободить освобождение.
Сноски
1. Ведь во французском оригинале формула звучит (выглядит?) не иначе как Je est un autre, вместо грамматически верного Je suis un autre, бывшего бы здесь, вероятно, недостаточным средством.
2. «Темнота в поэзии появляется, с нею сопрягается или может сопрягаться. Причем появляется, подчеркивает Целан, <…> одновременно из желания и по велению встречи с являющимися в свой час «иными краями и пределами»,
то есть с
3. «…[поэзия] говорит по сути некоего Другого, и кто знает, может быть, по сути некоего совершенно Другого» (П. Целан. «Меридиан»).
4. Это будет еще более очевидно на примере Годара. Проблема в том, что, не имея и близкой виртуозности, большинство их идеологических и эстетических продолжателей попадают в ловушку дидактики, начиная «учить баснями». Притом, по мнению того же Адорно, даже гений Брехта не смог перешагнуть через себя: «Произведение искусства, полагающее, что содержание является его собственным порождением, впадает благодаря присущему ему рационализму в наивность самого дурного тона — именно здесь пролегает исторически обозримая граница, которую не смог переступить Брехт» (T. Адорно. «Эстетическая теория»).
5. «Поэтический акт состоит не в воспроизведении, а в восприятии. Воспроизвести, согласно хотя бы некоторым из «старых толков», можно лишь уже существующее в реальности. Нельзя воспроизвести то, что «лишь наступает», это противно самому смыслу слова» (Ф. Лаку-Лабарт. «Поэзия как опыт»)
#5 [Транслит]: Кто говорит?
