Дебора Гольдгабер «Спекулятивная грамматология: Деконструкция и новый материализм»
Deborah Goldgaber
Speculative Grammatology: Deconstruction and the New Materialism
(Edinburgh University Press, 2021)
Ниже приведен только фрагмент перевода. Полностью текст можно скачать здесь: https://vk.com/transstructuralism
- Предисловие Грэма Хармана
- Предисловие: (Не)своевременность грамматологии
- Введение: Спекулировать — с Деррида
- 1. Материализм и реализм в современной континентальной философии
- Анти(анти)реализм и новый материализм
- Спекулятивный реализм
- Дерридианская критика корреляционизма
- Заключение
Аннотация: Рассматривая в основном ранние работы Деррида — три текста, опубликованные в 1967 году: «О грамматологии», «Голос и феномен» и «Письмо и различие», — Дебора Гольдгабер инициирует диалог между деконструкцией и спекулятивным реализмом. Показывая, что грамматология предполагает оригинальную форму философского материализма, она определяет значимость деконструктивного материализма для современных философских дебатов. Ее тезис заключается в том, что утверждения Деррида относительно абсолютной всеобщности письма — о том, что письмо связано не только с языком — применимы также к живым и материальным процессы. Однако, хотя грамматология и обобщает письмо, она радикально смещает письменные модели в пользу новой схемы — мнемонического следа. Гольдгабер подчеркивает продуктивные ресурсы, которые дерридианское письмо может предложить современным материалистическим проектам, включая проекты Карен Бэрад, Катрин Малабу и Квентина Мейяссу. Все эти свежие идеи способны вдохновить на новые диалоги всех, кто интересуется Деррида, а также спекулятивным реализмом и новым материализмом.
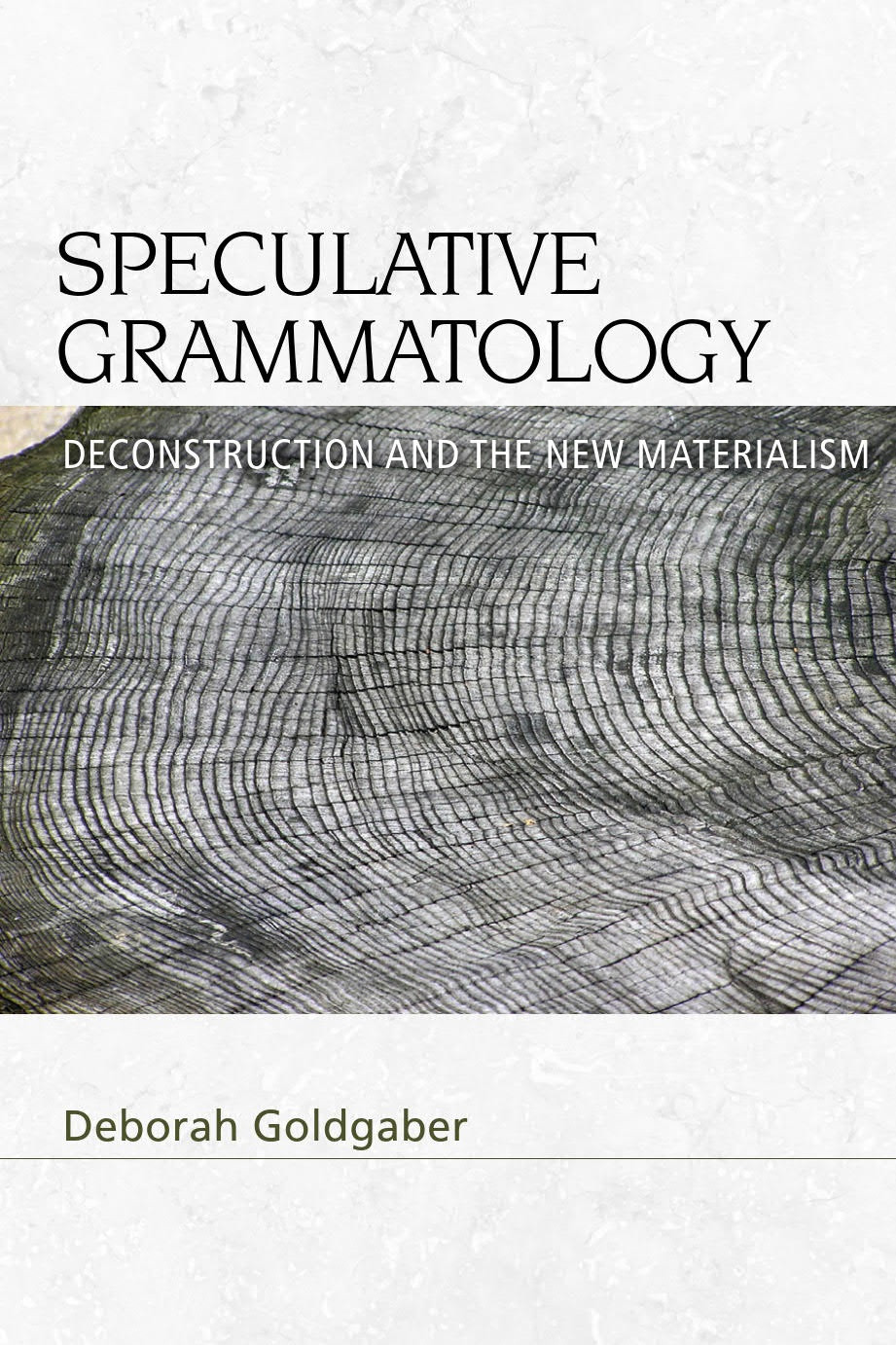
Предисловие Грэма Хармана
Репутация Деборы Гольдгабер как оригинальной интерпретаторки Деррида возникла намного раньше публикации этой книги. Что отличает «Спекулятивную грамматологию» от других существующих работ о Деррида, так это изображение этого поляризующего француза как спекулятивного философа, который в тайне пляшет под реалистическую дудку. Правда, реалистом пытались изобразить Деррида и другие комментаторы, но обычно это сводилось не более чем к «реализму остатка», когда каждый акт речи или письма преследуется следом неустранимой инаковости. Гольдгабер идет гораздо дальше, продвигая свою трактовку текстуальности в область низших животных и даже неорганического. Уже из одного этого должна быть понятна причина включения книги Гольдгабер в серию, посвященную Спекулятивному Реализму (СР).
Будучи убежденной, хотя и неортодоксальной дерридианкой, Гольдгабер протягивает оливковую ветвь зачинателям СР, ни один из которых никогда не был большим поклонником Деррида. Дерридианская критика присутствия, утверждает она, охватывает ту же почву, что и критика корреляционизма в рамках СР. Для обоих предполагаемое совпадение мысли и бытия является иллюзией или фетишем, поэтому СР должна искать союзничества с такими дерридианскими терминами, как «текст», «след», «опространствование» и «архе-письмо», которые Гольдгабер формулирует таким образом, что союз кажется до странности привлекательным. Она также признает, что существуют весьма веские причины, по которым как друзья, так и недруги Деррида всегда считали его очевидно анти-реалистическим и анти-материалистическим по духу. Тем не менее, Гольдгабер лучше многих понимает разницу между Спекулятивным Реализмом и Новым Материализмом: эту разницу часто замалчивают даже такие зоркие критики, как Славой Жижек вместе с его окружением[1].
Глава 1, «Материализм и реализм в современной континентальной философии», знакомит с рядом современных авторов, с которыми Гольдгабер ведет серьезный внутренний диалог, особенно с Карен Бэрад, Клэр Коулбрук и Кэри Вулфом. Отдельный диалог здесь ведется со мной и Леви Р. Брайантом. Гольдгабер выражает согласие с нами в том, что критика «картезианского субъекта» в двадцатом веке — со стороны таких авторов, как Мишель Фуко — не смогла докопаться до корня проблемы, поскольку, предположительно, посткартезианский ландшафт по-прежнему оставляет человека в центре картины. Говоря иначе, Гольдгабер не играет в старую, надоевшую игру критики «гуманизма», не делая при этом ничего, чтобы сместить человека с его философского трона. Деррида, уверяет она нас, является критиком корреляционизма, а не реализма, и поэтому заслуживает того, чтобы считаться спекулятивным реалистом avant la lettre. Она строит основу для этого аргумента на серии ключевых цитат из Деррида, в которых он открыто выступает против идеи «лингвистического поворота».
В главе 2 мы впервые знакомимся с новым подходом Квентина Мейяссу к проблеме архи-ископаемых[2]. Хотя нередко ошибочно полагают, что Мейяссу думает, будто он опровергает корреляционизм, апеллируя к «доисторичности» вселенной до существования всякого сознания, Гольдгабер отмечает явное сходство между Мейяссу и корреляционизмом. Прежде всего, они исходят из того, что прямое свидетельство — единственный вид свидетельств, при том что Мейяссу отличает беспокойство по поводу последствий этого для науки. Гольдгабер ищет абсолютное, а не прямое свидетельство, то есть вид свидетельства, независимый от всякой трансцендентальной деятельности: именно это, по ее мнению, и дает нам Деррида. Письменные тексты не могут быть соотнесены с субъектом — они «структурно читабельны» в отрыве от человека. Это приводит ее к оригинальному пониманию дерридианской «итерабельности» как относящейся не просто к повторяемости, но к гетерогенности, включенной во всякое повторение. Такая гетерогенность интерпретируется далее как форма паразитизма, при которой мета не является самотождественной, так как ее всегда населяет другая мета, ее структурирующая. Хотя часть дерридианской терминологии и кажется нам знакомой, ее реалистическое применение, которое предлагает Гольдгабер, таковым не является.
В главе 3 Гольдгабер утверждает, что Деррида является элиминативистом в отношении смысла, который он заменяет понятием переводимости. Тут он находится под влиянием идеи Вальтера Беньямина о «переводе по ту сторону человеческого». Хотя Деррида стремится сохранить означающее и означаемое в качестве двух отдельных терминов, они не являются для него таксономическими противоположностями, как если бы одна вещь была просто знаком, а та, на которую он указывает, — чистой конечной точкой самоочевидного смысла. Напротив, переводимость означает, что любой предполагаемый смысл сам по себе является другим текстом, причем один текст всегда может быть модифицирован другим в пределах того, что Гольдгабер называет «обменом формами». Мысль сама по себе является еще одной формой перевода: ничто не выживает, не мутируя.
Глава 4 обращается к загадочному понятию Деррида «архе-письма», как оно определено во второй главе «О грамматологии». Несмотря на более чем пятидесятилетнее внимание исследователей, как отмечает Дж. Хиллис Миллер, не существует единого толкования ни для этого термина, ни даже для «следа».[3] Гольдгабер прочитывает архе-письмо как относящееся к вездесущему переплетению внутреннего и внешнего у Деррида и связывает это с важной книгой Карен Бэрад «Встреча со Вселенной на полпути».[4] Однако читатель задается вопросом, действительно ли Гольдгабер и Бэрад являются очевидными союзниками в вопросе переплетения; подобно Нильсу Бору, Бэрад считает, что переплетению требуется разум в качестве одного из своих условий, а ведь это и есть то, что Гольдгабер отвергает в своих попытках помочь Деррида избежать трансцендентального отношения «мысль-мир». В этой же главе Гольдгабер предпринимает пристальное чтение лингвистической теории Фердинанда де Соссюра, уделяя внимание концепциям Романа Якобсона и Вильгельма фон Гумбольдта.
Но настоящий фейерверк прибережен для главы 5, завершающей книгу. Называя дерридианский след «ультра-трансцендентальным», Гольдгабер вскоре дает понять, что под «ультра-» она подразумевает не столько трансцендентальность, сколько выход за пределы трансцендентальности. Не претендуя на все заслуги в своей проницательности, она приветствует союзников со всех сторон: как Бэрад переносит дерридианскую структуру следа на квантовый уровень, Вулф — на теорию систем, так и Мартин Хегглунд описывает эволюционные процессы в дерридианских терминах. Но не каждый на этом пути является союзником: Бернар Стиглер с подозрением относится к Деррида-внешнего-мира, и Гольдгабер с его подходом не согласна. Учитывая обобщенность структуры следа, абсолютно всё можно рассматривать как форму памяти. Но здесь также обнаруживается важное различие между Гольдгабер и объектно-ориентированной онтологией (ООО). Соглашаясь с Коулбрук, она считает, что деконструктивный материализм не может иметь ничего общего с субстанциями или объектами, поскольку ни одно из этих понятий не выдерживает испытания пластичностью следа. И если уж говорить о пластичности, то с кем, как не с Катрин Малабу, можно посоветоваться по поводу этого термина? Последние страницы книги, по сути, представляют нам внутреннюю дискуссию Гольдгабер с Малабу. Хотя обе авторки согласны в основных положениях философии, Гольдгабер в целом защищает Деррида там, где, по мнению Малабу, он не дотягивает. В частности, если Малабу считает, что «письмо» остается в ловушке старой оппозиции материи и формы, то Гольдгабер настаивает на обратном. И хотя Малабу утверждает, что ее идея «пластичного кодирования опыта» не-грамматологична, потому что она не-графична, Гольдгабер не усматривает графических ограничений в общей грамматологии.
Не считая деталей аргументации, Гольдгабер доводит интерпретацию Деррида до такого уровня, который был бы немыслим в 1980-х и 1990-х, когда применение грамматологии на уровне червей и камней могло вызвать лишь насмешки. Она также уникальна в том вызове, который она бросает дерридианцам. В последние годы те, кто утверждал, будто «Деррида с самого начала был реалистом», слишком часто делали это с претензией на то, что это всегда было очевидно, словно недавние материалисты и реалисты — это пришедшие с улицы лакеи и плагиаторы, не имеющие права задавать вопросы старшим. Позиция Гольдгабер честнее: признавая анти-реалистический багаж дерридианской науки, она предлагает мощную демонстрацию возможного реализма, скрывающегося под поверхностью его работ. Она уже изменила мое мнение по ряду важнейших вопросов.
Грэм Харман
Лонг-Бич, Калифорния
Март 2020
Предисловие: (Не)своевременность грамматологии
Это не книга о Жаке Деррида, авторе книги «О грамматологии». Это книга о грамматологии, предлагаемой науке об общем письме, а также о продуктивности и перспективах занятий грамматологией сегодня. Хотя грамматология обычно и даже исключительно отождествляется с Деррида, последний дистанцировался от этого проекта и его судьбы. Несмотря на некоторую осторожность, Деррида всё же настаивал на том, что наука об общем письме имеет полное право на существование; ее статус обеспечивается изменением понятия письма, привнесенным структурализмом, генетикой, вычислительной техникой и кибернетикой.[5] Письмо перестало быть «субстанциальным двойником означающего», перестало быть «техникой на службе языка», стало даже «схватывать язык» — и выходить за его пределы.[6]
Письмо теперь относится не только к репрезентации и «системе записи, вторично связанной с деятельностью [“которая порождает надпись”], но и к самой сути и содержанию этих видов деятельности». Не только картография и кинематограф, но и генетические коды и «всё поле кибернетического “программирования”» (ОГ, 122-123). Как отмечал Жак Лакан, кибернетика первая пообещала описать автономию символических процессов, свободных от интенционального, сознательного контроля.[7] Чтобы обосновать эту «инфляцию» письма, дать ей прочный фундамент, грамматология должна сначала «освободить» письмо от его узких, подчиненных обозначений в области общей лингвистики и семиологии.
Если грамматология — по крайней мере, в этой позитивной, если не позитивистской, концепции — и деконструкция не должны смешиваться, то какова же тогда их связь? Грамматология по своей сути деконструктивна, ведь она стремится обобщить письмо. Понятие общего (в отличие от узкого) письма не может существовать без предварительной деконструкции оппозиций, которые воспрещают его возникновение. «Письмо» — производное, вторичное, технический протез, репрезентация, знак знака; его сущностная вторичность противопоставлена формам «присутствия» в широком смысле (объектам, речи, сознанию, миру). Обобщить и поставить во главу угла письмо — значит поставить на голову нашу традиционную и народную метафизику. Трудность реализации грамматологического проекта соизмерима с умозрительными интуициями, мотивирующими его — а именно, что техника и биология, культура и природа, люди и машины «работают» по одной и той же логике или «программе», имеют одни и те же «архе»-условия.
Несмотря на очевидные теоретические перспективы, и какой бы импульс ни дало появление «О Грамматологии», грамматология, как отмечает Катрин Малабу, так и не увидела свет.
Следует признать, что… грамматология так никогда и не «вступила на уверенный путь науки». Фактически, она никогда не была оформлена в виде «дисциплины». Ни в общем смысле — она так и не стала областью полноценного знания, — ни в какой-то особой манере в работах Деррида. В его работах грамматологический проект, по сути, не встречается за пределами «О грамматологии». Грамматология как позитивная наука нигде в работах Деррида больше не является вопросом… Само слово поздним Деррида больше не используется, разве только чтобы напомнить о работе 1967 года. Почему же тогда грамматология исчезает с самого момента своего появления?[8]
Неспособность грамматологии развиваться как метатеоретическому, спекулятивному проекту в духе кибернетики не может быть связана с тем, что Деррида не стал заниматься ею после 1967 года. Как же тогда объяснить эту неудачу, учитывая относительный успех деконструкции — и относительную популярность «О грамматологии»? Провалилась ли грамматология по существенным (философским) причинам? Предложила ли она, в конце концов, неверное понятие общего письма? Или, как утверждает Малабу, она не смогла создать подлинно общее понятие письма?
Малабу утверждает, что понятие общего письма у Деррида — это редукция différance. Пределы грамматологии соответствуют пределам метафоры вписывания. «Образ» письма слишком графичен, чтобы быть пригодным для описания материальных процессов. Общее письмо не может (ин)формировать, освещать или предлагать себя в качестве научной программы, потому что любая концептуальная работа, которую оно могло бы сделать, уже сделана. Письмо не могло быть действительно обобщено: то, что позволяло обобщать его до определенного момента, ограничивало его идеей линейного, апластичного кода или программы. Грамматология была «запрограммирована» на неудачу негибкостью своего основополагающего образа — образа скриптурального или вписывающего письма.
В той мере, в какой книга «О грамматологии» преуспела в оправдании расширения «письма» в пределах air du temps, утверждает Малабу, она не добавила ничего нового к понятию письма — разве что сделала явным то, что было неявным во многих дискурсах того времени. О его априорных ограничениях свидетельствует последующее развитие научных дискурсов, включающих материалистические и эпигенетические принципы развития, главными из которых являются пластичность и самоизменение. Сова Минервы вылетает в сумерки, вот только Деррида об этом не знал. Плодотворность письма и метафор вписывания иссякла. Отступление Деррида от некоторых своих явно дерзких заявлений (в «О грамматологии») и их дезавуирование, по мнению Малабу, вызваны не столько философской убежденностью, сколько разочарованием. Книга «О грамматологии» появилась слишком поздно; это текст без потомства и без будущего.
Но, возможно, «О грамматологии» была несвоевременной книгой в другом смысле. Несмотря на то, что после публикации «О грамматологии» Деррида не продолжает заниматься проектом грамматологии, он не отказывается от ключевых грамматологических терминов, таких как письмо, след и différance. В более поздних работах Деррида переосмысливает структуру следа в своем описании пере/вы-живания (sur-vivance), который он явно связывает с текстами, текстуальностью и переводом.[9] Малабу преувеличивает степень, в которой Деррида — и научный дискурс — закрыли книгу о письме. Технические, научные дискурсы, конечно же, не отказались от священных «метафор» — если это метафоры. Например, ученые описывают технологии редактирования геномов (например, CRISPR) в тех же терминах, которые используются для описания редактирования текстов — «вырезать и вставить», «искать опечатки». Более того, союз между кибернетическим понятием программы и наиболее общим понятием граммы указывает на то, что общее письмо с самого начала перестало быть графическим. В первоначальном «кибернетическом» смысле, о котором говорится в «О грамматологии», программы относятся не к линейному, детерминированному или «трансцендентальному» коду, а к идее «последействия» (обратной связи) и отбора.[10] Грамматологические программы переписывают себя или переписываются, начальные условия смещаются в том, что Деррида называет «протезом первоначала». Архе-письмо, таким образом, относится не к «прорези» (gravure), «торению» (frayage) и «записи» дифференциальных мет или линейного письма — как предполагает аргумент Малабу, — а к условиям текстуальной адаптации, отбора и реформации. Возможно, время для грамматологии еще не прошло; после пятидесяти лет ошибок, возможно, оно еще может прийти.
Книга «О грамматологии» появилась слишком поздно, чтобы стать источником информации для выдающегося грамматологического дискурса своего времени — кибернетики. Она была истолкована — вскоре после того и ошибочно — как обоснование особого рода лингвистического идеализма, а не как защита обобщенности письма. Но сегодня — когда и поскольку обобщенность письма кажется само собой разумеющейся — грамматология еще может предложить нам свои самые продуктивные идеи.
Переплетение биологии и технологии, человека и машины — как это представляли себе кибернетики — больше не является умозрительным. Наши технические протезы (от синтетических половых гормонов до целенаправленного редактирования геномов) действенно разрушают границу между природой, культурой и тэхне. Но в философском плане наше мышление едва ли смогло достичь уровня прозрений таких кибернетиков, как Норберт Вайнер, или таких генетиков, как Франсуа Жакоб. А книга «О грамматологии», пожалуй, опередила и тех, и других. Она опередила, потому что признала, что спекулятивные дискурсы, которые для объяснения частей неизвестной или невидимой реальности опираются на объяснительную силу кода, информации или программы — а всё это образы письма, — останутся ограниченными образами письма в узком смысле. В 1970 году Жакоб размышлял об ограничениях, присущих лингвистическо-скриптуральной метафоре. «Сегодня мир — это сообщения, коды и информация. Какой анализ завтра будет разрушать наши объекты, чтобы воссоздать их в новом пространстве?»[11] Но в 1967 году диагноз Деррида относительно ограниченности письма был существенно иным: речь шла не о метафоре как таковой, а о лежащем в основе кибернетического анализа образе записи. Таким образом, завтрашний анализ не откажется от письма, но скорее «разрушит» и «восстановит» — деконструирует — нашу концепцию «сообщений», «кодов» и «информации», чтобы более эффективно «разрушить наши объекты». Грамматология затребует больше времени и появится позже, чем мы могли бы подумать.
Грамматология по своей природе спекулятивна, но эта спекуляция не состоит в том, чтобы спрашивать, что было бы верно для чего-то (неизвестного или менее известного), если бы оно было похоже на письмо. Она состоит в том, чтобы выяснить, каким должно быть «письмо» в том случае, если оно относится не только к вторичным процессам записи, но и к процессам «первого порядка», таким как «сама жизнь». Эта задача навязана исторической инфляцией письма.
Что делает этот спекулятивный проект (переписывание нашей концепции письма) по своей сути деконструктивным? Деконструкция относится, главным образом, и особенно в ранних работах Деррида, к «метафизике присутствия», высоко переплетенному набору унаследованных понятийных оппозиций, которые предполагают и отстаивают ценность «присутствия» (то есть единство субъекта и объекта в настоящем для восприятии, присутствие объекта в живом настоящем для сознания). Ценность «присутствия» здесь идентична тому, что спекулятивные реалисты сегодня называют корреляционизмом. Деррида обнаружил, однако, что письмо занимает особенно важное место в этой понятийной системе. По отношению к формам присутствия, которые делают его возможным, письмо является несущественным, редуцируемым и радикально зависимым. Всё, что нарушает или оспаривает это уничижительное обозначение, нарушает понятийную систему, которая «подавляет» письмо.
Как спекулятивный проект, направленный на поиск наиболее общего понятия граммы, грамматология по своей сути деконструктивна. Однако грамматология определяется не деконструктивными, а скорее спекулятивными целями: понять, каким должно быть письмо, если оно стоит у истоков вещей; как организуются, развиваются и взаимодействуют системы письма. Деконструктивная работа или потенциал этого проекта заключается в создании общего понятия письма — архе-письма. Однако спекулятивная выгода от архе-письма заключается не в устранении метафизических оппозиций, препятствующих его созданию, а скорее в том, чтобы заставить архе-письмо работать.
Недавно Кэри Вулф призвал к «реконструкции деконструкции», новому союзу между деконструкцией и постгуманистическими, новыми материалистическими и системно-теоретическими подходами — союзу, который не позволит последним попасть в те же «картезианские» ловушки, потопившие первое поколение теории систем, кибернетику.[12] Для такой реконструкции понятия систем и их отношений необходимы архе-письмо, différance, след. Название, которое я предлагаю для такого реконструктивного проекта, — спекулятивная грамматология.
Введение: Спекулировать — с Деррида
В пространстве этих вводных страниц я хочу поразмышлять над названием этой книги — сделать явными некоторые резонансы между спекуляцией и грамматологией, с одной стороны, и спекуляцией и материализмом — с другой, чтобы прояснить, что отличает подход этой книги от других интерпретаций раннего Деррида и от других подходов к материализму в современной континентальной философии.
Для многих читателей Деррида спекулятивный подход к грамматологии покажется подозрительным, поскольку он подразумевает «онтологизацию» таких грамматологических терминов, как архе-письмо, след или текст, чтобы поспекулировать на грамматологической природе, грамматологической материи. Для многих такие спекуляции противоречат бдительному, критическому духу деконструкции. Деконструкция не предлагает пересмотра метафизики; она закрывает метафизику. С этой точки зрения, рассмотрение архе-письма или следа как «вещей этого мира» — включение их в реалистические дискурсы — восстановило бы тотализующие, идентифицирующие и «презентистские» категории, которые деконструкция столь усердно пытается уничтожить.
И всё же Деррида безошибочно отвергает такое «реалистическое» прочтение.
Меня никогда не переставали удивлять критики, которые рассматривают мою работу как заявление о том, что нет ничего за пределами языка, что мы заточены в нем [как в тюрьме]; на самом деле она говорит прямо противоположное. Критика логоцентризма — это, прежде всего, поиск «другого» и «другого языка».[13]
Несмотря на неоднократное утверждение Деррида — в «О грамматологии», в «Différance» и ряде других текстов — о том, что différance и архе-письмо описывают абсолютно общие отношения, читатели сопротивлялись (или не знали, как ее утверждать) онтологической радикализации письма. Вместо этого, как отмечает Франциско Витале, читатели Деррида утвердили «онтологическую радикализацию герменевтики».[14] Отношения между разумом и миром — то же самое, что отношения между читателем и книгой. Вики Кирби пишет, что вместо того, чтобы принимать грамматологическую мысль о том, что материя пишет и читает, мы настаиваем на том, что материя появляется или манифестируется, создавая определенного рода «знаки».[15] Почему легче принять, что «письмо» описывает то, как мы (люди знания) вписаны в мир, и труднее принять, что «письмо» описывает отношения между нечеловеческими «знающими» и «агентами»?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала должны сделать явным ряд предположений, которые работают на защиту эпистемико-герменевтической интерпретации письма от спекулятивно-материалистической. Первое такое предположение мы можем назвать критическим допущением. Письмо относится к условиям познания, в частности, к формированию наших понятий. Знание и бытие не имеют одинаковых условий. Однако материалистическое прочтение деконструкции, кажется, (безотчетно) распространяет дискурс о понятиях (и о том, как они структурируются) на внедискурсивный мир. Такого рода скачок или прыжок, как отмечает Клэр Коулбрук, является философски нелегитимным. Тех, кто рискует подобными аргументами, она спрашивает: «Нет ли некой ловкости рук в переходе от “Деконструкция демонстрирует, что понятия устойчивой само-присутствующей природы обязательно деконструируют себя” к “Деконструкция — это теория природы как неустойчивости”?»[16] Конечно, есть. Если письмо является «общим» — если оно учитывает знание и бытие, — следует тщательно это прояснить.
Второе (связанное с первым) предположение, лежащее в основе эпистемико-герменевтического ограничения письма, мы можем назвать предположением мета-познания. Оно гласит, что, хотя мы можем знать о знании, мы не можем знать о бытии. Наш доступ к нашему мышлению (и к тому, как оно функционирует) лучше, чем к внедискурсивному миру, в который это мышление метит. Если деконструкция показывает, как наши понятия организованы — или «дискурсивно сконструированы», — это должно быть потому, что текстуальная структура познания (и природа текстовых операций, таких как чтение и письмо) также познаваема — так же, как внедискурсивная реальность не познаваема. Если верны и мета-познание, и критика, то деконструкция, по сути, является трансцендентальным дискурсом, даже если «архе-письмо» обозначает критику, которая трансцендентального субъекта смещает.
Карен Бэрад, однако, весьма убедительно показывает, что деконструкция должна была бы заставить нас более скептически относиться к возможности мета-познания, чем это предполагается в рамках эпистемико-герменевтической интерпретации. Какой резон полагать, что мы сталкиваемся с эпистемически справедливыми условиями в отношении мета-познания наших понятий, но эпистемически плохими условиями, когда речь идет о некогнитивных процессах?[17] Действительно, разве смысл «критики присутствия» у Деррида не в том, чтобы показать, вопреки Гуссерлю (среди прочих), что мы не лучше понимаем наш якобы «пережитый опыт» от первого лица и «неизменные структуры сознания», чем неизменные структуры материи?[18]
Критика Бэрад того, что я называю предположением о мета-познании, делает очевидным, что многие интерпретаторы Деррида готовы спекулировать — очевидно, вместе с Деррида — о производстве понятий, об общих условиях мышления и о природе языка. Всё это — эффекты différance. Однако они не желали рассуждать — очевидно, вопреки Деррида — о природе мирских процессов и отношений. Но теперь кажется, что деконструкция присутствия требует, чтобы мы отказались от спекуляций о дискурсивном конструировании наших понятий по тем же причинам, по которым мы должны были отказаться от спекуляций о внедискурсивной реальности. Подрывая эпистемико-герменевтическую интерпретацию общего письма, критика Бэрад, тем не менее, не приближает нас к оправданию грамматологических спекуляций о материи.
Запрет на спекуляции, который, как кажется, вытекает из критики Бэрад, однако, имеет место только в том случае, если мы читаем критику присутствия у Деррида как полную отмену феноменологических или интроспективных «свидетельств». Если бы это было так, то размышление о сознании или пережитом опыте ничего не сказало бы нам о его структуре. Критика Деррида, однако, предполагает, что феноменологическое размышление об опыте говорит нам о многом. Действительно, он утверждает, что опыт имеет структуру следа, основываясь на том, как он дан! Но как Деррида может одновременно опираться на феноменологическое свидетельство и опровергать его? Этот вопрос озадачил ряд наиболее внимательных читателей Деррида.[19] Ответ на него требует признать, что дерридианская критика присутствия влечет за собой крайне ревизионистский подход к свидетельствам и доказательствам. В то время как феноменология и метапознание требуют, чтобы опыт от первого лица предоставлял аподиктические доказательства, Деррида утверждает, что такие доказательства неаподиктичны.
В работе «Аподиктичность отсутствия» Томас Сибом отмечает, что Деррида справедливо критикует раннего Гуссерля за слишком жесткое определение феноменологического свидетельства или данности. Деррида называет этот доказательный идеал идеалом присутствия. Идеальная форма данности (или феноменологического свидетельства) — это присутствующее, само-прозрачное восприятие. Сибом утверждает, однако, что у зрелого Гуссерля было гораздо более гибкое определение аподиктичности, которое легко вмещало в себя те «отсутствия», которые выявил анализ Деррида. Аподиктическое доказательство (или данность) и есть то самое, что раскрывает «в своей собственной глубинной структуре то, о чем идет речь».[20] Так, например, хотя непосредственное прошлое, как «сохраняемое» в настоящем восприятии и конституирующее его, не присутствует в старом, полнокровном смысле, феноменологическое размышление об опыте всё равно раскрывает структуру, о которой идет речь. Деррида называет эту структуру неприсутствия «следом» или différance, но, похоже, выводит ее из тех же доказательных оснований, из которых Гуссерль вывел свой дискурс о сознании внутреннего времени. Действительно, откуда еще, кроме как из структуры сознания внутреннего времени, каким оно предстает перед сознанием, Деррида мог бы его получить? Таким образом, заключает Сибом, критика Деррида гуссерлевского описания доказательств остается феноменологической критикой на феноменологических основаниях.
Прочтение Сибома, однако, упускает важный аспект критики Деррида аподиктичности или феноменологической данности. Деррида утверждает, что, в то время как тщательные феноменологические описания выявляют структуру следа, опыт не раскрывает «в своей собственной глубинной структуре то, о чем идет речь». Рассматриваемая структура не объясняет и не дает отчета о себе, и поэтому опыт не является аподиктическим в феноменологическом смысле. Но если бы это было так, то как Деррида мог бы сказать об опыте, что он имеет (демонстрирует) структуру следа? Ответ, довольно простой, заключается в том, что опыт является неаподиктической формой свидетельства. Опыт обнаруживает структуру (следа), которая сопротивляется рефлексии.
Опыт не демонстрирует ничего подобного (прозрачному) самоотношению, которое сделало бы возможным мета-познание. Сильная доказательная гарантия, которую мы должны были извлечь из размышления над опытом — от формы его «данности», — не получена. Дело в том, что ни трансцендентальная рефлексия, ни феноменологический анализ не могут рассказать нам об априорной или инвариантной структуре опыта, потому что структуры опыта не прозрачны или аподиктичны, в смысле наличия имманентного мерила для их измерения.[21] То есть, даже в случае опыта от первого лица, мы (не всегда) знаем, о чем идет речь.
Аподиктичность опыта предполагает корреляцию субъекта и объекта в настоящем опыте. Феноменология определяет «данность» как эту корреляцию. Однако, согласно Деррида, феноменологическая рефлексия обнаруживает неаподиктичность опыта, или нетождественность субъекта и объекта. Эта нетождественность или некоррелированность, выявленная феноменологически, является основанием для спекуляций о текстуальной структуре сознания.
В работе «Спекулировать — по Фрейду» Деррида обнаруживает в работах Фрейда, особенно в его рассуждениях о влечении к смерти и о его связи с принципом удовольствия, понятие «спекулятивной структуры вообще».[22] «Спекулятивные структуры» относятся к тому, что дает о себе знать или свидетельствует о себе как об избыточном для присутствия. Этот феноменологический избыток в равной степени является нехваткой — как отсутствие прозрачности или смысла. В то время как в критической философии «спекулятивным» называют те утверждения, которые не могут быть обоснованы в возможной форме присутствия, Деррида оставляет этот термин для того, что свидетельствует о себе как об избыточном по отношению к любой возможной форме присутствия.[23] Но что мы должны делать с этими спекулятивными или текстуальными структурами? Если интроспекция и (феноменологическая) рефлексия не дадут нам правильного понимания их конститутивных условий, то какие философские инструменты, если таковые имеются, могут нам в этом помочь?
Философская новизна аргумента Деррида заключается в том, что неспособность философии противостоять этим спекулятивным структурам не связана с тем, что эти структуры действуют на нефеноменальном уровне познания. Дело в том, что феноменологические описания не смогли зацепиться за то, что дано в опыте. Феноменологические описания раскрывают и скрывают текстуальную структуру опыта. Отсюда следует, что анализ текстов и их структуры может рассказать нам кое-что о спекулятивной структуре опыта. И наоборот, в той мере, в какой нефеноменологические описания текстов опираются на предположения о внетекстовой природе сознания, их следует пересмотреть.
Итак, похоже, что мы можем рассуждать о текстуальной природе сознания и опыта только в той мере, в какой сознание раскрывает или показывает свою текстуальную природу. Но в той мере, в какой сознание свидетельствует о своей текстуальной природе, оно теперь предстает как нечто сущностно подобное текстам. Отсюда следует вывод, что сознание текстуально, а значит, мы в каком-то смысле находимся «вне» него, или оно в каком-то смысле находится «вне» себя. Интерпретация, действительно, нередуцируема.
Структура не-коррелятивной данности является для Деррида ключом к осмыслению обобщенной текстуальности. Настойчивое утверждение Деррида о том, что не существует «вне-текста» («outside-the-text»), не является утверждением о неограниченном опосредовании. Текстуальность не говорит, что условия, которые делают мир доступным, делают доступ к миру невозможным. Напротив, текстуальность называет спекулятивную структуру, несводимую к форме присутствия. Тем не менее, если текстуальность в первую очередь описывает нечто «данное» в опыте — пусть и «темном»[24], — какие у нас есть основания (возвращаясь к вопросу Коулбрук) обобщать эту структуру на мирские процессы, которые, очевидно, являются внетекстовыми? Какой резон полагать, что, если опыт явно текстуален по своей структуре, тогда и то, о чем он якобы говорит, также текстуально — даже если мы признаем, что опыт и тексты структурно или содержательно похожи и что у них одни и те же условия? Не является ли это обобщение, от «сознание текстуально» к «всё текстуально», умозрительно говоря, слишком далеким мостом? Такой переход от сознания и опыта к трансцендентному для познания миру является оправданным — а не «ловкостью рук», — если мы понимаем текстуальность как сказанное о свидетельствах и если мы понимаем свидетельства в некорреляционных, некогнитивных терминах.
Если все свидетельства обязательно текстуальны — и если тексты не зависят от сознания, а скорее являются его условиями, — тогда в принципе не существует проблемы описания ни условий знания (они текстуальны), ни объектов знания (тоже текстов). Если деконструктивные термины чаще всего относят к вопросам, связанным с языком, смыслом и опытом, то именно в той мере, в какой они понимаются как феномены. Какой бы модификации феноменологического корреляционизма ни достигла деконструкция, она начинается с допущения эпистемической интерпретации феноменов в феноменологии, где бытие феноменов интерпретируется как возможность идеальной самоочевидности (аподиктичности).
Деконструкция, как я предполагаю, сохраняет феноменологический свидетельский перевод языка бытия, но затем переводит феноменологическое описание свидетельства. Она следует за феноменологией в вынесении за скобки естественного отношения и в сведении объектов к образу и способу их явленности. Однако деконструктивная критика идет дальше, отвергая корреляционистский взгляд на свидетельство. Утверждение о том, что феноменологические данности являются текстуальными, придает им новое, «ультра-трансцендентальное» значение. Это имеет эффект перевода свидетельств «обратно» на язык бытия или онтологии. Тексты не более эпистемичны/идеальны, чем онтологичны/реальны. Таков смысл замены феноменов на текст, расстановку* и архе-письмо.
Если быть предельно ясным, то утверждение о сознании, что оно текстуально, приводит к своего рода кризису модели текстуальности. Если у нас есть спекулятивные свидетельства в пользу того, чтобы считать опыт текстуальным (скажем, структурированным как текст), то в то же время он не может быть ничем похожим на текст — в традиционном понимании, — потому что философские описания традиционно определяют тексты как материальные знаки, лишенные Смысла. Согласно этой модели, тексты означают лишь постольку, поскольку возможна редукция к текстуально трансцендентному Смыслу. Деррида называет такие текстуально трансцендентные семантические элементы «трансцендентальными означаемыми», или тем, что я буду называть в этой книге «Смыслом».[25] Таким образом, чтобы придать какой-либо смысл предлагаемой аналогии или подобию, мы должны сначала сформировать более общую концепцию того, чем является или может быть текст, если данность по сути своей подобна текстам. Более того, хотя мы совершенно свободно можем предположить, что-то, что (ин)формирует сознание и о чем сознание (ин)формирует нас, также текстуально по своей природе, то есть что оно имеет ту же «структуру», что и сознание, наши предположения являются необоснованными — «просто» предположениями, — пока мы не создадим общее представление о тексте. Вопрос об обобщенности текста ожидает описания общего или обобщенного письма.
Тексты в узком смысле слова не являются моделями или схемами для обобщенной текстуальности. Они не могут рассказать нам о внетекстовых вещах и процессах, пока тексты определяются в оппозиции к последним. Мы не знаем, что значит сказать, что что-то текстуально или подобно тексту, пока наше понимание текстов сводит их к производным и вторичным процессам, противопоставленным тем вещам, о которых они говорят. Наше представление о текстах основано на их явленности в строго определенной и специфической форме. Проще говоря, только тексты в узком понимании предстают перед нами как тексты, а всё остальное выглядит или предстает как нечто иное — то, что Деррида называет формой присутствия. Общее письмо должно учитывать общую неявленность (или сокрытие) следа, но также и то, в какой степени явленность текста — особенно в форме графического письма — сбивает с пути интуицию относительно того, о какой модели письма идет речь, когда речь идет об общем письме.
Для Деррида «присутствие», трактуемое как совпадение мысли и бытия, является философской иллюзией и фетишем, не оправданным никакими доказательствами. Поэтому критическая философия в своих собственных терминах никогда не избегала спекуляций. Присутствие всегда уже предполагается как форма опыта и не подвергается сомнению. С другой стороны, любая попытка оспорить ценность присутствия, выйти за пределы опыта, покажется критической философии неприемлемо спекулятивной. Однако если мы будем достаточно внимательны к нашим свидетельствам, к образу и способу, посредством которого мир дан нам, мы обнаружим «спекулятивные» структуры, которые являются для формы присутствия избыточными, превосходящими их. Эти спекулятивные структуры, которые Деррида называет «текст», «след», «расстановка», «архе-письмо», и являются предметом данной книги.
* * *
Если и существует деконструктивный материализм, то имя ему — «спекулятивная грамматология». Почему деконструктивный материализм требует обхода через грамматологию, через науку о письме? Грамматология утверждает, что письмо является абсолютно общим. Это обязывает нас помыслить не только «материальность» архе-письма, но и о текстуальность «материи», где последняя до сих пор всегда обозначала не-текстуальную внеположность в целом. Адекватное описание того, что значит мыслить материальные процессы как текстуальные — какая схема текстуальности или текстовой формы подразумевается, — является центральной интерпретационной задачей любого прочтения «О грамматологии». Таким образом, настоящая книга преследует тройную цель: 1) установить значение общего письма, которое больше не определяется вторичным и производным статусом письма «в узком смысле»; 2) установить основания для обобщенности общего письма; и 3) поспекулировать о материалистических следствиях обобщенного письма.
План этой книги таков. В первой главе я рассматриваю, как деконструкция была прочитана и интерпретирована современными реалистами и материалистами. Я предлагаю описание ряда причин, по которым антиреалистическое и антиматериалистическое прочтение грамматологии казалось столь интуитивно очевидным для читателей Деррида, включая спекулятивных реалистов, которые обычно воспринимали грамматологию как имя для своего рода корреляционистской философской программы, которую необходимо преодолеть. Сопротивляясь этим антиреалистическим прочтениям Деррида и деконструкции, я в равной степени продолжаю и расширяю работу важных теоретиков, работающих сегодня над новыми формами философского материализма, которые не обязательно относят себя к спекулятивным реалистам.
Как и спекулятивные реалисты, новые материалисты, такие как Катрин Малабу, Карен Бэрад и Вики Кирби, критикуют корреляционизм — особенно в форме лингвистической «замкнутости» — с целью вернуть в поле зрения тело, его субстанцию и материю, силы и отношения. Однако, хотя они разделяют со спекулятивными реалистами цель вернуть материю в философский дискурс, который долгое время пренебрегал ею в пользу более привычных вопросов, новые материалисты вкладываются в риторику разрыва с корреляционизмом явно меньше, чем спекулятивные реалисты. Работая с различными материализмами, унаследованными от континентальной традиции, в частности, с конструктивистскими представлениями о теле, новые материалисты радикализируют «критику репрезентационализма», предпринятую континентальной и феминистской философией двадцатого века[26].
«Радикализация» критики, которую предлагают новые материалисты, продемонстрировала бы, что-то переплетение между репрезентацией и реальностью, которую засвидетельствовали теоретики «дискурсивного конструирования», является онтологически первичной и основополагающей. Репрезентации не будут просто действенными, морфогенетическими в случае таких социальных категорий, как гендер; не следует понимать переплетение репрезентации и реальности в эпистемических терминах (как когнитивное «проникновение»). Оно онтологично и всеобъемлюще. Новые материалисты находят в деконструктивном проекте ресурсы для этого критического проекта, но в то же время предполагают, что он не всегда был явным или претворял в жизнь свои глубочайшие идеи. Я предполагаю, что грамматология предлагает объяснение обобщенного переплетения в фигуре архе-письма, которую ищут новые материалисты.
Во второй главе, обращаясь к спекулятивно-реалистической критике корреляционизма, я утверждаю, что архе-письмо и текстуальность лучше всего понимать как критику корреляционизма avant la lettre, и поэтому их можно продуктивно противопоставить критике корреляционизма Квентина Мейясу и его понятию «доисторического» (ancestral). Деррида настаивает на том, что структура текста может быть понята только в контексте радикального отсутствия человеческого. Тексты, утверждает он, остаются структурно читабельными даже в случае радикального отсутствия — смерти — любого и каждого возможного читателя[27].
Читатели Деррида, как я показываю, склонны умалять это утверждение, полагая, будто Деррида имеет в виду, что текст обязательно выходит за пределы контекста своего производства. Правильное прочтение, однако, состоит в том, что тексты выходят за пределы любого и всех возможных читателей: они имеют внекорреляционный статус. Структура текста делает чтение возможным. Означаемый элемент не является трансцендентным тексту, смыслом, соотнесенным с трансцендентальным сознанием. Он встроен и переплетен с означающим.
Критика корреляционизма Мейясу (2008) и значение того, что он называет «доисторическим», проясняет значение «посмертных» текстов Деррида. Доисторические события Мейясу относятся к событиям, которые в принципе невозможно засвидетельствовать. Как и в случае с текстами, чья читабельность переживет любого и всех читателей, доисторическое в силу своей обусловленной позиции не может быть соотнесено с интенциональным сознанием. Однако структура аргумента Мейясу подразумевает не утверждение необходимости некоррелированных событий, а скорее утверждение необходимости некоррелированных свидетельств или свидетельствующих следов. Структура некоррелированных свидетельствующих следов и есть то, что Деррида называет текстуальностью. Таким образом, Деррида не только является антикорреляционистом avant la lettre — его некорреляционный подход к свидетельствам, вероятно, необходим для критики корреляционизма.
В третьей главе я более подробно рассматриваю, каким образом дерридианская критика трансцендентального означаемого и его описание (некорреляционной) текстуальности требуют радикального пересмотра нашего понимания как текстов, так и Смысла. В частности, я рассматриваю проблему того, что значит мыслить чтение иначе, чем как (успешное) сведение к Смыслу — к трансцендентальному означаемому. Если текстуальность подразумевает невозможность сведения к Смыслу, то она также подразумевает редукцию Смысла в таком понимании (как внетекстового, трансцендентального означаемого, соотнесенного с трансцендентальным сознанием).
Описание, направленное на редукцию или устранение Смыслов, как кажется, приводит к абсурду. Этот абсурд, как утверждал Джон Сёрль в своем знаменитом мысленном эксперименте «Китайская комната», распространяется на все описания, которые пытаются дать чисто синтаксическое (то есть текстовое) описание функции языка.[28] Аргумент Сёрля, однако, вызывает сомнения. Устранение внетекстовых смыслов не требует утверждения, что речь от начала и до конца идет об означающих, как он предполагает. Даже если не существует трансцендентальных означаемых, всё равно могут существовать текстуальные означаемые. Текстуальность смысла подразумевает, что различие между означающим и означаемым, без которого невозможна никакая языковая функция, является «внутренним» для структуры текста. Означающее и означаемое переплетены, взаимно (ин)формируют друг друга. Эта паразитарная структура требует радикального пересмотра наших представлений о текстовых объектах в узком смысле, а также о языковых функциях и операциях в целом. Перевод теперь становится привилегированной моделью для осмысления последних.
В заключение я предлагаю описание кросс-модального, перцептивного перевода, чтобы проиллюстрировать это грамматологическое описание текстуального смысла. Если мы серьезно относимся к тому, что означающее и означаемое переплетены и что текстуальность является именем этой переплетенности, то успешное чтение должно включать в себя нечто вроде обратного перевода, или дешифровки. Это, конечно, приведет нас не к внетекстовому смыслу, а к гетерогенному тексту. Чтение означает поиск и восстановление «паразитарного» текста, зашифрованного или записанного в тексте «хозяина».[29]
В четвертой главе я прослеживаю обобщение письма от его узкой концепции как графического, фонетического письма до архе-письма в дерридианском прочтении Соссюра в «О грамматологии». Моя цель в этой главе — уточнить, какую форму или схему влечет за собой общее письмо, — предполагая, что оно влечет за собой нечто иное, чем образ узкого, графического письма, — и почему мы должны помыслить, как утверждает грамматология, что такого рода структура является абсолютно общей.
В главе «Грамматология и лингвистика» Деррида описывает структуру граммы по крайней мере тремя способами: 1) как объект общей науки о письме; 2) как мнемоническую или ретенционную* форму («архе-феномен памяти»); 3) как «расстановку» («становлением-временем пространства и становление-пространством времени»). Каждое из этих описаний важно для утверждения обобщенности, особенно расстановка, поскольку последняя решительно устанавливает логический приоритет следа по отношению к категории опыта. Я считаю, однако, что нам не хватает такого описания, которое могло бы прояснить связь между общим письмом, структурой следа и расстановкой.
Как известно, Деррида ставит под вопрос соссюровское исключение письма из семиотики и общей лингвистики. Однако, что менее часто отмечается, он подтверждает неразрывность означающего и означаемого, которая, по мнению Соссюра, является отличительной чертой знаковой формы. Знаковая форма радикально конституирует как звук, так и мысль, и подразумевает изначальное сохранение звука и мысли в единстве (артикулированного) phoné. Однако Деррида утверждает, что эта ретенционная структура подрывает трансцендентальный подход Соссюра к знаку и его функции. Ретенционная структура не может быть понята в терминах опыта. Скорее, опыт должен быть понят в терминах движения ретенции, которое является его ультра-трансцендентальным условием. Архе-письмо, таким образом, будет отличаться как от модели письма, которую исключает Соссюр, так и от (трансцендентального) описания языкового знака, которое он производит. Расстановка проясняет «дистанцированность» архе-письма от трансцендентальной семиотики Соссюра.
Расстановка позволяет Деррида отличить пространство-время следа от пространства-времени сознания внутреннего времени, и устанавливает, что первое обосновывает второе. Пространство-время следа не является сообщником корреляционного или феноменологического сознания. Оно позволяет нам увидеть, что феномены имеют не корреляционную структуру, как утверждает феноменология, а текстуальную, как утверждает грамматология. Как и все текстуальные элементы, феномены или эмпирические данности не могут быть определены в терминах сознания или пространства-времени сознания («внутреннего времени сознания»), но скорее в терминах пространства-времени следа (то, что Бэрад называет пространственно-временной материализацией [space-time mattering]). Расстановка позволяет Деррида «деконструировать» корреляционизм изнутри, определяя ультра-трансцендентальный статус следа. «Пространство-время следа» не более идеально, чем реально; оно обусловливает феномены с обеих сторон и делает их переплетение мыслимым.
Смысл архе-письма, как подчеркивает Деррида, не поддается прочтению вне «трансцендентального текста». Вырванный из этого контекста, он получит наивное реалистическое толкование, несоизмеримое с расстановкой. Таким образом, здесь, в главе «О грамматологии», посвященной Соссюру, Деррида совершает то, что в других местах он называет переписыванием трансцендентальной эстетики. Пространство и время не являются трансцендентальными формами опыта, но описывают конститутивное «движение» ультра-трансцендентального следа. Пространственно-временная материализация как всеобщая архивизация и мемориализация предполагает ретенцию различия в гетерогенных различиях.
В пятой и последней главе я рассматриваю существенную связь между обобщенным письмом и пластичностью как модифицируемостью и ретенцией. След, как я утверждала в предыдущей главе, определяется безначальными и бесконечными ретенцией и модификацией. Спекулятивная грамматология состоит в обобщении памяти или мнемонической формы. Материальность следа, таким образом, относится не к какому-либо субстрату (графическому следу), а к существенной модифицируемости текстуальных структур. Модифицируемые тексты удерживают гетерогенные тексты. Чтобы продемонстрировать продуктивность и актуальность такого подхода к архе-письму, я рассматриваю несколько грамматологических описаний органических и материальных процессов (включая кольца деревьев, органические записывающие устройства в целом и неврологический след памяти).
Во второй части главы я рассматриваю степень, в которой пластичность может обозначить спекулятивные границы грамматологии. Хотя пластичность является условием мнемонической формы, она не может быть исключительно мнемонической. Катрин Малабу утверждает, что мнемоническая «продуктивность» следа заслоняет разрушительную силу пластичности. Хотя критика Малабу направлена на неврологические описания «неграфического» следа, ее сила в равной степени относится и к грамматологическому описанию архе-письма, которое я реконструировала. Формирование формы происходит не только путем ретенции, но и благодаря тому, что Малабу назвала «скульптурной» силой смерти. Указывает ли деструктивная пластичность за пределы спекулятивной грамматологии? Или же она, скорее, указывает на необходимость модификации грамматологического описания архе-письма? Ответ, как я полагаю, зависит от того, можно ли мыслить деструктивную пластичность в терминах изначальной модифицируемости следа. В этом контексте внимание к описаниям биологических процессов, включающих дегенеративную регенерацию — таких как синаптический прунинг, аутофагия и апоптоз — может оказаться незаменимым.
В книге «Архивная лихорадка» (1996) Деррида загадочно пишет об анархическом, «архивиолитическом» принципе, который работает против ретенции и меморализации.[30] Этот анархический принцип, однако, не будет радикальной противоположностью архивизации, как стремление к смерти является радикальной противоположностью жизни в спекуляциях Фрейда. Эти два принципа изначально переплетены или связаны вместе — письмо с выписыванием, биография с некрографией, память с забвением. Это переплетение, заключаю я, является горизонтом спекулятивной грамматологии.
1. Материализм и реализм в современной континентальной философии
Язык получил слишком много власти. Лингвистический поворот, семиотический поворот, интерпретационный поворот, культурный поворот: кажется, что на каждом шагу каждая «вещь» — даже материальность — превращается в вопрос языка или какой-то формы культурной репрезентации… Язык имеет значение (matters). Дискурс имеет значение. Культура имеет значение. Забавно, что единственная вещь, которая, как кажется, больше не имеет значения (matter), — это материя (matter)».
Карен Бэрад «Встреча со Вселенной на полпути»
Анти (анти)реализм и новый материализм
Вот уже какое-то время влиятельные фигуры в современной континентальной философии призывают к материалистическому и реалистическому повороту, решительному отказу от настойчивого антиреализма, который, как утверждает Ли Бравер, характеризует развитие континентальной философии от Канта до Деррида. Континентальный антиреализм ставит акцент на деятельности познающего субъекта и ее роли в формировании или конституировании знания о внешнем мире.[31] Мир дан через нередуцируемую деятельность — даже когда эта деятельность характеризуется как самый «пассивный» вид «синтеза». Возможно, что при переходе от Канта к постструктурализму характерная деятельность познающего была расширена и перенесена на интерсубъективные языковые или дискурсивные структуры. Однако перемещение структурирующей деятельности не оставляет места для размышлений об автономии того, что раскрывается. Как утверждает Карен Бэрад, «материя» и «мир» определяются исключительно в терминах возможности когнитивного доступа.[32] Мир, к которому обращена наша когнитивная и знаковая деятельность, ограничен тем, что мы, познающие, делаем из него. Более того, у нас нет возможности учесть или признать какую-либо деятельность или агентность со стороны того, что раскрывается.
Гаятри Спивак иллюстрирует тот вид антиреализма, о котором говорит Бэрад, в следующей цитате: «Если думать о теле как таковом, то не существует возможных очертаний тела как такового. Есть мысли о систематичности тела, есть ценностные кодировки тела. Тело как таковое нельзя мыслить, и я, конечно, не могу к нему приблизиться».[33] Согласно Спивак, позиционирование тела как такового отрицает конститутивную деятельность познающего. Напротив, тело, к которому можно подойти, к которому есть доступ, опосредовано «мышлением», которое кодирует и систематизирует его, «собирая его воедино», создавая контур.
Если прислушаться к предостережению Спивак, то это накладывает значительные — и, возможно, неприемлемые — ограничения на то, как теоретики могут взаимодействовать с научными дискурсами и практикой. Ее антиреализм подразумевает критику любых утверждений, которые делают заявления о теле и телесных процессах, а не утверждения о том, как тело «познается». Например, делая заявления, характеризующие мозаичную структуру клеток, биологи ссылаются на морфогенетические процессы, имманентные материи, а не на разум, познающих или дискурсы. Утверждения о мозаичных узорах не эквивалентны утверждениям о дискурсивном производстве «контуров», которые создают мозаичную структуру клетки так, будто она просто есть. Возможно, как предполагает Спивак, реализм ученых безнадежно наивен. Тем не менее, кажется, что утверждения о теле требуют отказа от фрейминга Спивак. (Явленное) тело не может быть исключительно результатом действий, направленных на его постижение, даже если без этих действий мы не можем представить себе его явленность.
Оспаривание антиреализма не влечет за собой оспаривание «дискурсивной конструкции», если последняя понимается как материальный эффект репрезентативных практик. Несомненно, как показывает Джудит Батлер, можно рассказать примечательную по своей значимости историю о том, как интерпеллятивные процессы («это девочка») производят некоторые из тех самых отличительных черт, которые они, как кажется, только называют. Такой тип денатурализирующего описания не обязательно будет поддерживать антиреализм а-ля Спивак. Дисциплинарные практики, диетические режимы и дифференциация социального статуса в целом имеют морфогенетические эффекты, совершенно независимые от трансцендентальных условий явленности тела. Однако антиреализм не может последовательно объяснить эти эффекты.
Такие формы антиреализма, утверждает Мануэль Деланда, должны постоянно удивляться абсолютно неудивительному наблюдению, что «материя обладает собственными морфогенетическими способностями и не нуждается в том, чтобы ей приказывали порождать форму»[34]. Соглашаясь с Деландой, Катрин Малабу утверждает, что любой философский материализм, заслуживающий этого названия, должен отвергнуть то, на чем настаивает Спивак в своем описании тела — а именно, принцип, согласно которому телесную форму следует понимать в терминах деятельности трансцендентального субъекта или «трансцендентальной инстанции».[35] Рассматривать форму как требующую трансцендентального объяснения предполагает, что материя не имеет возможности описать или учесть свою явленность.
Новый или нео-материализм, как его называет Деланда, теоретически можно отличить по его утверждениям, согласно которым различные формы континентального антиреализма лишили материю жизни, жизненной силы или автономной деятельности. Это, пожалуй, наиболее очевидно в кажущемся нейтральным решении вынести за скобки вопрос об онтологическом статусе того, что явлено или материализовано для познающего, чтобы сосредоточиться на вопросах, связанных с образом и способом явленности объекта, условиями его интеллигибельности или его статусом в дискурсе. Однако это выведение за скобки не может оставаться полностью нейтральным, поскольку первое, что оно раскрывает, — это диссимулятивный характер объективных видимостей. Вынесение за скобки онтологических «претензий», которые объекты предъявляют своей явленностью, превращает объект в объект «интенциональный» — объект, соотнесенный с сознанием.
Как утверждал Гуссерль, «естественное отношение» — спонтанно и наивно реалистическое — характерным образом стирает деятельность трансцендентального субъекта в позиционировании объекта. Это феноменологический признак материи — образ и способ ее материализации — представать в качестве внедискурсивной (предшествующей, изначальной и безразличной к своей материализации). В то же время традиционные феноменологические описания материализации, как кажется, оставляют место для реализма в той мере, в какой они делают явными слои перцептивных свидетельств, которые порождают реалистические убеждения об объектах. Правда, феноменологический метод запрещает выходить за пределы свидетельств о явленности, чтобы вынести суждение о его существовании; вместе с тем феноменолог может утверждать, что свидетельства с такими суждениями совместимы.
Однако на основании тех же феноменологических данных антиреалисты, включая Батлер, утверждают, что материя производится или конструируется как радикальная внеположность.[36] Конечно, материя материализуется так, будто она внедискурсивна, однако диссимулятивная «риторика» восприятия должна быть подвергнута тщательной критике. Материя является какой угодно, только не внедискурсивной; она является следствием дискурсивного процесса, эффект которого состоит в том, чтобы произвести саму границу между дискурсом и его другими.
Феноменология и связанные с ней дискурсы, похоже, не в состоянии адекватно справиться с «парадоксальным фактом», по выражению Роя Баскара, что интранзитивный объект научных утверждений «всегда уже» транзитивен.[37] Наивный реализм ученого сводит объект к его интранзитивным измерениям, в то время как антиреалист понимает тот же объект как сущностно транзитивный. Попытки феноменологов объединить обе стороны — учет интранзитивного в терминах транзитивного — недостаточны. Они лишь откладывают на неопределенное время проблему, которую Баскар определяет как двусмысленность «объекта».
Парадокс «нетранзитивности» Баскара коренится в двусмысленном значении «объекта познания». С одной стороны, в научном исследовании объект познания обычно определяется как независимый от человеческой деятельности: «удельный вес ртути, процесс электролиза, механизм распространения света». С другой стороны, объект познания производится человеческой (социальной) деятельностью и «независим от этой деятельности не более, чем материальный аппарат», созданный для измерения «удельного веса ртути».[38] Если наивный реалист ухватился за один рог, то антиреалист — за другой. Феноменологи, со своей стороны, пытаются разрешить эту дилемму, утверждая, что рассматриваемое различие — между транзитивными и нетранзитивными объектами — является внутренним для восприятия и, следовательно, феноменологически изначальным и нередуцируемым.[39] Феноменолог может предположить, что это различие отражает в восприятии изначальное соотношение между субъектом и миром.[40] Но поскольку это различие появляется по эту сторону транзитивности, оно в равной степени может быть объяснено с помощью батлеровского описания дискурсивного конструирования. Баскар, напротив, призывает к «критическому реализму» — или антиреализму, — который разрешит этот парадокс.
Новые материалисты нацелены именно на такую «критику критики», о которой говорит Баскар. Бэрад и Кирби, например, утверждают, что описания дискурсивного конструирования в целом страдают неполной критики того, что Бэрад называет «репрезентационизмом». Под последним Бэрад подразумевает метафизические допущения, лежащие в основе оппозиции репрезентации и реальности. Адекватная критика не объясняет дискурсивное конструирование этой оппозиции и не демонстрирует, как в исключительных случаях репрезентации могут порождать реальность, которую они описывают: она «деконструирует» эту оппозицию.[41]
Бэрад утверждает, что полная и всесторонняя критика репрезентационизма позволит обобщить интра-деятельность репрезентации и материальности за пределами человека. Отношение является интра-деятельностным (а не интер-деятельностным), потому что оно конститутивно при производстве своих релятов как различий. Таким образом, по мнению Бэрад, то, что феминистская теория описывала под названием «конструирование», с частичной точки зрения, является общей материальной переплетенностью репрезентации и реальности. Она выступает за реляционную онтологию, которая, по ее мнению, перекликается с дерридианским différance.[42] Различия, мыслимые в терминах радикальной оппозиции (такие как репрезентация и реальность), вместо этого должны мыслиться в терминах обобщенной интра-деятельности или переплетенности. Интра-деятельностное отношение производит свои реляты как (переплетенные) различия.
По мнению Бэрад, вопреки антиреалистическим представлениям, материальные процессы участвуют в своей собственной интеллигибельности. Феномены квантовой физики (например, эксперименты со щелью) могут быть прочитаны как свидетельства тех видов отношений, которые Деррида называет по-разному: след, différance, письмо и расстановка. Différance относится к изначальной онтологической переплетенности, которая, по Бэрад, порождает продолжающуюся дифференциацию мира.
Некоторые новые материалисты описали свои попытки схематизировать переплетения природы/культуры, разума/материи, репрезентации/реальности в деконструктивных терминах. Несмотря на распространенное мнение о том, что аргументы Деррида равносильны антиреалистической позиции, приписываемой Батлер и Спивак выше, важные черты дерридианской критики метафизических оппозиций были восприняты новыми материалистами как призыв к описанию и схематизации материи (и ее связей) в терминах форм неприсутствия. Материя прослежена (trased), дифференцирована, гетерогенна и переплетена. Эти материалистические проекты начинаются с критики идеи о том, что мы заточены в дискурсивной сети, за пределы которой мы выйти не можем, а это фактически перечеркивает материю, отличную от культуры.
Элизабет Уилсон утверждает, что феминистские описания культуры нередко исходят из устаревших представлений о науке как о всегда и везде навязывающей редукционистскую программу, которая исключает и минимизирует роль культуры.[43] Это часто подкрепляется самими научными исследованиями. Например, она указывает на утверждение Саймона ле Вэя, что «гомосексуальная и гетеросексуальная идентичности имеют нейробиологический субстрат». Однако такой взгляд проблематичен, поскольку он «представляет нейрокогнитивную материю как самоприсутствующую и изначальную» и исключает возможность «нейрокогнитивной мобильности» в ответ на культурные процессы и в связи с ними. И всё же, как она показывает, такие взгляды могут и должны подвергаться критике на тех самых основаниях, на которых они выдвигаются.
Уилсон утверждает, что коннекционистские описания нейронной активности представляют собой критику самоприсутствующего, изначального, локализуемого следа психической памяти. Представления «хранятся в пространственных и временных различиях между весами связей… так что происходит двойное перемещение: от местоположения единицы или хранилища к соединению, а затем снова от соединения к пространствам между соединениями».[44] Структура этого материального следа «нигде не локализуется» и не присутствует. Уилсон связывает структуру этого материального следа с дерридианским и фрейдовским описанием следа. Если именно через Деррида и Фрейда мы можем сформулировать когнитивный след, который не является присутствующим, фиксированным и локализуемым психическим образованием, то именно в связях мы видим воплощение этих принципов в форме, согласованной с научной психологией».[45] Наша политика и наша критическая теория требуют понимания сложных отношений культуры и природы, утверждает Уилсон. Но научные исследования часто препятствуют такому пониманию, поскольку задействуют редукционистские и детерминистские модели социальной идентичности. Однако критический аппарат феминистской теории не в состоянии диагностировать проблемы, связанные с этими описаниями, из-за своего сопротивления взаимодействию с научным дискурсом, несмотря на возможность выработки схем, которые выявляют коимпликацию природы и культуры.
Попытки онтологизировать дерридианский след, как отмечает Клэр Коулбрук, становятся всё более распространенными. Однако, по ее мнению, такие объяснения ставят перед нами особые проблемы интерпретации. Для иллюстрации этой проблемы она рассматривает ряд «материалистических реконструкций деконструкции», которые используют подходы, схожие с подходами Бэрад и Уилсон. Например, Кэри Вулф предполагает, что «теория систем второго порядка» дает повод для материалистической «реконструкции деконструкции». Он берет понятие письма Деррида в качестве модели фундаментальной динамики, лежащей в основе смысла и разума (mind), и связывает ее с биологическими, социальными и историческими условиями возникновения.[46] Как пишет Коулбрук,
Кэри Вулф утверждает, что Деррида не только совместим с теоретиками систем, такими как Луман, Матурана и Варела; он настаивает на том, что дерридианская версия рассмотрения мира как системы отношений, а не изначального присутствия, необходима, чтобы теория систем не скатилась в еще один картезианский дуализм… Что отличает подход Вулфа к Деррида, так это его согласование деконструкции с общей тенденцией рассматривать всё живое в терминах единого процесса эволюции. Языковые системы ничем не отличаются от других систем: это всё аспекты коэволюционирующей и обязательно децентрированной жизни, в которой органическое и неорганическое переплетаются: «психические системы и социальные системы коэволюционировали, каждая из них служит средой для другой».[47]
Здесь мы видим, как Вулф с одобрением говорит о присвоении дерридианских схем для разработки системно-теоретических описаний жизни и материальных процессов. Независимо от того, одобрил бы Деррида такого рода «реконструкции» или нет, они, по мнению Вулфа, гарантируют, что теория систем не будет вновь обременена традиционными метафизическими дуализмами, поскольку она ищет общие принципы всех сложных систем (будь то биологические, цифровые, языковые или культурные).
Коулбрук утверждает, однако, что такое материалистическое и натуралистическое «присвоение» деконструкции происходит слишком быстро. Она не отрицает возможность формулирования деконструктивного материализма, но требует такого подхода к его формулированию, который бы серьезно относился к материальности текстов Деррида. Если мы хотим предпринять материалистическую «реконструкцию деконструкции», то такая реконструкция не может происходить просто путем дополнения деконструкции (или грамматологии) теоретическими рамками по своему выбору: теорией систем, квантовой теорией или нейронаучными представлениями о пластичности. Если та или иная теоретическая основа должна дополнить грамматологию, чтобы последняя стала материалистической, то прежде следует выявить ее изначальные ограничения. С другой стороны, если грамматология всегда подразумевала текстуальность материи, то необходимо сначала прояснить значение общей текстуальности. Конечно, утверждение текстуальности материи не оставит нетронутым значение таких понятий, как «материя» или «природа». Напротив, осмысление материи и природы в терминах письма влечет за собой «радикальное разрушение фигур и смыслов природы».[48] Из этого следует, что теоретические дополнения, о которых идет речь, будут важны для деконструктивного материализма в той мере, в какой они также участвуют в такой радикальной деструкции.
По мнению Коулбрук, эти материалистические реконструкции правильно понимают, что неверно думать, будто Деррида утверждает, что «мы не знаем материю как она есть сама по себе, потому что нам дана материя только через некоторую опосредующую систему (через понятия, эмпирические устойчивости или язык)».[49] Скорее, мы не знаем материю, потому что
материя «сама по себе» не есть сама по себе. Материя дифференциальна, а не субстанциальна, это не просто то, что может быть репрезентировано дифференциально (во времени и пространстве), но и «является» дифференциальным. То, что мы переживаем как время и пространство, имеет ту форму, которую оно имеет, потому что существуют материальные силы, которые нечто подобное делают для субъекта и его синтезов возможным.[50]
В чем они не дотягивают, так это в определении того, как мы можем перейти от рассуждений о материальности следа к утверждениям о текстуальности материи. В итоге, я думаю, что новые материалистические подходы, включая подходы Бэрад, Уилсон и Вулфа, совместимы с идеей Коулбрук о материи как дифференциальной. Однако, на мой взгляд, она справедливо настаивает на необходимости сомнений, прежде чем приравнивать дерридианский след к явлениям дифракции в квантовой физике, материальному следу в коннекционизме или différance в теории эволюционных систем.
Если такие теоретики, как Кирби, Бэрад и Уилсон, по-разному указывают на différance Деррида как на модель тех отношений, которые, по их мнению, должны обосновать новый или возрожденный материализм, и видят в его критике метафизики философское понимание коннекционистских моделей (нейронов) и квантовой запутанности, то этого достаточно, чтобы побудить нас вернуться к вопросу об общем письме в работах Деррида. Если бурно развивающееся спекулятивное присвоение следа в областях за пределами языка и означивания, которое мы наблюдаем среди новых материалистов, оправдано грамматологией, тогда вообще нет необходимости говорить о присвоении. Грамматология всё это время уже была бы спекулятивной.
Если я сформулировала проекты новых материалистов в терминах радикальной критики репрезентационизма и дискурсивной замкнутости, то эти вопросы очень близки к критике корреляционизма, которая обрамляет проект спекулятивного реализма. Корреляционизм, который, по мнению спекулятивного реализма, объединяет всю посткантианскую философию, утверждает, что «мир» всегда уже является коррелятом мысли. Если я и провела различие между новыми материалистами и спекулятивными реалистами, то прежде всего на основании их отличительных отношений с постструктуралистской и деконструктивной философией. В то время как новые материалисты стремятся расширить и радикализировать идеи последних, спекулятивные реалисты утверждают, что они оба являются примером корреляционизма, который необходимо преодолеть.
А теперь, прежде чем вернуться к проблеме формулирования проекта деконструктивного материализма, я обращусь к спекулятивным реалистам и, в частности, к проблеме корреляционизма. Как я утверждаю, мы сможем лучше понять стратегию Деррида в грамматологии и ее материалистические последствия, если мы также поймем грамматологию как отличительную стратегию для преодоления проблемы корреляционизма.
Спекулятивный реализм
Во вступительном эссе к книге «Спекулятивный поворот» (2011) философы Леви Брайант, Ник Срничек и Грэм Харман утверждают, что, как бы ни выглядела континентальная мысль, постепенно разрушающая идею дающего форму, создающего мир или раскрывающего мир трансцендентального субъекта, ее критики восстанавливают и реабилитируют этот же субъект под видом языка, дискурса или структуры. Последние сохраняют все философские функции «самозамкнутого» картезианского субъекта, который они, по-видимому, рассеивают или «расширяют». Важно, что реальность сохраняет свое значение «коррелята человеческой мысли», даже когда эти критики оспаривают значение «человека» и «мысли»:
В континентальной философии уже давно принято фокусироваться на дискурсе, тексте, культуре, сознании, власти или идеях как на том, что конституирует реальность. Несмотря на превозносимый антигуманизм многих мыслителей, причисляемых к этим направлениям, то, что они дают нам, это не столько критика места человечества в мире, сколько менее огульная критика самозамкнутого картезианского субъекта. В центре этих работ остается человек, а реальность предстает в философии исключительно как коррелят человеческой мысли. В этом отношении феноменология, структурализм, постструктурализм, деконструкция и постмодернизм стали прекрасными примерами антиреалистического направления в континентальной философии. Не умаляя значительного вклада этих философий, скажем, что в этих тенденциях явно что-то не так… Опасность заключается в том, что доминирующее антиреалистическое направление континентальной философии не только достигло точки убывающей отдачи, но и активно ограничивает возможности философии в наше время.[51]
Согласно Брайанту и др., смещение деятельности сознания от первого лица (Декарт и Гуссерль) или трансцендентальных структур (Кант) переносит деятельность трансцендентального субъекта на текстуальные или дискурсивные структуры. Поскольку последние обозначают условия возможности мысли и ее отношения к объекту, мысль остается одновременно отправной точкой и критическим пределом философского исследования.
В отличие от этого, «спекулятивный поворот» обещает завершить критику картезианства, к которой стремились континентальные мыслители, но которой они не смогли достичь из-за почтения к кантовской критической традиции. Спекулятивный реализм отвергает центральное место «герменевтических» вопросов в антиреалистической континентальной философии двадцатого века. Философия больше не будет «одержима критикой письменных текстов», потому что она больше не будет склонна относиться к вещам этого мира так, будто они представляют собой множество текстов, которые нужно интерпретировать. Вместо этого философы будут озабочены разработкой «позитивной онтологии», которая, как пишет Харман, определит «основные структурные особенности, общие для всех объектов» и позволит нам составить отчет об отношениях между объектами, включая те виды отношений, которые делают возможными отличительные формы человеческого познания[52].
Как считают Брайант, Срничек и Харман, у выдающихся континентальных критиков картезианства и трансцендентальной субъективности двадцатого века была ложная мотивация. Стремясь развенчать идею аисторического, «самоприсутствующего» субъекта, направляющего и управляющего своей собственной мироустроительной деятельностью, такие мыслители, как Фуко и Деррида, стремились освободить субъект от его «картезианской замкнутости» и продемонстрировать, что субъект конституируется и обуславливается мирскими, безличными/интерсубъективными процессами, которыми он не управляет и не контролирует. Эта критика, однако, не смогла освободить нас от более общей проблемы конституирования мира, которая требует осмысления мира как субъективного коррелята. Это представление о том, что конституирование и его конечный продукт, коррелят, являются объяснением философии, выступает в качестве неявного организующего допущения всей современной философии.
Квентин Мейясу в книге «После конечности» определяет это организующее предположение как тезис корреляционизма. Корреляционистский тезис — это вера в то, что «мы всегда имеем доступ только к корреляции между мышлением и бытием, и никогда ни один из этих терминов не рассматривается отдельно от другого».[53] Для Мейясу признаком любой корреляционистской философии является критика наивного реализма перцептивного опыта, который представляет объекты восприятия как просто существующие вне и независимо от любой перцептивной деятельности. Критика того, что Гуссерль называл «естественной установкой», утверждает, что последняя принимает за исходное и независимое то, что неразрывно является следствием определенного вида вовлечения или отношения. Корреляционист говорит: хотя, возможно, верно, что, воспринимая, мы чувствуем себя непосредственно связанными с миром, критическая рефлексия показывает, что это убеждение наивно и не может быть оправдано; оно формируется путем «забвения» или стирания конституирующей деятельности, которая делает возможным появление объекта[54].
Важно отметить, что если Мейясу утверждает, что признаком корреляционизма является его критика наивного реализма, то не все корреляционистские философии будут отстаивать антиреализм, то есть идею о том, что ссылки на объективную реальность являются бессмыслицей. Действительно, многие современные критики наивного реализма — будь то в аналитической или континентальной традиции — направлены на оправдание интуиции наивного реалиста. Однако Мейясу утверждает, что корреляционизм никогда не сможет быть совместим с приемлемым научным реализмом, то есть с такой реалистической системой, которая сохранила бы смысл научных утверждений. Мы вернемся к этим вопросам ниже и в следующей главе. Пока же я хочу подчеркнуть лишь то, что в общем случае признаком корреляционизма является не антиреализм как таковой, а скорее непреодолимость коррелята.
Аргумент Мейясу направлен на развенчание кажущейся совместимости корреляционизма с научными утверждениями. Поскольку корреляционисты не могут представить себе мир, независимый от раскрывающей связи — мир, радикально оторванный от раскрывающих его структур, не может быть мыслим, — они не могут найти никакого смысла в научных утверждениях, ссылающихся на мир, логически предшествующий возможности какой-либо корреляции. «Доисторические» события — к которым можно также добавить радикально посмертные события — делают явным абсурдность корреляционизма и заостряют философский выбор, который необходимо сделать: либо мы выбираем корреляционизм, либо мы выбираем науку.
Важно отметить, что Мейясу говорит не о том, что корреляционизм не может учесть и объяснить события, произошедшие без свидетелей. Напротив, он настаивает на том, что манера корреляционизма обращаться с не имевшим свидетельств убедительна, и, более того, именно такая убедительность дает ему реалистические основания. Корреляционизм может относиться к заявлениям о лишенных свидетелей событиях контрфактически, как к событиям, которые были бы даны или засвидетельствованы определенным образом, если бы свидетель был. Однако, по мнению Мейясу, корреляционист не может представить себе мир, который в принципе находится вне условий его данности в свидетельстве. Именно такие некоррелированные объекты, события и явления немыслимы для корреляциониста. Однако если бы это было так, мы не смогли бы ничего сказать о большей части истории Земли.
Спекулятивные реалисты, таким образом, не видят причин выбирать между корреляционизмами, совместимыми с реализмом, и теми, которые явно антиреалистичны. Действительно, они утверждают, что философы атаковали понятие данности как слишком привязанное к субъективной перспективе первого лица только для того, чтобы погрязнуть в другом наборе проблем «доступа», которые «не только достигли точки убывающей отдачи, но и… активно ограничивают возможности философии в наше время».[55] Корреляционизм исходит из задачи оправдать научный реализм и заходит в тупик антиреалистических, постструктуралистских философий.
Дерридианская критика корреляционизма
Как мы видели в предыдущих разделах этой главы, когда философы отвергали формы корреляционизма, совместимые с реализмом, это часто делалось в интересах отрицания (само)очевидной характера данности: то есть ее эпистемического статуса. То, что дано, дано не как «сама вещь», а как «знак», и поэтому подвержено всей герменевтической неопределенности и нестабильности текста. На самом деле, существует две основные версии этой критики данности. Первая версия утверждает, что данность не может быть самоочевидной, не может свидетельствовать о самой себе (self-evident), поскольку она обязательно структурирована как знак, а, как утверждал Чарльз Пирс, ни один знак не может быть само-интерпретируемым. Вторая версия критики утверждает, что данность не может быть самоочевидной, потому что она всегда уже структурирована посредством (языковых) знаков.
Обе версии критики ставят под сомнение эпистемический статус данности, но по-разному. Первая утверждает, что всё, что может играть обосновывающую эпистемическую роль, отведенную данности, не может быть данностью (простой, самоочевидной, не-инференциальной). Или, в дерридианских терминах, условия возможности данности являются условиями ее невозможности. Второе указывает на то, что языковые, понятийные или культурные категории являются конститутивными для всего, что мы можем принять за основание наших убеждений. Данности — это скорее эффекты (языка), чем лингвистически выразимые основания для веры — эффекты, которые маскируются под основания. В эпистемическом плане попытки понять отношения между нашими представлениями о мире и миром, в который эти представления метят, расскажут нам о дискурсивной деятельности, порождающей эти идеи и представления.
Обе версии критики данности подрывают аргументы в пользу совместимости корреляционизма с наивным реализмом. Однако ни одна из них критикой корреляционизма не является. Действительно, критика данности, похоже, заменяет идею о непреодолимой корреляции разума и мира идеей о том, что мир предстает сначала наивно как мир, затем как (сохраняющий реализм) коррелят и, наконец, как диссимулятивный эффект дискурсивной или означающей деятельности.
Дерридианскую деконструкцию обычно отождествляют с одной из этих критик данности или даже с обеими. Чаще всего интерпретаторы считают само собой разумеющимся, что критика Деррида трансцендентального означаемого требует переосмысления данности как «внутренней» для языка (или текстуальности). Однако, как я уже начала показывать, дерридианская критика данности — его критика присутствия и трансцендентального означаемого — осуществляется не во имя оправдания антиреализма, а во имя критики корреляционизма. В этом смысле деконструктивная критика не является безрезультатным тупиком корреляционизма, как его диагностировал спекулятивный реализм.
Дерридианская критика метафизики присутствия — это не критика идеи самоочевидности во имя неустранимой опосредованности. Утверждение обобщенной текстуальности не превращает мир, коррелятивно раскрытый, в книгу. Скорее, как я буду утверждать в последующих главах, критика метафизики присутствия должна быть прочитана как критика самой идеи коррелята сознания и мира, критика avant la lettre того, что спекулятивный реализм называет корреляционизмом. Перечитывая раннего Деррида — особенно «О грамматологии» — как критику корреляционизма, мы изменим наше понимание его задач и мотивов и одновременно разрешим проблемы интерпретации, которые долгое время волновали его читателей. Смысл текстуальности и письма, а также обоснование утверждения Деррида о том, что письмо является абсолютно общим, просто невозможно понять вне рамок его критики метафизики присутствия/корреляционизма.
Философские понятия объекта и формы, утверждает Деррида, неотделимы от формы присутствия (или корреляционизма). Если, как утверждал Гуссерль, пережитый опыт вводит нас в контакт с самими вещами (а внутренними репрезентациями или «чучелами»), это может происходить только благодаря параллелизму, тождеству-в-различии, формы опыта и формы переживаемого объекта.[56] Раскрытый объект является тем же (но другим), что и его явленность, идентичным, но абсолютно другим. Переформулируя оговоренный Гуссерлем параллелизм, Деррида пишет:
Форма — это само присутствие. Формальность — это присутствие любого аспекта вещи, который представляет себя, позволяет себя видеть, дает себя мыслить. Эта метафизическая мысль — и, следовательно, феноменология — есть мысль о Бытии как форме.[57]
Философское понятие формы, формы данности как данности объекта, предполагает, что материализация материи как смысла или интеллигибельности идеально транслирует или выражает сущность мирского объекта. Попытки критики или развенчания данности (как самоочевидности) ограничены в той мере, в какой они сохраняют, как утверждает Деррида, то же самое понятие формы как присутствия (как смысла, объективности, отношения к субъекту). Для Деррида, напротив, критика присутствия (или критика корреляционизма) должна сопровождаться радикальной критикой философских концепций формы.
Если я права в том, что дерридианскую деконструкцию лучше всего понимать как полный отказ от корреляционизма, важно отметить, что эта критика идет не путем трансформации данности (изначальной самопрезентации объекта в непосредственности субъективного опыта) в репрезентацию («внутреннее чучело» якобы внешней вещи). И снова речь идет не о том, чтобы поставить под сомнение гарантию реализма, которую дает данность. Скорее, позиционируя себя как критический феноменолог — но всё-таки феноменолог — Деррида рассматривает, что именно структура данности открывает о себе, о чем она свидетельствует как таковая.
Совершенно верно, что объекты явлены перцептивно, но феноменологи не должны быть так впечатлены этой идеей явленности, как это обычно у них происходит. В своем увлечении способом данности феноменолог ведет себя подобно потенциальному читателю, бесконечно очарованному каллиграфией текста. Предполагается, что феноменолог стремится к точному описанию структур сознания, которые производят смысл во всех его формах. Если Деррида утверждает, что феноменологу лучше обратить внимание на структуру текстов и знаков, то это происходит не несмотря на, а потому, что структура, о которой идет речь, не соответствует никакой явленности. Тексты раскрывают структуры, которые ищет феноменолог, лучше, чем сам феноменолог. Например, анализ опыта «внутреннего сознания времени» должен привести нас к отказу от любого описания времени в терминах текущего-настоящего. Опыт времени, как показал сам Гуссерль, имеет явную структуру следа, ретенции и протенции. Таким образом, оказывается, что «сейчас», сама форма «коррелята», одновременно избыточна и недостаточна в отношении присутствия, она пронизана отсутствием. Дальнейший вопрос должен был бы звучать так: что может сказать нам эта структура следа или время как изначальное переписывание прошлого? В каком смысле опыт — всегда différance?
В минимальной степени, как утверждает Деррида, структура опыта свидетельствует о себе как об «расставленная». «Внешнее» материальности, пространственности — всё то, что феноменология всегда стремилась вынести за скобки и редуцировать, чтобы достичь чистой внутриположности — проявляет себя на уровне «внутриположного» (в сознании) как отсутствие. Если внешнее находится внутри, то нет никакого внутреннего. Структура следа — это нетрансцендентальное условие опыта. Именно к такому выводу должен был прийти феноменолог. Вместо этого Гуссерль интерпретировал структуру следа как ответ на вопрос: как возможен опыт настоящего момента? «Условия возможности» (структура не-присутствия) интерпретируются исключительно в терминах того, что они, как утверждается, делают возможным, а именно, опыта присутствия.
Эта структура — Деррида называет ее «расстановкой» — должна была показать феноменологу, что необходимая связь времени с «внешним» больше не мыслима в терминах корреляционизма или трансцендентального сознания. Расстановки, эффекты différance (будь то сказано о структуре восприятия, чувственного опыта или «внутреннего времени») — это то, как нетрансцендентальные или некорреляционные условия опыта явлены сознанию. Или, как говорит Деррида в «О грамматологии», расстановки свидетельствуют о (бессознательной, нетрансцендентальной) структуре или «основе», из которой соткан «уток» сознания и опыта.
Стоит на мгновение остановиться на аналогии, которую Деррида использует в этом контексте — структура основы и утка в текстильном производстве. «Основа» — это нити, натянутые по длине, через которые переплетается «уток». Как в «О грамматологии» пишет Деррида, расстановка раскрывает, что феноменология опыта и язык, который его описывает, являются «утком» на «основе», которая «не является его собственной». На самом деле Деррида, что характерно, более осмотрителен, чем я только что предположила. Однако его анализ сознания внутреннего времени у Гуссерля не только оправдывает, но и прямо утверждает интерпретацию, которую он представляет в «О грамматологии» как всего лишь предположение.
Или же сама феноменологическая модель — как уток языка, логики, очевидности, глубинной надежности, — на чуждой ему основе, которая к тому же — и в этом первейшая трудность — не есть нечто мирское? Не случайно ведь трансцендентальная феноменология внутреннего сознания времени, столь пекущаяся о том, чтобы заключить в скобки космическое время, обязана — будучи сознанием и даже внутренним сознанием — переживать время, причастное мирскому времени. Разрыв между сознанием, восприятием (внутренним и внешним) и «миром» оказывается, пожалуй, вовсе невозможен, даже в более мягкой форме редукции. (ОГ, 195)
Только благодаря расстановке Деррида может предположить, что основа, в которую вплетен уток феноменологического опыта — и соответствующий ему описательный язык — «не есть нечто мирское». Мирское, в данном контексте, относится к миру естественного отношения, то есть к докритическому, некоррелированному пониманию мира. Если расстановка свидетельствует о внеположности, переплетенной с чистой внутриположностью сознания, то эту внеположность нельзя отождествлять с мирским «миром», который феноменология вынесла за скобки, чтобы исследовать сознание.
«Самая сложная проблема», с которой сталкивается расстановка, заключается в том, что «след», или «тень», внеположности — основа, в которую вплетено сознание, — не является мирской. Поэтому мы не можем интерпретировать его как нечто эмпирическое, реальное или материальное. Почему? Последние определяются языком и логикой феноменологической основы. Что мы вправе сказать, так это то, что данная внеположность переплетена с внутриположностью, ее порождая. Как я буду утверждать, осмысление такого рода переплетения потребует от нас полного отказа от метафоры ткани. Однако в качестве первого шага мы можем сказать, что эта внеположность нетрансцендентальна, ее статус — не условие возможности, а некорреляционная или некоррелированная структура. Если «никакой разрыв», никакая редукция к чистой внутренности сознания невозможна, то это потому, что сознание не является ноэтическим коррелятом мира. Оно «вплетено» в мир. Чтобы понять сознание, необходимо понять расстановку, которая является более общим, чем сознание. Его абсолютный приоритет, несмотря на предосторожности Деррида, более чем оправдывает говорить о структуре следа в реалистических (некорреляционных) терминах.
В предложенном мною прочтении, вина гуссерлевской феноменологии не в том, что она не смогла обнаружить или сделать видимыми «конститутивные» структуры перцептивного опыта — ее вина в том, что она неправильно описала это обнаружение в самый момент его явленности, чтобы настаивать на тождестве данности с субъектом. Если дерридианская деконструкция диагностирует движение к надежному корреляционизму за счет заслуженных прозрений феноменологического анализа, то возвращение нас к этим самым прозрениям — к процессам, которые, как можно сказать, лежат в основе жизненного опыта — открывает возможность подлинно спекулятивного проекта: а именно, придание смысла «спекулятивным структурам» с помощью любых доступных нефеноменологических, эмпирических или теоретических соображений[58].
Деконструкция данности Деррида требует от нас дать интерпретацию différance или расстановке там, где феноменология потерпела неудачу. Эта интерпретация не должна совершать гуссерлевскую ошибку, определяя «дифферантность» структуры следа в терминах однородности или чистоты времени. Гуссерль продолжал мыслить «время [как] общую форму, однородный элемент этой дифферантности».[59] «Скорее [след] должен быть мыслим возвратно».[60] Мы должны объяснить время, исходя из «этой дифференциальной гетерогенности».[61]
Эта идея «возвратного мышления» имеет решающее значение для понимания логики аргументации Деррида. Действительно, я считаю ее одной из отличительных черт деконструктивного мышления. «Данность», «присутствие», «время» могут быть объяснены или учтены только при «возвратном» мышлении, то есть с точки зрения успешной деконструкции. «Возвратное» мышление требует повторного прохождения того пути, который привел к деконструкции. Например, когда феноменолог обнаруживает, что в присутствии (данности) есть нечто, что нарушает присутствие, но не может придать этому никакого смысла (кроме как сказать, что оно «конституирует» присутствие), тогда это нарушение и избыточность должны стать стимулом и руководством для поиска перспективы, которая может разрешить это нарушение или «дифференциальную гетерогенность». Такое предприятие или проект, в случае успеха, позволит нам осмыслить как саму гетерогенность, так и то, что она, как кажется, делает возможным — опыт присутствия, данность и самоочевидности.
Структуры, о которых идет речь, спекулятивны не потому, что они выходят за пределы данности (в строгом или буквальном смысле того, что нам дано, доказательно говоря), но скорее потому, что-то, что в данности «превосходит (данное) присутствие в настоящем», требует от нас говорить о спекулятивной структуре.[62] Такие структуры действительно будет «трудно описать в классическом логосе философии… порядок того, что репрезентирует себя или презентирует себя ясно и отчетливо, чтобы согласовать себя с ценностью присутствия, которое управляет всем, что в опыте является самоочевидным».[63]
В этом контексте — в тексте, который прослеживает попытку Фрейда доказать и продемонстрировать нечто, что в принципе решительно «негативно» или «вне» принципа удовольствия — Деррида называет «спекулятивными» не те утверждения, которые незаконно выходят за пределы «(само)очевидного» или данного, но скорее то, что проявляет себя через данное как «превышающее [форму] присутствия» и заставляет нас выйти за пределы классического логоса, язык и понятия которого отрицают любую реальность или доступ к спекулятивной структуре.
Трансформируя понятие данности, чтобы раскрыть différance как спекулятивную структуру, Деррида разрушает корреляционизм изнутри. Показав, что в текстуальности нет «внутреннего», он всё же должен прояснить, в каком смысле не существует чистого внешнего (или внеположности). Каким образом след — вид переплетенной формы, несводимой к присутствию — позволяет нам мыслить внеположность в немирском смысле? Думать о материальности и материи «возвратно» — в терминах следа? Это альфа и омега любого деконструктивного материализма.
Заключение
В 1994 году в интервью Маурицио Феррарису Деррида с сожалением заметил, что его понятие текста чаще всего интерпретируется как замена вычеркнутому или дискредитированному понятию реальности. При таком (неправильном) прочтении «текст» является аббревиацией утверждения о том, что конституирующая роль языка в производстве нашего чувства реальности делает язык «авторитетом в последней инстанции». Однако, как настаивает Деррида:
Деконструкция… была протестом против «лингвистического поворота», который под именем структурализма уже был хорошо развит. Ирония — зачастую болезненная — этой истории заключается в том, что нередко, в особенности в США, из-за того что я написал «il n’y a pas de hors-texte» («за пределами текста ничего нет»), из-за того что я разворачивал мысль о «следе», некоторые уверены, что это можно истолковать как мысль о языке — а всё ровно наоборот… Как вам известно, меня крайне интересуют вопросы языка и риторики, которые, на мой взгляд, заслуживают огромного внимания. Однако есть пункт, где авторитет в последней инстанции не является ни риторическим, ни языковым, ни даже дискурсивным. Понятие следа или текста были введены для того, чтобы отметить предел лингвистического поворота. Это еще одна причина, почему я предпочитаю говорить о «мете», а не о языке. Во-первых, мета не является чем-то антропологическим: она относится к до-языковому — это возможность языка, и она везде, где есть отношение к чему-то другому или отношение к кому-то другому. Для таких отношений мета не нуждается в языке.[64].
Здесь, возможно, более решительно, чем в других местах, Деррида отличает свое понятие текстуальности от понятия абсолютной дискурсивности, с которым его путают. В той мере, в какой она связана с отношением — в частности, с отношением к другому — она является более общей, чем язык, и ее не следует путать с человеком — ни в трансцендентном, ни в антропологическом смысле.
Тем не менее, деконструкция не просто порывает с философией доступа или отворачивается от нее. Деррида, как я утверждаю, считает феноменологическую критику наивного реализма («естественной установки») необходимой отправной точкой.[65] Если Деррида согласится с корреляционистской критикой, согласно которой философская традиция погрязла в эпистемологических вопросах доступа, то корни этой одержимости должны быть тщательно изучены и диагностированы.
В «О грамматологии» Деррида пишет:
Именно для того, чтобы избежать этого наивного объективизма, мы и обращаемся здесь к трансцендентальности, которую в иных случаях подвергаем сомнению. Как мы полагаем, можно остаться по сю сторону трансцендентальной критики, а можно выйти и по ту ее сторону. Сделать так, чтобы потустороннее не возвращалось в посюстороннее, значит признать в изгибах этой дороги необходимость траектории [parcours]. Эта траектория должна оставить свою борозду в тексте. Без этого следа самый что ни на есть ультра-трансцендентальный текст сведется к простому содержанию своих выводов и станет до неразличимости похож на докритический текст. (ОГ, 187)
Деконструктивная критика не вернет нас в мирской, докритический мир и не позволит нам сохранить использование многих наших понятий, поскольку последние структурированы теми самыми метафизическими оппозициями, которые порождают трансцендентальную проблематику. Деконструктивный или ультра-трансцендентальный текст позволяет нам переписать термины метафизики таким образом, чтобы не повторять старые оппозиции. Не «пройдя» через критику наивного объективизма (или реализма), «посткритическая» или «посткорреляционистская» философия рискует не выйти за рамки корреляционистской позиции, примером которой является трансцендентальная философия.
В последующих главах я характеризую деконструкцию с точки зрения ее смещения корреляционизма и объясняю, в чем это смещение состоит. В частности, я утверждаю, что смещение Деррида корреляционистской проблематики приводит нас к метафизически-реалистической интерпретации текста и письма. Если это антикорреляционистское, реалистическое прочтение верно, то спекулятивный реализм ошибается, противопоставляя или отвергая деконструктивную философию. Скорее, деконструкцию следует рассматривать как мощного философского союзника[66].
Предлагаемое мною прочтение позволяет интегрировать реалистические утверждения, которые делает Деррида, но которые часто выносятся за скобки или недооцениваются, в последовательную интерпретацию деконструкции. Деррида отрицательно утверждает, что его понятие текста никогда не предназначалось для обоснования антиреализма, который распространял «обнадеживающее» понятие книги на «внешний мир».[67] Мир не должен рассматриваться как текст в этом смысле.[68]
Часа чтения, начиная с любой страницы любого из текстов, которые я опубликовал за последние двадцать лет, должно быть достаточно, чтобы понять, что текст, как я использую это слово, — это не книга. Не более, чем письмо или след, он не ограничивается бумагой, которую вы покрываете своим графизмом… В интересах как одной, так и другой стороны представить деконструкцию как поворот вовнутрь, к замкнутости в границах языка, тогда как на самом деле деконструкция начинается с деконструкции логоцентризма, лингвистики слова и самой этой замкнутости.
Интересно, что Деррида предполагает здесь, что и реалистическая, и антиреалистическая позиции заинтересованы в прочтении деконструкции как «обращения вовнутрь к ограждению со стороны… языка». Такая характеристика позволила не прекращать дебаты между различными видами корреляционизма.
Примечания
[1] См.: Russell Sbriglia and Slavoj Zizek (eds), Subject Lessons: Hegel, Lacan, and the Future of Materialism (Evanston: Northwestern University Press, 2020). Хотя большинство глав в этом сборнике преувеличивают сходство между Спекулятивным Реализмом и Новым Материализмом, он всё равно является бесценным источником информации.
[2] К. Мейясу «После конечности».
[3] J. Hillis Miller, Reading Derrida’s Of Grammatology (London: Continuum, 2011), pp. 47-51.
[4] Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Durham, NC: Duke University Press, 2007).
[5] Да, Деррида настаивал на том, что в силу своей абсолютной всеобщности архе-письмо не может быть расположено как объект в позитивном поле. Будучи общим условием (всего?) и, следовательно, науки, архе-письмо само не может быть наукой. Стоит, однако, отметить, что такое понятие архе-письма является результатом деконструктивной критики существующего грамматологического дискурса, который уже рассматривает письмо как научный объект. А потому, хотя границы науки могут быть установлены спекулятивно, эти границы не воспрещают развитие грамматологии. Более того, Деррида предлагает продолжать этот проект (возможно, под эгидой «кибернетики», чье понятие «программы» — это «поле письма», или через другой подобный метатеоретический дискурс), пока не будут выявлены ее (метафизические) ограничения.
[6] Derrida (1997: 6-9). Последующие ссылки на книгу «О грамматологии» приводятся в тексте в скобках как ОГ с указанием номера страницы. (Русский перевод Автономовой, иногда измененной, с указанием страницы русского издания Ad marginem 2000 г.)
[7] Franklin (2015: 66).
[8] Malabou (2007a: 433).
[9] О грамматологической текстуальности как переводимости см. Goldgaber (2018). Об отношениях письма, пере/вы-живания и перевода см. особенно Derrida (1981: 20; 1985) и Derrida and Venuti (2001).
[10] Поэтому, когда в «О грамматологии» Деррида предлагает грамматологическое переосмысление антропогенеза палеонтолога Леруа-Гурана, он заявляет, что динамическое взаимодействие между человеческой формой и техническими объектами, которое описывает последний, должно пониматься как программа в «кибернетическом смысле» (Derrida 1997: 83-6).
[11] Jacob (1973: 324).
[12] Wolfe (2010: 26).
[13] Derrida (1995: 123).
[14] Книга Франциско Витале «Биодеконструкция» (2018) появилась уже после завершения работы над «Спекулятивной грамматологией», а потому слишком поздно, чтобы я могла адекватно воспринять этот текст и его аргументы. Однако, как никакая другая недавно опубликованная книга, она, как мне кажется, является текстом-компаньоном к «Спекулятивной грамматологии». По крайней мере в моем прочтении, Витале продолжает проект спекулятивной грамматологии под названием «биодеконструкция». Отойдя от «Грамматологии», Витале прослеживает развитие архе-письма в семинаре Деррида 1975-76 гг. в Высшей нормальной школе «Жизнь смерть» (недавно опубликованном во Франции издательством Seuil с готовящимся английским переводом). На этом семинаре Деррида установил не только биологическое происхождение архе-письма, но и критически важную роль архе-письма по отношению к лингвистическо-скриптуральным метафорам «кода» и «программы, разработанной кибернетикой и внедренной биологией» (Vitale 2018: 73).
[15] См. особенно Kirby (2005b).
[16] Colebrook (2011).
[17] Barad (2003).
[18] Мне кажется, что Ричард Рорти (1977) лучше всего сформулировал этот тупик (по сравнению с квази-трансцендентальными изложениями деконструкции). Как (верно) утверждает Рорти, Деррида показал, что доступ к условиям нашего познания у нас не лучше, чем к миру. Рорти считает, что именно такая анти-трансцендентальная позиция является целью и достоинством аргументации Деррида. Дело не в том, чтобы сказать, как возможно познание, а в том, чтобы показать, что мета-познание не возможно. Как следует из дальнейшего введения, я не согласна с Рорти в том, что эта цель исключительно «негативна». Напротив, я считаю, что демонстрация «текстуальности» сознания делает возможным создание некорреляционистских описаний текстов, что, в свою очередь, позволяет Деррида обобщить текстуальность. Замечательное обсуждение дефляционного прочтения Деррида у Рорти см. в: Kates (2005: глава 1).
[19] Джошуа Кейтс (Kates 2005: особенно глава 2) в книге «Существенная история» предлагает превосходное изложение, казалось бы, неразрешимой эпистемологической проблемы, которую, как представляется, влечет за собой дерридианская критика Гуссерля. Как Деррида может опираться на феноменологическое свидетельство, чтобы радикально его опровергнуть? Не является ли это феноменологическим эквивалентом парадокса лжеца? Однако, хотя Кейтс хорошо мотивирует проблему, ему не удается, по крайней мере, в моем прочтении, (раз)решить ее. Как я буду утверждать во второй главе этой книги, парадокс исчезает, как только мы видим, что для Деррида структура пережитого опыта оказывается по существу некоррелированной с трансцендентальным сознанием.
[20] Seebohm (1995: 199).
[21] Я позаимствовала эту формулировку у Дэвида Родена (2013), чье понятие феноменологической темноты обладает большинством тех же характеристик, которые я приписываю «неаподиктическому» доказательству.
[22] Derrida (1987: 284). Здесь Деррида утверждает, что фрейдовское описание связи между (спекулятивным) влечением к смерти и принципом удовольствия потребует обращения к понятию «спекулятивной структуры в целом». В этом контексте «спекулятивное» будет относиться «одновременно [к] чувствам спекулятивного отражения (reflexion)»; к спекулятивным обменам, например, «производству прибавочной стоимости, расчетам и ставкам на бирже, то есть эмиссии более или менее фиктивных акций»; и, наконец, «[к] тому, что превосходит (данное) присутствие настоящего» (курсив мой). В данном контексте я фокусируюсь именно на последнем значении спекулятивного.
[23] Derrida (1987: 285).
[24] Роден (2013) вводит идею «темной феноменологии». Феноменологически темные элементы — это те, которые не прозрачны для интроспекции, которые даны без «внутренней» меры или мерила для их интерпретации. Отрицание определения Роденом феноменологически темных элементов дает нам, как мне кажется, экономную формулировку феноменологического свидетельства. Все элементы даны таким образом, что их смысл является самоценным. Роден утверждает, что темные явления не могут быть объяснены феноменологически. Область феноменологии не является областью самостоятельной, автономной дисциплины, но должна быть исследована с помощью любых эмпирически плодотворных методов, которые нам доступны (например, вычислительной нейронауки, искусственного интеллекта и т. д.). Наконец, из этого следует, что, хотя натурализованная феноменология должна быть сохранена как описательный, эмпирический метод, ей не следует придавать трансцендентальный авторитет» (2013: 169).
* Espacement (фр.), spacing (англ.). Автономова переводит словом разбивка, Лапицкий — разнесение, Бибихин — размещение, Кралечкин — опространствование.
[25] Согласно Деррида, теории языковой функции почти всегда предполагали возможность «редукции» эмпирического языка к смыслу (Derrida 1982: 134). Философы и «обычные» говорящие предполагают, что слова относятся к когнитивным сущностям или предметам, отличным от языка, который мы используем, и отсылают к стоящему за ними смыслу. Из этого следует, что для доступа к этим глубинным смыслам мы должны, так сказать, обналичить «материальность означающего» — материальный элемент языка, примером которого может служить письменный знак или произнесенное слово — для получения смысла, который он репрезентирует. Успешное использование языка — чтение, письмо, перевод — каждое из них предполагает восстановление в памяти («репрезентацию») основополагающих смыслов, которые были переданы с помощью языка. Философские концепции предлагают различные теоретические сущности, которые выполняют требуемую функциональную роль Смысла. Деррида называет теоретические сущности, предлагаемые философами, «трансцендентальными означаемыми» (Derrida 1978: 279-80). Этот термин отражает необходимое условие для того, чтобы что-либо выполняло функциональную роль означаемого: в конечном счете, означаемое должно быть трансцендентно языку или вне языка, и оно должно быть соотнесено с трансцендентальным сознанием.
[26] Barad (2003: 806-12).
[27] «Письмо, которое структурно не читабельно-итерабельно после смерти адресата, не было бы письмом» (Derrida 1988: 7).
[28] Searle (1980).
[29] Derrida (1988: 88-90). «Паразитизм имеет место, когда паразит (называемый так хозяином, ревностно защищающим свой ойкос) приходит жить за счет жизни тела, в котором он обитает — и когда, в свою очередь, хозяин в какой-то степени включает паразита в себя, волей-неволей предлагая ему гостеприимство: предоставляя ему место» (1988: 90).
* Ретенция — термин гуссерлевской феноменологии. Его можно перевести как «сохранение» или «удержание».
[30] Derrida (1996: 14).
[31] Braver (2007: xix).
[32] Barad (2003: 802).
[33] Spivak (1989: 150).
[34] DeLanda (2012: 43).
[35] Malabou (2016: 36).
[36] Butler (1993). См. Kirby (2005b) для мощной критики «материализации» у Батлер.
[37] Bhaskar (2008).
[38] Bhaskar (2008: 21).
[39] На самом деле, феноменолог может предложить реалисту ресурсов больше, чем можно предположить из этого описания. Гуссерлевская «трансцендентальная» феноменология описывает объект восприятия в терминах различия, разделяющего «присутствие» объекта. Это различие является внутренним по отношению к «материализации». Есть объект, который явлен, и явленность объекта. Первый является умопостигаемым объектом. Гуссерль утверждает, что явленность и объект неразделимы — это две стороны одной медали. Объект раскрывается через свою явленность. Наши исследования мира предполагают эту раскрывающую деятельность. Может показаться, что мир скрывает себя в восприятии, поскольку он «прячет» или «забывает» свою собственную раскрывающую деятельность. Но это по сути не обманчиво, поскольку такое различие, «внутреннее» для восприятия, отражает или свидетельствует о рефлексивном или выразительном отношении разума и мира. Однако феноменолог может, опять же, только сказать, что такое отношение скорее является засвидетельствованным, чем утверждает его истинность.
[40] Дэн Захави, один из лучших современных интерпретаторов Гуссерля, предлагает именно такое объяснение гуссерлевского понятия интенциональности. Согласно Захави, его описание соотношения разума и мира в интенциональном сознании делает его перцептивным реалистом, отвергающим при этом «метафизический» реализм. Перцептивный реалист отвергает репрезентационизм — идею о том, что мы «общаемся» с внутренними образами или знаками, а не с «самими вещами», — но также отвергает возможность представления о некоррелированной реальности (Zahavi 2008).
[41] Как мы уже видели, феминистки утверждают, что репрезентации не являются нейтральными и отличными от реальности, которую они претендуют репрезентировать. Феминистские описания дискурсивного конструирования тела подчеркивают силу репрезентаций производить реальность, которую они якобы отражают. В этом случае репрезентации могут не только искажать реальность, которую они репрезентируют, посредством различных форм когнитивной и перцептивной предвзятости, они могут, в онтологическом смысле, производить реальность. В этом случае «дискурсивная конструкция» подрывает «репрезентационизм» в той мере, в какой он настаивает на взаимосвязи репрезентационизма и реальности. Например, навешивание ярлыка «девочка» на ребенка, как утверждала Айрис Марион Янг (2005), приводит к недоразвитости тела и подавленности физических возможностей организма. Такая недоразвитость обусловлена гендерными культурными практиками, которые исторически включают ограничивающую одежду, бинтование ног [обычай в Китае] и нормы поведения, диктующие пассивность как признак «женственности». В более общем плане, Ян Хакинг утверждает, что люди по своей сути являются интерактивными или дискурсивными видами, потому что они уникально осознают и реагируют на репрезентацию. Не имея возможности оставаться нейтральными по отношению к тому, как они репрезентированы, «дискурсивные виды» в конечном итоге этими репрезентациями и формируются. Напротив, хотя (человеческие) репрезентации, безусловно, воздействуют на материю через различные формы интенциональной деятельности, это не связано с каким-либо осознанием со стороны материи (1999: 34). Таким образом, репрезентации не являются онтологически инертными, но переплетения репрезентации и реальности ограничены, по-видимому, человеческими видами.
[42] Barad (2010).
[43] Wilson (1998: 202–3).
[44] Wilson (1998: 161–2).
[45] Wilson (1998: 189).
[46] Wolfe (2010: 43).
[47] Colebrook (2011: 20).
[48] Colebrook (2011: 6).
[49] Colebrook (2011: 7).
[50] Colebrook (2011: 7).
[51] Bryant et al. (2011: 3).
[52] Harman (2007: 204).
[53] Meillassoux (2008: 5).
[54] Понятие «философии доступа», предложенное Харманом (2009), возможно, интуитивно понятнее, чем «корреляционизм», но и то, и другое помогает нам представить набор позиций, которые иначе трудно охватить. Например, понятие дискурсивного конструирования Джудит Батлер и понятие конституции Гуссерля во многих отношениях являются противоположными философскими позициями. Последний является убежденным реалистом — для Гуссерля объекты, которые мы переживаем, это просто «сами вещи» (как они явлены) — в то время как Батлер является стойкой антиреалисткой, утверждая, что просто бессмысленно спрашивать, что находится за пределами дискурсивной конституции субъектов и тел — поскольку именно эта дискурсивная конституция делает этот вопрос возможным. Харман говорит о том, что «философия доступа», по сути, занимается вопросом статуса объекта — и объективности объекта. Философия доступа выносит за скобки вопросы, связанные с онтологией, и вместо этого фокусируется на вопросах, связанных с эпистемологией, и особенно на условиях возможности истины.
[55] Bryant et al. (2011: 3).
[56] Термином «параллелизм» я обязана Паоле Маррати (личное общение, 2011).
[57] Derrida (1982: 172).
[58] Или, если воспользоваться терминологией Деррида из его эссе о Фрейде в «Почтовой открытке», «данность» проявляет себя как «спекулятивная структура» «в смысле того, что превосходит (данное) присутствие в настоящем» (1987: 284).
[59] Derrida (1987: 280).
[60] Derrida (1987: 280).
[61] Derrida (1987: 280).
[62] Derrida (1987: 284).
[63] Derrida (1987: 289).
[64] Derrida and Ferraris (2001: 76).
[65] Прекрасное изложение связи между деконструкцией и критикой наивного натурализма, или того, что Гуссерль называл «естественной установкой», см. в незаменимом исследовании Джошуа Кейтса об отношении Деррида к гуссерлевской феноменологии и трансцендентальной критике (Kates 2005).
[66] Реалистическую защиту «следа» и «итерабельности», которая интерпретирует последние в терминах возможных видов объектов, см. в Roden (2004). Роден отстаивает мнение, согласно которому понятие следа у Деррида подразумевает, что существуют такие вещи, как итерабельные, или повторяющиеся, особенности, тогда как я утверждаю, что Деррида отстаивает более радикальное утверждение, согласно которому нет ничего, кроме таких повторяющихся особенностей.
[67] «Мы никогда не хотели распространить успокаивающее понятие текста на все внетекстовое пространство и превратить мир в библиотеку, уничтожая все границы… но… мы, скорее, стремились разработать теоретическую и практическую систему этих пределов, этих границ, еще раз, с нуля» (Derrida and Venuti 2001: 84-5).
[68] Derrida (1986: 77).
