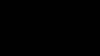"Фрезер" Михаила Чехова (по книге М.О. Кнебель "Вся жизнь" - 2-3 главы)
В начале работы над Фрезером Чехов пытается найти конкретный типаж, с которого он и будет «брать пример». В ходе поисков ему «приглянулся» некий еврей-спекулянт. Чехов вместе с Вахтанговым вступил с ним в долгую беседу, чтобы услышать речь этого человека и уловить какие-то привычки или повадки. Первоначально Чехов отказался от идеи брать за основу образа Фрезера именно этого еврея-спекулянта.
Но именно на премьере спектакля Чехов, неожиданно для всех и даже для себя, как будто вспомнил свою первоначальную задумку:
«И вдруг я слышу, как он на сцене, с сильнейшим еврейским акцентом кричит: «Здравствуйте, Стрэттон! Здравствуйте, Чарли… жарко. Уф! Почему не открываете вентилятор?
Но еврейский акцент и спекулянтские манеры — ещё не готовая роль. Акцент помогал Чехову-Фрезеру выражать свою точку зрения лишь интонационно.
Так как же удалось создать неповторимый «образец тончайшего психологического рисунка»?
С одной стороны, Чехов не скупился на темпераментность и выразительные средства. Естественно, неотъемлемой частью роли становилась характерность. Например, в речи Чехов-Фрезер часто пользовался вопросительным знаком, будто на каждую свою фразу он ждал ответа. Но и партнёрам, и зрителям было ясно, что он ответит за всех сам, и такая постановка речи добавляла ценности его высказываниям, а из этого и рождалась подлинная речь.
Но Чеховым использовался очень тонкий художественный расчёт. Он умело пользовался контрастами. В каждой роли по-разному, но одинаково широко.
«В Фрезере эти контрасты были как бы построены по двум разным направлениям. Первое — характеристика образа. Чехов сгущал все дурные качества Фрезера. Он безжалостно разоблачал этого разорившегося биржевого зайца, спекулирующего теперь на доходах с публичных домов. Он заставлял зрителя верить в то, что у Фрезера совесть абсолютно спокойна, мысль о том, что он сам подлец, никогда не приходила ему в голову. Он полой только ядовитой злобы и зависти к счастливчикам, испортившим его жизнь. Эти мысли и чувства Чехов доводил до гиперболы, до эксцентрики. Почти фарсовыми приспособлениями он разоблачал Фрезера, переживавшего свое разорение. Казалось, перед нами человек, на которого обрушилось нечто непосильное, человек, нервы которого обнажены и могут не выдержать такого напряжения».
Чехов-Фрезер бесконечно многогранен. Уже в другом акте перед зрителем раскрывается совершенно иная, доселе неизвестная черта фрезеровской души — его человечность. При всей его на первой взгляд кажущейся жадности, злобы и ощущения собственной безнаказанности к которым уже так привык зритель за первый акт, этот человек, находясь на пороге гибели, проявляет совершенно неожиданные «драгоценные свойства души».
Таким образом, Чехов намеренно гиперболизирует и возводит в абсолют все нравственные пороки Фрезера, чтобы потом на том же контрасте раскрыть его с совершенно новой для зрителя стороны. Как пишет сама Кнебель: «Я думаю, что человечность Фрезера не действовала так сильно, если бы характеристика его в первом акте не была так остра и язвительна».
На мой взгляд, студийцы видели ровно столько, сколько Чехов позволял им видеть, что совершенно естественно.
Как и то, что они делают выводы о его роли не как обычные зрители, а ученики своего мастера, продолжатели его дела. Возможно, с психологической точки зрения, подсознательно они, сами того не осознавая наблюдали преимущественно именно за своим учителем, потому и «разбирали» его игру более досконально, замечая и более мелкие, неуловимые обычному зрителю детали, такие как суживание зрачков у Фрезера, его откидывание головы назад и др.
У студийцев Чехова было ещё одно преимущество: они знали его вне сцены, видели его в обычной жизни и им было, с чем сравнивать Чехова-в-обычной-жизни и
Отмечают также студийцы намеренность или случайность выстроенных им действий, основываясь на занятиях, прошедших вместе с ним: «… Это был необыкновенно выразительный «эпилог» вспышки. Строил ли он его сознательно? Кто знает… Думаю, что строил. Потому что в его занятиях с нами большое место занимало действие, имевшее предыгру и, если можно так выразиться, послесловие…
(сокр.) Но самым впечатляющим в его игре, тем чудом и волшебством, о котором все говорили, ради которого десятки раз смотрели один и тот же спектакль, был, конечно, импровизационный дар. Наметочных ниток техники в этой игре невозможно было увидеть. Если он и ставил перед собой какие-то технологические задачи, например задачу разработанной паузы, то можно твердо сказать, что на каждом спектакле такие паузы звучали по-разному, потому что прием обрастал живой, сверкающей тканью неожиданных красок».
Каждый раз, перечитывая воспоминания Марии Осиповны о своём учителе, я чувствую, как раз за разом уменьшаюсь в росте. Когда читаю о технике Чехова во время поиска себя в роли и о его жизни на сцене, невольно хочется раствориться и забыть весь свой небольшой опыт.
Безусловно прочитанная и проанализированная книга оставила отпечаток в моём подсознании, я надеюсь, что однажды смогу так натренировать мозг, что при работе над ролью смогу контролировать несколько аспектов, описанных Кнебель. Сейчас, в силу возраста и недостатке опыта, я даже ужасаюсь от того, как много надо держать в голове во время работы. А потом сразу вспоминанию отдельных людей, которые очень любят повторять: «Да что такое актёрское мастерство? Вышел, покривлялся, поклонился и ушёл».
Ни в коем случае не стремлюсь расхвалить себя, но меня порадовало то, что Кнебель пишет и то, о чём я хотя бы раз в жизни задумывалась. Например, о характерности, об отдельных привычках героя. Лелею надежду, что эти мысли приходили в мою пока неумелую голову не зря, и в будущем это мне обязательно аукнется. Да будет эта книга мне поддержкой на жизненном пути.
Я пока не могу сказать как я бы пробовала то, о чём говорил Чехов. Пока я действую «наощупь». Особенно сейчас, на самоизоляции, когда рядом со мной нет людей, более-менее связанных с театром, я сама себе единственный критик и зритель.