Переводчик Виктор Голышев — о Дэвиде Мэмете, знакомстве с Сьюзен Сонтаг и визуальной культуре
В марте 2019 года в нашем издательстве вышла книга Дэвида Мэмета «О режиссуре фильма» в переводе Виктора Петровича Голышева — известного российского переводчика англо-американской литературы, переводившего для Ad Marginem книги Сьюзен Сонтаг «О фотографии» и «Смотрим на чужие страдания». Это курс лекций, прочитанный американским сценаристом, режиссером и лауреатом Пулитцеровской премии на факультете кино Колумбийского университета в 1987 году, который нашел и порекомендовал сам Виктор Петрович. По этому случаю директор Ad Marginem Михаил Котомин встретился с Виктором и поговорил с ним о Дэвиде Мэмете, Сьюзен Сонтаг и его отношении к визуальному.

Мэмет «О режиссуре фильма» — это третья книга в вашем переводе, которая выходит в нашем издательстве, но в отличие от книг Сонтаг ее вы предложили сами. Как эта книга к вам попала, как появилась идея ее перевести?
Я не знаю даже, как попала. Может быть, сын привез. Да, я думаю, что сын привез, он в Гарварде был три недели на режиссерских курсах и, наверное, привез. Больше мне неоткуда взять, я же в библиотеку давно не хожу. А идея такая, что мне понравилась книжка просто.
Лекции Мэмета — это такой краткий курс того, что сейчас называется модным словом «сторителлинг», руководство по тому, как рассказать историю. Тем не менее, хотя Мэмет очень литературный человек, — у него даже фильмы очень литературные — формально это книга режиссера, то есть история про кадры. Вы же человек слова, любите наводить порядок в синтаксисе, в предложениях. Визуальная составная истории была для вас какой-то проблемой или принципы рассказа истории в словах и картинках одинаковы?
Нет, никакой проблемы не было. Вообще, когда переводишь, стараешься это видеть все. Если первичен текст и он не очень абстрактный, то картинку обычно видишь. Тут легко следить, а у Мэмета все же вообще из 3 пальцев сделано, и этот кадр его и разжевывается. У меня никаких проблем не было с этим.
Потом, я
Да, причем один даже, кажется, выходил в издательстве «Текст» когда-то.
Мэмет мне очень нравится как кинорежиссер. Когда-то НТВ по дешевке покупали самые хорошие фильмы, в том числе фильм «Американский бизон», и меня позвали его перевести. Поскольку заработков не было, я там переводил, и они хорошо платили до поры до времени. Ну пока дефолт не случился и я не ушел от них. А пьесы его я переводил, не знаю, почему. И фильм, кстати, не сильно отличается от сокращенной пьесы, там 2 человека с половиной действуют.
Мне очень понравилось, как у него диалог устроен — очень жестко так. Мне кажется, необычно, как они разговаривают. Поэтому пьесы переводил. Вот последняя хулиганская совершенно, «Романс» называется, ну я вам послал
(В конце этого года в нашем издательстве выйдет маленький сборник из трех пьес Мэмета: «Гленгерри Глен Росс», «Американский бизон» и «Романс» в переводе Виктора Петровича — Прим. Ad Marginem).
В лекциях о режиссуре фильма Мэмет занимает очень консервативную позицию, выступает против «стедикам», против любой визуальной выразительности. Для него в основе любого действа — очень четкий нарративный синтаксис, то есть литература, логика. Он говорит о семантике, как эта семантика важна, то есть, по сути дела, выступает против автономии визуального. Он все время говорит, что картинка выполняет подчиненную функцию.
Да, и то же самое в отношении актеров он говорит. Он учит их не играть, учит, что надо самым простым способом передать то, что написано.
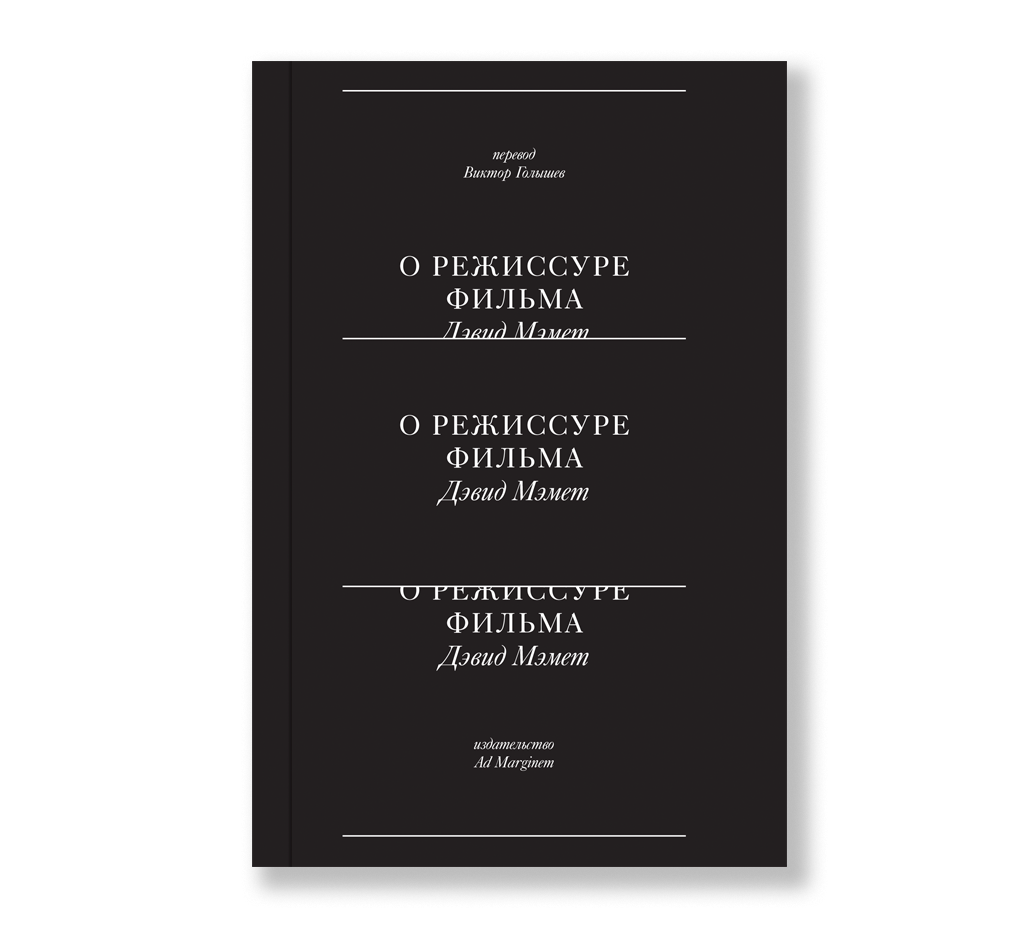
Вы согласны с этой позицией, что картинка в принципе подчинена слову?
У него?
В кино.
У кого да, а у кого нет. Я не знаю. У «Андрея Рублева» подчинена картинка слову? По-моему, нет.
Да, у Тарковского нет. Мэмету бы Тарковский не понравился. Там все против его принципов.
У Тарковского иногда очень простые тексты — на два уровня ниже, чем картинка. Какой текст у Эйзенштейна в «Броненосце Потемкине»? Я не знаю даже. Там в «Александре Невском» текст довольно тупой, но для этого режиссера это ничего не значит. А Мэмет не очень озабочен, как кадр выстроен, какой цвет, его больше драма интересует. Тарковского что-то другое интересовало.
Так получилось, что все три книги, которые вышли в нашем издательстве в вашем переводе, так или иначе имеют отношение к визуальному, будь то размышление Сонтаг о фотографии или размышления режиссера о фильме, который — как бы Мэмет ни настаивал на литературной составляющей —
Ну со студенческих лет я по музеям ходил, так что картинки вполне воспринимаю. А с Сонтаг, не знаю, мне просто захотелось ее перевести. Она мне сказала когда-то: «А у меня вот книжка о фотографии есть». А я фотографией занимался. Когда был перерыв в работе, купил сыну фотоаппарат за 12 рублей, а поскольку он не стал снимать, я сам полгода занимался фотографией. Да и потом снимал потихоньку, сейчас уже не могу, потому что это большая волынка и постоянное напряжение. Вот к тебе приходят ребята, гости, а ты уже не участвуешь в разговоре, только думаешь, как их снимать. Для этого требуется сосредоточенность. Когда с Сонтаг познакомился, я фотографией еще сильно увлекался. А она говорит: «Это никакого отношения к технике фотографии не имеет».
Я тогда не читал книжку, потом она мне позже попалась случайно. И сразу увлекла как-то. Во-первых, сами размышления о фотографии. Во-вторых, довольно многих фотографов, о которых она пишет, я знал, потому что как-то попадали их фотоальбомы ко мне. Замечательные фотографы были — Стейхен, Стиглиц, половина по-моему приезжих, из Европы сбежавших. Они на меня большое впечатление производили, и потом я к ней хорошо относился, хотя она довольно страшный человек для многих была. Я ее видел, совершенно она меня не пугала, не действовала на меня почему-то ее манера, хотя она очень жестко разговаривала с людьми. Помню, говорит: «А что это вы все среднюю литературу, посредственную, переводите?». Это о Уоррене, Стейнбеке. А я отвечаю: «Другой не нашел». Она думала, что самое лучшее — во Франции, не в Германии даже. Ну она такая, европоцентристка, на самом деле.
Виктор Петрович, нас все время в прессе и интернете преследуют за написание «Сонтаг», а не «Зонтаг». И мы каждый раз объясняем, что это выбор Виктора Петровича.
Это не выбор, я просто слышал, как ее зовут в Америке. Там ее зовут Сонтаг, и все. И она себя звала Сонтаг, вот и все. Это не мой выбор. Они хотят, чтобы по-немецки фамилия звучала, а она, видимо, не хотела.
При каких обстоятельствах вы с ней познакомились?
В 1987 году, когда Горбачев туда поехал, «Пен-центр» позвал писателей и литераторов, несколько человек. Человек 5-6 нас было, почему-то и меня позвали, не знаю, кому это в голову пришло. Секретарь потом сказал, что никто не возражал. И были какие-то мероприятия в местном «Пене», там я с ней и познакомился.
Потом из всей этой компании по-английски говорил один я. Нам выдали переводчика Харриса Колтера, большого мужчину, который, кажется, три раза был женат и три раза на русских. Он переводчик ООН. Мы с ним подружились, потому что как-то уважаешь переводчика, если сам переводчик. Писатели не уважают переводчиков, они для них помощники, а мне — коллеги. Нас отправляли в гости к разным писателям, поскольку это все был такой большой понт. В результате ездили только мы с ним вдвоем — к Мейлеру, например.
В Бруклин? Он же в Бруклине жил?
Про Бруклин не знаю, недалеко он жил от Манхэттена, но с какой стороны Ист-Ривер, не помню. К
А знаете, чем Колтер меня растрогал? У
А Сонтаг фигурировала как писательница или как такая woman of power, влиятельный критик?
Такая аура у нее была, да. А вообще как писатель. Но никто в делегации не был в курсе ее репутации, ее имя им ничего не говорило. Я-то знал, потому что с ней Бродский одно время дружил очень сильно, потом они разошлись почему-то. Она даже чего-то меня к себе домой привела. Ну она такая вот отчасти учительница была. Любила объяснить тебе все, заставить сделать правильно. Могла указать, что вот та — легкомысленная женщина, не надо с ней связываться
А Советский Союз как-то обсуждали? Вы же приехали из «империи зла».
Обсуждали. Значит, они позвали несколько человек, эти штатники из «Пена». Здешние организаторы сказали, что Гранин поедет или никто не поедет. Я
Перестройка в смысле?
Перестройка, да. Что мы не можем так быстро подняться через 150 лет после крепостного права. И Гранин мне говорит: «Вы больше нигде не выступайте». Я говорю: «Да нет, буду, не вы же меня позвали. Писатели-то еще куски из произведений читали, а
А с Сонтаг как-то обсуждали политику?
Нет. Ни одного слова. В 87-м году у всех еще эйфория была, это, конечно, очень хорошее время было. Но такое нестабильное для нас, для нашей страны. Ну, и действительно оказалось нестабильное, страна развалилась.
Ну да, но могла сильнее развалиться. А
Ну, конечно. Я видел Плавинского, Зверева, Воробьева, Свешникова, Вулоха, Пивоварова, Пархоменко, Одноралова и других, встречались в Тарусе. Молодые были, все общались. В Тарусу всегда ВГИК приезжал, факультет художественный. Человек 20, кто-то был моим знакомым. Воробьев. Но его потом выгнали за эти вот дела, за «ташизм». Я тогда довольно много народа знал, а кого не знал, тех видел. Эдик Штейнберг был мой приятель
(Эдуард Штейнберг (1937-2012) — российский художник, представитель так называемого «второго авангарда». Закончил школу в Тарусе, в 1962 году состоялась его первая выставка в Тарусе. С конца 1980-х жил между Тарусой, Москвой и Парижем — Прим. Ad Marginem).
А абстракционисты 60-х, Злотников, его круг?
Нет, Злотникова я, может, один раз и видел, а, может, и не видел. А в Тарусе, боюсь соврать, какой это год был, наверное, начало 60-х, первая выставка была с абстрактными картинами над кинотеатром. Там были местные ребята, вгиковцы. Абстрактных несколько картин было, выставка недолго очень провисела, но приятель мой Возчиков, который работал на радио, успел сделать про нее передачу, потом выставку быстро прикрыли.
Существует такая распространенная метафора, что абстрактный экспрессионизм — это джаз. Что такая живопись соответствует джазу и литературе в духе Боулза. А вы никогда не проводили подобных параллелей?
Нет, джаз я всю жизнь слушаю, начиная с 55 года, когда Voice of America стал передавать «Час джаза». По-моему, это тогда началось и у них тоже. Я с тех пор все время слушал. Мне даже в голову не пришло, что это можно как-то соединять.
То есть
И музыка отдельно. Просто я джаз, наверное, больше слушал, чем занимался в институте. Вместо уроков я слушал все время музыку.
Ну здорово, спасибо большое, а что вы сейчас переводите, что в планах?
Ничего, планов нет никаких, полтора месяца ничего не перевожу.
А когда эти три пьесы Мэмета вы перевели?
В разное время. Я думаю, что, поскольку фильм переводил, про пьесу узнал и пьесу перевел просто так.
«Американский бизон»?
Да, а «Американцев» вы не видели?
Я не видел, но наслышан, собираюсь сейчас посмотреть.
Хороший фильм, там все звезды, но мне больше пьеска понравилась. А «Романс», даже не знаю, откуда у меня книжка взялась, это одна из последних его пьес. Они все очень разные, все три разные. Единственное, что объединяет, — это люди дрянноватые везде. «Американский бизон» — про двух жуликов, «Гленгарри Глен Росс» — про торговцев участками. Они все поганцы, социальный дарвинизм в действии. У него очень пессимистические драмы. Еще видел спектакль, «Олеанна» называется, в бывшем детском театре, пьесу Сергей Таск перевел. А так эти пьесы никто не хочет ставить, они слишком радикальны.
