We can't whistle it either: музыка как язык
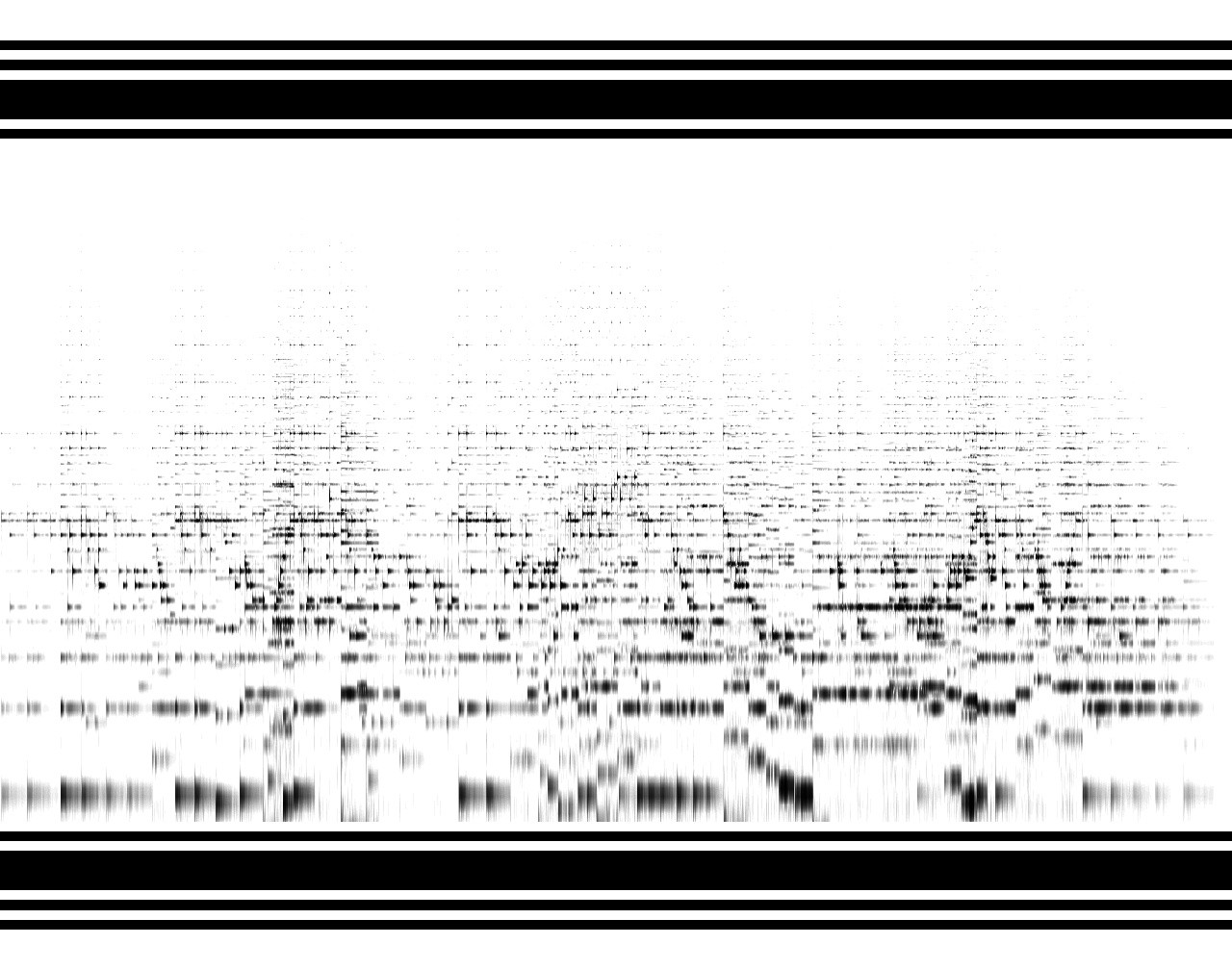
Насколько распространено в обыденных разговорах представление о музыке как об языке эмоций, настолько общим место в философии является отрицание языковой природы музыки. Большинство отрицающих (например, Питер Киви или Теодор Адорно) исходят из формалистских представлений о музыке — для таких исследователей музыка представляет из себя разворачивающуюся во времени структуру, совокупность динамических отношений между высотами, ритмами и так далее. Безусловно, музыкальные структуры могут мыслиться как аналогия свойственных языку синтаксису и грамматике; однако музыкальные структуры не обладают устойчивой семантикой. Дело не только в том, что эмоции, которые якобы передаёт музыка, всяким будут восприняты по-своему, но еще и в том, что эмоциональная интерпретация — далеко не единственно возможная. Скажем, некоторые склонны считать музыку языком «кинетических пространств», т. е. согласно такой точке зрения, музыка описывает виртуальные движения, является своеобразной кинетической скульптурой.
Формализм сам по себе не исключает языкового характера музыки, ведь любой язык — обыденный язык, язык математики или логики и так далее — является в той или иной степени формальной структурой, когда рассматривается как объект изучения. Однако синтаксис и грамматика, т. е. внутренняя членораздельность и структурность, хоть и являются необходимыми признаками языка, не являются, тем не менее, достаточными. Язык является еще и практикой, обслуживающей коммуникацию, т. е. процесс совместной адаптации людей к жизни, к миру, к обстоятельствам; кроме того, язык не столько выражает нечто напрямую, ведь на это и способны вокализации, выражающие боль или чувство удовольствия, но не являющиеся языковыми. Язык способен строить картины фактов, т. е. фактуальные высказывания, конструировать и отражать объективный мир. И если музыка сама по себе способна конструировать внутренний, убедительный мир музыкальных движений, то её способность к фактуальным высказываниям кажется сомнительной.
Безусловно, языком являются сигналы — тревожный звон колокола, призыв трубы, азбука Морзе. Однако там, где музыка становится способом сигнализации, она перестаёт быть собственно музыкальным явлением. Послание на азбуке Морзе не интересно нам с эстетической точки зрения, нам лишь интересна его семантика; там, где за звук обретает семантическое измерение, следовательно, он может утрачивать музыкальность.
Является ли музыка речью? Прямая формулировка этого вопроса отдает своеобразной неделикатностью. Мы постоянно слышим и сами говорим фразы вроде «музыка говорит нам…». Музыка, предположительно, вещает нам о чувствах, мимолетных состояниях души, судьбоносных символах и, наконец, о
Музыка позволяет многочисленные философские и околофилософские интерпретации, более того, она буквально принуждает каким-то хитрым византийством относиться к интерпретациям не как к «сделанному» интерпретирующим, но как к найденному, содержащемуся в предмете. Как воля, объективирующая себя в мире представлений, является бесконечной вереницей влечений, томлений, напряжений и «разрядок», так и музыкальная ткань состоит из последовательностей гармонических движений и стремлений, диссонансов, влекущих за собой гармонические разрешения. Только в отличие от воли, вечно вращающейся в колесе сансары, музыка является как бы невозможной грезой истерзанного духа по окончательному успокоению, ведь в музыке мелодии находят свою окончательную цель в достижении устойчивого тонического трезвучия через диссонансы и напряжения, точку, в которой успокаиваются окончательно все томления и беспокойства воли. Таким образом, музыка достигает своеобразной нирваны, состояния чистого и лишенного возмущений сознания, в отличии от воли, пойманной в ловушку мира. Мира, в котором нет ничего, кроме самой воли.
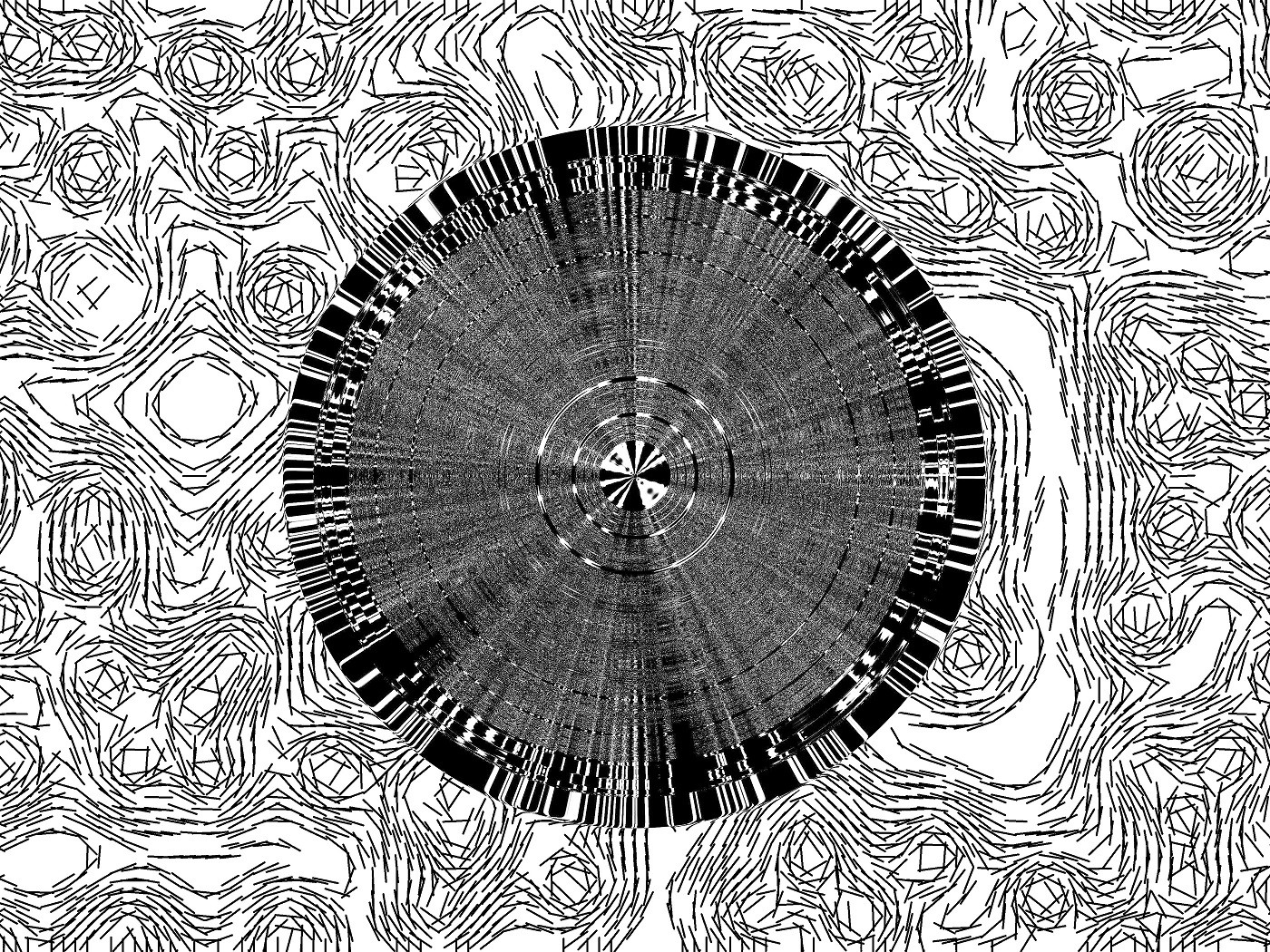
Интерпретации Шопенгаэура или других философов условно романтического толка не являются единственно влиятельными в истории музыки и, тем более, единственно возможными. Если выдающиеся умы видели за музыкой возможность выражать многое и даже невыразимое, можно ли ставить под сомнение то, что музыка — речь да еще и речь чудесная, быть может, подобная чему-то вроде волшебного языка творения, в котором между словом и референтом нет никакого зазора? Безусловно, у философствующего всегда найдутся вопросы на любые ответы.
Взгляд на музыку, как и на многие другие формы интеллектуальной человеческой деятельности, в определенном аспекте находится в континууме между двух полярных модусов. С одной стороны, музыка может быть понята как нечто производное, сводимое к…, чуть ли не как эпифеномен или иллюстрация — социальных процессов, эмоциональной жизни, понятий метафизики и теологии и так далее; сомнительные черты фигуративности в музыкальной ткани могут быть подчеркнуты и абсолютизированы. Таким образом понятая музыка становится речью, становится тем, что символизирует, становится повествованием с
Другой полюс — восприятие музыки как
Эти две полярности возможных интерпретаций не претендуют здесь на то, чтобы сказать что-то четко очерченное и основательное о природе музыки, тем более — окончательное.
Очевидное достоинство интерпретаций, тяготеющих ко втором полюсу — в том, что они учат нас определенного рода скромности. Не всякий может выжить в одиночестве в горах, лишь единицам доступны некоторые уголки нашей планеты и уж явно ни один человек не выживет вблизи солнц или в пустоте межзвездного пространства. Почему бы и царству музыки не иметь свою географию, отдаленные уголки которого доступны лишь редким странникам?
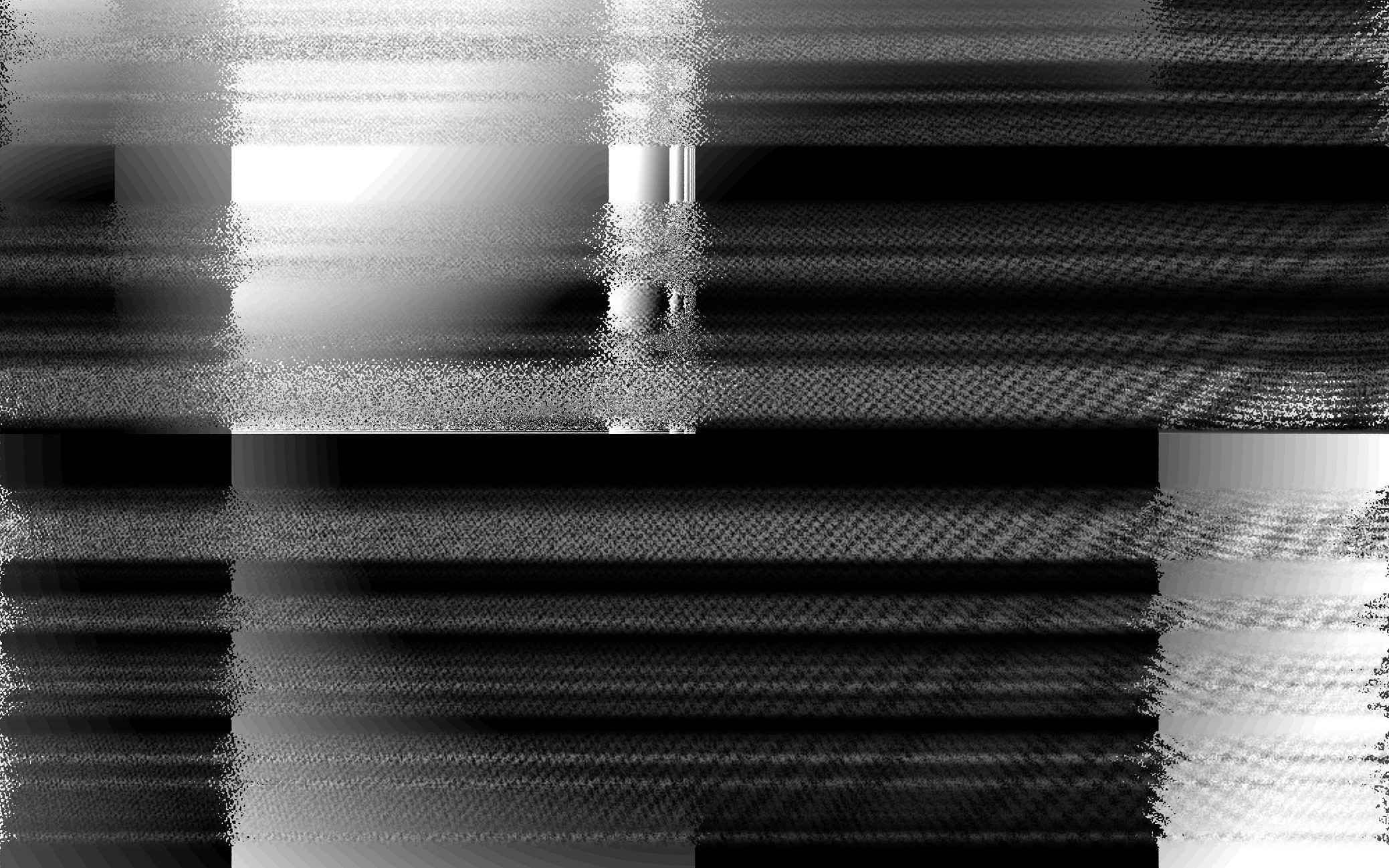
Очевидный недостаток — ее абсолютный характер. Чем более последовательно мы попробуем следовать второй точки зрения, тем скорее музыка превратится в подлинную тайну, в непротяженную точку. Ибо о каких ее внутренних закономерностях и вообще закономерностях мы сможем говорить, если постулируем ее предельно особенный и невербальный — точнее, не подобный вербальному — характер?
Итак, если музыка является речью, как подразумевает первый подход, может ли она выражать то, что не подлежит выражению с помощью обычного языка, «обыденного языка», т.е. может ли музыка выразить невыразимое? Нет, так как выражение предполагает наличие референтов и явной грамматической структуры. Какой референт у невыразимого, «трансцендентального», всеобщего? Более того, музыка не обладает чем-то, что могло бы быть взаимно однозначно ассоциировано с семантикой. Чтобы показать это, не вдаваясь в детали, достаточно спросить — каков минимальный самодостаточной смысловой элемент музыки? Музыкальное произведение целиком, в этом есть консенсус между различными философствующими теоретиками музыки. Это означает, упрощая и опуская некоторые детали, что музыка нечленораздельна, несмотря на то, что состоит из конкретных музыкальных структур — ритмов, мелодий, последовательностей динамик. Структуры музыкальной формы и композиционная структура не являются аналогами грамматики, так как выполняют иную функцию. Нечленораздельный вопль шамана тоже может иметь внутреннюю структуру, но не является высказыванием.
Если же музыка является чем-то особенным, обособленным, царством-в-себе, то тем более не может служить средством артикуляции чего-то отличного от самого себя, более того, она даже не может относится сама к себе как к референту. Она будет себя лишь, пользуясь понятиями Логико-Философского Трактата Людвига Витгенштейна, «показывать», но у нас не будет возможности выразить это явление, если мы последовательно будет придерживаться второго подхода.
Фрэнк Рамсей как-то остроумно заметил по поводу седьмого афоризма Логико-Философского Трактата, что то «что нельзя сказать, нельзя сказать никоим образом, нельзя даже насвистеть это». Однако в 6 главе Трактата Витгенштейн замечает, что «есть нечто невыразимое», «мистическое», и это то, что «себя показывает». Мы можем, соответственно, в отношении музыки хранить светлую и вдохновляющую надежду, что она является одним из способов, коим нам «показывает» себя мистическое, быть может, наиболее отчетливо и непосредственно. Однако эта надежда должна оставаться не более чем надеждой. Все попытки обосновать ее, если двигаться в русле витгенштейнианства, обречены на абсурдность по той простой причине, что то, что себя показывает, недоступно артикуляции ни в коем роде.
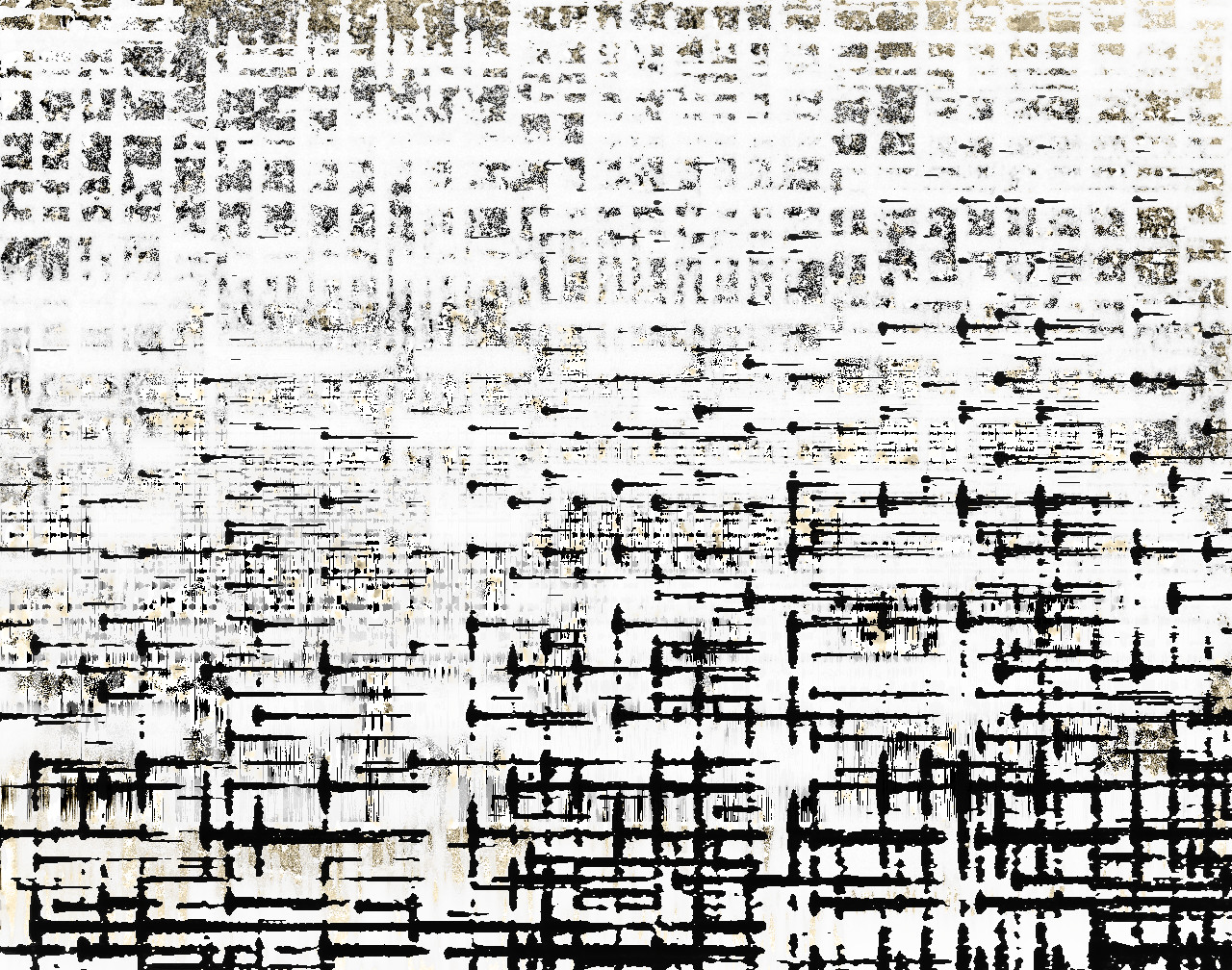
Итак, “what we can‘t say we can”t say, and we can“t whistle it either’”. Музыка не может помочь нам в том, чтобы сказать то, что не может быть сказанным. Однако она сама по себе может скрывать в себе тайну, быть тайной, быть тем, что лишь «показывает» себя и оставляет нам лишь в руках разочарования да культурные коды — studium, выражаясь языком Барта — при попытке схватить синюю птицу тайны за хвост.
***
Если статья показалась Вам интересной, вы можете послушать мою музыку на Bandcamp или на других площадках, я буду рад слушателям.
Также вы можете подписаться на мой телеграм-канал «Механика звука», где я публикую заметки о классической, современной академической и импровизационной музыке: https://t.me/classic_mechanics
