Интервью с Жаном Рушем
Перевод интервью, опубликованного впервые в 1978 г. в Film Quarterly, том 21, № 3. Интервьюер — Дан Якир.

В каком состоянии сейчас африканское кино?
Оно существует и развивается во всех направлениях, что вполне нормально для молодого, неспокойного (turbulent) кино. Что расстраивает меня, так это то, в каком направлении движется cinéma d’information, а именно, что оно развивается в сторону официальной политики воинственности. Усман Сембен — человек, который с этого пути сошёл, что меня, несомненно, радует. Его последний фильм, «Седдо» (1977), который он снял после «Халы» (1975), выступает против исламского империализма в Африке. Я считаю это возмутительным. Фильм был показан на Московском кинофестивале полтора месяца назад и не получил никаких наград по требованию арабских стран, которые утверждали, что фильм был направлен против ислама. Эти глуповатые требования не позволили ему получить приз. Как будто ислам не имеет ничего общего с Религией, этим опиумом для масс… Это хорошо, потому что мы выбираемся из нелепой ситуации, в которой ислам считается прогрессивной религией просто потому, что эту религию исповедуют рабочие-иммигранты в Европе.
С другой стороны, в Нигере, где я работаю, есть такой человек, как Мустафа Алассан, который также отошел от банального кино и сейчас находится в своего рода научном отпуске в Колумбийском университете. Значит, скоро появится что-то новенькое. Ему нужно отдалиться на определенное расстояние от Африки, чтобы снимать новое кино. Он в одиночку переизобрел кино, начав с создания собственной камеры из старого проектора диаметром 6 мм. Затем он работал в Национальном совете кинематографа в Монреале и изучал анимацию у Нормана МакЛарена. Потом вернулся в Нигер, чтобы снимать полноценное независимое кино. Голос у него грозный. И путь, которым он идёт, кажется мне важным.
Третий пример, который я могу Вам привести, — это еще один режиссер из Нигера: Инусса Уссейни. Он собирается снимать фильм о французской этнологии. Он учился в Туре, в
Итак, есть три совершенно разных направления в африканском кино. Я, конечно, не говорю об официальном кинематографе, главная опасность которого — это бюрократия. Я только что вернулся из Мозамбика, куда ездил по приглашению Института кино, чтобы представить несколько фильмов и поработать с некоторыми местными режиссерами. Думаю, что мой визит их немного встряхнул, потому что я призвал их не снимать фильмы о партийных съездах — уйти из официального кино. Все вместе мы сняли небольшой фильм, который является своего рода продолжением фильма «Вернись, Африка» (1959) Лайонела Рогозина о рабочих Мозамбика, которые возвращаются в свою страну с песнями и танцами. Думаю, я показал, что творчество повсюду, и каждый может снимать подобное кино, что нужно постоянно бороться с конформизмом, против общепринятых идей, и что необходимо будоражить людей. Если я и играю какую-то небольшую роль в африканском кинематографе, то это она и есть. Даже если мои фильмы будут подвергаться цензуре и критике…
А это случается часто?
Очень часто. Мой первый полнометражный фильм, «Я- негр» (1958), подвергся цензуре правительством Кот-д'Ивуара за то, что показал человека, живущего на улице, бродягу, а не адвоката или врача-буржуя. Французское правительство также пыталось запретить фильм в Африке, потому что в нём черный герой сражается с белым. В конце концов, показывать такое нельзя…
Мой второй фильм, «Человеческая пирамида» (1961), раскрывал тему расизма в школьной среде: между черными и белыми учениками. Опять же, проблема, о которой лучше не упоминать. Лучше вообще не вспоминать, что расизм существует. Фильм был запрещен во всей Африке.
С «Безумными начальниками» (1957) тоже все неоднозначно. Его критиковали британцы и молодые африканские интеллектуалы. Покойный сенегальский режиссер Блез Сенгор сказал мне, что, когда он выходил из театра в Париже, зрители смотрели на него, говоря друг другу: “Вот еще один, он собак ест!” Им потребовалось много времени, чтобы понять истинный смысл фильма.
Я считаю, что с цензурой надо бороться, даже с цензурой со стороны друзей. Например, «Ку-ка-ре-ку, месье Петух» (1974), хоть и не попал под цензуру, но считался скандальным: рассказывать смешную историю, когда в Нигере засуха, — это скандал. Но фильм был снят в регионе, где, по чистой случайности, лучше урожая и не было. Я думаю, интересно показывать то, что посреди стихийного бедствия есть и успех.
Я снимал эти фильмы, потому что считал это необходимым. Мне повезло снимать кино, не имевшее большого коммерческого успеха. Никто не обвинит меня в том, что, снимая в Африке, я нажился на работорговле.
Считаете ли Вы, что политические соображения менее значимы, чем социальные?
Нет, я думаю, что они оба важны, но у одного должно быть воображение. Социология ради социологии создает ужасный экранный материал, который мешает зрителям видеть проблемы. Итак, вы обладаете сознанием, вы отдаёте себе отчёт в том, что вы видите и т. д., но так как вы не применяете его [сознание], вы особо не обеспокоены. Иногда политическая идеология сама по себе неприемлема, независимо от того, какова ваша позиция: вы “правы”, а быть “правым” — ошибка, потому что проблемы не появляются таким образом. Человек никогда не бывает “прав” или “неправ” … бесполезно постоянно отстаивать свое собственное мнение: это всего лишь убежище. Я считаю, что это два больших препятствия на пути развития кино в мире. Воинственное кино, которое широко распространено в США, Канаде и Франции, всегда рассчитано на людей, у которых уже сформировалось свое мнение, поэтому такое кино бесполезно. Лучший политический фильм — «Приказы» (1974) Мишеля Брау, потому что он направлен на полицейских, то есть на врагов. Это их следует убедить. Думаю, именно поэтому нет ни одного настоящего и достойного фильма о мае 1968-го года.
А раньше?
Раньше да — у Годара был фильм «Китаянка» (1967), но в 68-ом он не смог снять ни одного фильма. Я тоже не смог, может быть потому, что занимался другими делами. Фильм снимали на улице, и его не стоило снимать — этим надо было жить. О 68-м нет ни одной хорошей книги. На информацию, изложенную в книге Кон-Бендита полагаться, не стоит. Единственная достоверная книга написана шефом парижской полиции, который рассказывает обо всем, что произошло. Май 68-го привел его в замешательство. Он был полностью согласен с
Даже сейчас, спустя какое-то время.
Думаю, нам стоит ожидать игрового кино. «Октябрь» (1927) был снят через десять лет после советской революции. «Потемкин» (1925) и «Октябрь» сильно отличались от реальности. Я думаю, что все придет со временем. Свидетели — это ужасно, как молодая девушка, которую засняли на видео в 68-м, и которая теперь видит это, десять лет спустя, будучи мещанкой… А такие фильмы, как «Лед» (1970) Крамера или «Парк наказаний» (1971) — ужасные. Это не то, что есть на самом деле.
Есть ли на данный момент во Франции стоящие фильмы?
Да. Я состою в комиссии жюри, которая ежегодно присуждает премию Жоржа Садуля лучшему художественному фильму, как французскому, так и иностранному. На протяжении последних четырех лет мы присудили награды французским фильмам, которые были в определенном смысле плохими, в то время как существовали прекрасные иностранные фильмы. В прошлом году мы присудили премию фильму «Тробрианский крикет» (1975) Джерри Лича и Гари Килдеа. Это был превосходных фильм, возможно лучший антропологический фильм последних лет. Он показал, как папуасы переняли крикет — колониальную игру, решив при этом изменить в ней все. Я не знаю, как много людей в команде по крикету, но они решили заменить кожаный мяч на деревянный. Так что, если вы получите удар, это будет травмоопасно. Как только появляется риск, игра становится значимой. Папуасы решили, что фланелевые брюки не очень практичны для крикета, поэтому они переоделись в свою старую военную форму, которая подчеркивает различные сексуальные символы, например, лингам и тому подобное. Слоган этого фильма — «Гениальный ответ колониализму».
В этом году у нас хороший “урожай”, и я надеюсь, что мы вручим приз выдающемуся кинорежиссеру, фотографу агентства GAMMA Раймонду Депардону. Он стал довольно известным во Франции после того, как снял фильм о мадам Клаустр, которая два года находилась в заключении в Тибести. Он снял два фантастических фильма: один о предварительных выборах президента Жискара-д'Эстена, то есть это портрет президента, который снят в прямом кинематографическом стиле как у Ликока, и новый фильм о рождении левой газеты под названием Le Matin de Paris, который вышел за три дня до публикации первого издания. Безжалостный фильм о прессе. Это было настолько жестоко, что теперь он хочет снять картину о фотографе информационного агентства, чтобы показать, что он может быть таким же строгим и по отношению к себе.
Кто-то вроде Риветта?
Конечно. Мне очень нравится «Дуэль (карантин)» (1976) — это прекрасное кино. И он продолжает работать… Трюффо — это очень странный случай: он следует своему собственному пути, он испытывает взлеты и падения, однако у него есть обаяние, шарм. Также великий мастер Луис Бунюэль, которому даже лучше, чем Маргарет Мид, удается оставаться таким молодым. Это невероятно.
И видеофильмы Годара.
Я считаю их очень интересными, но я думаю, что Годар обязан пойти еще дальше. Это единственная его проблема, он, возможно, является самой фантастической персоной в мировом кино. Он был на пике международного успеха и решил оставить все, чтобы заняться экспериментальным кино. К сожалению, его здоровье очень нестабильное, поэтому он не может делать все, что хочет. Например, пять месяцев назад он уехал в Мозамбик. Он пробыл пятнадцать дней в отеле и ничего не мог поделать. Он был настолько утомлен, что ему предложили возместить стоимость его авиабилета. Это не его вина. Но я также думаю, что он совершил ошибку, отправившись на Гранолу, потому что это возвращение к источнику, недалеко от Швейцарии, и такой швейцарец, как он, должен быть полностью денационализирован и уехать в Париж. Но он продолжает, и созданные им “коммуникативные фильмы” прекрасны.

Почему Вы выбрали для съемок своих фильмов именно Африку?
Это не случайно. Во время войны я был арестован немцами, и единственным способом покинуть Францию было найти работу за пределами зоны оккупации. Будучи инженером-строителем, я нашёл работу в Африке, и был направлен в Нигер в 1941 году. Год спустя я был выслан губернатором режима Петена как голлист и отправлен в Дакар.
К счастью, к тому времени американцы высадились в Северной Африке. Видите ли, я каталонец, а когда нам что-то запрещают, единственный возможный путь для нас — это пойти и сделать это. После войны в Нигере был всё тот же губернатор, просто в другой форме.
До того, как окончить школу, я изучал антропологию, поэтому я снимал свои фильмы там. Я также знал людей оттуда: Дамура (Зика), с которым я снимал «Ку-ка-ре-ку, месье Петух»! А с Месьё Пуле — который занимался звуком для «Безумных начальников» — я знаком с 1942 года. Тридцать пять лет дружбы незаменимы. Мы старые приятели и вместе мы можем сделать всё что угодно.
Вы вернулись в Париж в 60-е для съемок «Хроники одного лета» (1961) и «Парижа глазами…» (1965). Почему? Это какой-то другой период?
Нет. Это потому, что Эдгар Морен предоставил мне возможность снять фильм в Париже. Он сказал, что мне не стоит снимать кино исключительно в Африке, и надо посмотреть, что происходит в моей собственной стране, которую я почти не знаю. Я провёл большую часть времени в Африке, а когда я приезжал во Францию, то занимался либо написанием докторской, либо производством моего первого фильма, так что я совсем не знал свою родную страну. Это меня заинтересовало. Очень сложно снимать фильм с совершенно чужой группой. Но сейчас я бы снова хотел попробовать.
Это игровой фильм, в котором я планирую снять Жана-Пьера Бовиала, друга Годара, который создал самую лучшую в мире 16 мм камеру. Он хочет изобрести крошечную портативную видеокамеру, чтобы у режиссера была возможность снимать одной рукой. Я буду его снимать, наделяя его жизнь вымыслом — видите ли, он очень несчастен. Кудельски, который изобрел Nagra, был замечательным человеком, довольным жизнью и имеющим страсть к путешествиям. Но после создания Nagra, ставшим лучшим звукозаписывающим устройством в мире, он стал бизнесменом, таким же, как и все они — грустным и печальным.
Проблема Бовиала в том, что если он вдруг достигнет успеха, то больше не будет существовать Sony или GE — только его собственная кинотехника. Он будет самым важным начальником в мире, но он также перестанет быть Жаном-Пьером Бовиалем, а ему этого совсем не хочется. Так как это огромная проблема для него, то я предложил ему роль в фильме (который я планирую снимать в этом году), основанном на идее Хью Грэя, преподающего режиссуру в
Самые большие проблемы у меня с музыкой и танцами. Я нашел сумасшедшего парня, который изучал музыку в Индии и обнаружил, что современную музыкальную систему там гораздо легче освоить, нежели классическую западную. Он открыл мастерскую в порту Сент-Назера, где он строит лодки вместе с португальскими, североафриканскими и французскими рабочими. Он научил их индийской музыке, и они поняли, что могут создавать музыку с помощью материалов верфи: вид ситара с металлической тарелкой с потрясающим резонансом. Жан-Пьер хорошо вписывается в тему индустриального общества — подходит для исполнителя роли Орфея. Сейчас нам нужно отыскать танцора, что является большой трудностью. В Африке достаточно просто играть музыку, и африканцы будут красиво танцевать, несмотря ни на что. Если же мы обратимся к таким танцорам, как Бежар, это будет претенциозно и плохо. Может быть мы воспользуемся американской труппой в Париже.
Мне кажется, Вы все больше и больше интересуетесь созданием игрового кино.
На самом деле, нет. Игровые фильмы — это мои каникулы. Я делаю один художественный фильм на пять или шесть документальных. Для меня документальные и художественные фильмы равны. Например, я планирую сделать фильм-портрет Маргарет Мид. Для меня она то, что мы в антропологии называем «тотемным предком», так что мы уже погружаемся в воображаемый мир. Я знаю, что результатом съемок нашего диалога является художественный фильм о мире, США, о наших мыслях, мечтах и т. д. Я буду провоцировать Маргарет Мид на камеру, брать у нее интервью и одновременно снимать. И съемки будут длиться либо 10 минут, либо пока мы не устанем. Мы не будем знать заранее, что будет в конце. Вывод как-нибудь придет. [прим. ред.: фильм-портрет Маргарет Мид был снят в 1977 году и показан на первом кинофестивале Маргарет Мид, звуковое сопровождение Джона Маршалла.]
А что насчет фильма «Бабату» (1976)?
Исторические художественные фильмы очень амбициозны. Но они также очень субъективны, поскольку история рассказывается с двух разных точек зрения, обе из которых ложны. Правду никогда не скажут, особенно о войне. А в исторической науке всегда говорят о войне, хотя никто не может сказать правду. Люди всегда лгут. В фильме один из героев вынужден сказать своему сыну о необходимости идти на войну, хотя знает, что это ужасно. Думаю, такой фильм снять тяжело. «Бабату» вызвал много споров в Африке, потому что показал, насколько африканские войны абсурдны по своей природе. На самом деле, когда я снимал его, то много думал о «Карабинерах» (1963) Годара. Мне довелось участвовать в войне, так что я знаю о ней не понаслышке. В 1945 году это было необходимо, но говорят, что это всегда необходимо. Итак, говорить, что африканские войны прошлого столетия были нелепыми — это предубеждение против африканской культуры — странно, что люди будут гордиться своими войнами!
Фильм «Мост слишком далеко» (1977) полностью разрушает героя Монтгомери, которого весь мир считал богом, и который на самом деле оказался идиотом. Я уверен в этом, иначе он никогда бы и не стал генералом. Это представляется возможным в нашей цивилизации, но как можно говорить, что африканские войны были глупыми? Это оскорбляет африканцев… Поэтому, мне кажется, что нужно уточнить: для Бабату и остальных сила была важна. В фильме показано, что могло произойти в такой рабской войне, в которой не было мертвых. Мы показываем войну как своего рода спортивный турнир, как слова и оскорбления, а не действия. Созданные людьми эпос, фольклорная традиции — шоу менестрель — в корне неверна. Они говорят, что были убиты тысячи людей, а в фильме показан только один или два погибших. Вторая, по-настоящему достоверная история никогда не рассказывается широкой публике, продолжая циркулировать среди самих убийц.
Риветт сказал мне, что это был единственный интересный фильм, который он смотрел в прошлом году.
В Каннах. Да, он принял его довольно тепло.
Какую связь Вы видите между объективным и субъективным в синема верите?
Такую же, как и в гуманитарных науках. Когда ты наблюдаешь за людьми, ты непроизвольно присутствуешь, и с этим ничего не сделаешь; происходит искажение истины. Гуманитарные науки ужасно субъективные. Даже когда ты используешь компьютер: то, как поставлен вопрос, влияет на ответ. То, как снято, влияет на то, что ты снимаешь. Может быть, поэтому я работаю с очень маленькой командой и хочу сам быть оператором: чтобы быть субъективно ответственным за то, что я снимаю. Мое правило съемки простое. Когда студенты спрашивают меня, какова должна быть длина эпизода, я отвечаю: “Нажмите клавишу ‘СТОП’, когда Вам станет скучно. И все.” Когда мне становится скучно, я начинаю использовать зум и т.д., что, я знаю, позже обрежу.
То есть, Вы пытаетесь быть объективным, но, как и все…
Это невозможно… Я категорически против того, что Вертов, которым я в остальном восхищаюсь, сказал о неожиданном (unexpected) кино. Я считаю, что скрывать камеру — отвратительно и нечестно. Я все чаще использую то, что называю “контактной камерой”: близкий фокус и широкоугольный объектив, чтобы быть ближе к людям. Новые линзы Zeiss Optagon превосходные: в 16 мм ты получаешь очень широкий угол, который позволяет добиться колоссальной близости, и камера не производит ни звука. В такой момент камера становится третьим персонажем: сочетание “камеры-участника” Флаэрти и теории Вертова. Тут можно сделать синтез. Объективность линзы заключается в том, что она может быть дополнительным инструментом, невероятным стимулятором как для наблюдаемого, так и для наблюдателя.
Бовиала работает над односистемной камерой диаметром 6 мм, полностью автономной, которая позволяет одновременно записывать звук, адаптируя для автоматического звука процесс, используемый в Super 8. Если это сработает, думаю, кино и телевидение никогда не будут прежними. Это будет настоящий диалог лицом к лицу, записанный камерой размером с магнитофон. В команде не будет необходимости. А “жертва”, христианин, поглощенный львом, т. е. камера… Кино станет совершенно субъективным.
Когда мы работали над «Хроникой одного лета», он подорвал все ранее использовавшиеся телевизионные приёмы. С тех пор, люди начали ходить с камерой, и дошли вплоть до той нелепой точки, когда они снимали на 35 мм, с камерой на штативе. Они немного встряхивали штатив, чтобы изображение двигалось, как если бы его держали в руках…
Депардон уже использовал этот метод, снимая рождение Le Matin de Paris со звуковой камерой, к которой он прикрепил микрофон и небольшой SL Nagra. Он был один среди журналистов, и результат получился потрясающий.
В моих съемках почти всегда участвует звукорежиссер. Но в Африке, когда я снимаю в Мали с догонами, звукорежиссер — догон. В Нигере со мной работают два или три местных звукорежиссера — я никогда не использую иностранцев.
Итак, объективность состоит в том, чтобы вставить то, что известно в то, что снимается, вставить себя с помощью инструмента, который спровоцирует появление определенной реальности. Здесь я присоединяюсь к теории Флаэрти, который, на самом деле, был скорее человеком практики, нежели теоретиком. Меня часто упрекали в том, что я говорю о синема верите. О «Хронике одного лета» говорили, что это не может быть правдой, что правда не существует в кино. Когда Вертов говорил о «Кино-правде», это была не просто съемка журнала Правда. Это была попытка найти Истину. Однако, он сказал это очень четко: ciné-verité — это правда кино, правда, которую можно показать в кино с помощью механического глаза и электронного уха. Когда у меня есть фотоаппарат и микрофон, я не в своем обычном состоянии, я нахожусь в странном состоянии, в
В «Охотниках на льва» Вы показываете пригласительное письмо.
Американская версия фильма была урезана прокатчиком на 20 минут. В этих 20 минутах, в которых я сыграл субъективную роль, рассказывалась вся история фильма. Повествование на французском языке само по себе очень субъективно. Ну например, когда я говорю, что горы, мимо которых мы проезжаем, “забытые“ и мы зовем их ‘Горами Луны’, “кристальными горами” — это все лишь мои воспоминания. Это страшно субъективный фильм. К тому же, я постоянно показываю в кадре машину, хотя и причины в этом никакой нет.
И в то же время, в фильме присутствует дистанция: когда львица умирает, мы наблюдаем за этим с расстояния, с уважением…
Да, но я соблюдал дистанцию
Между тем, сцена смерти очень красивая по сравнению с таким отталкивающим фильмом, как «Собачий мир» (1962).
Да, но это лишь точка зрения. Фильм снимался очень долго, и за это время я пытался понять, что происходит вокруг меня. У охотников была своя “привилегия” призывать смерть животных, но это очень рискованное занятие. И это действительно так: охотник, который убил львёнка, на следующий год потерял своего собственного сына. Я хотел показать, что есть некая особенная связь между охотником и его жертвой.
Более того, на меня повлиял старый американский научно-популярный фильм 1932-го года, «Самая опасная игра», снятый Эрнестом Б. Шодсаком. Два богатых американца, парень и девушка, застряли на острове в Тихом океане, где они встречают русского графа, играющего на пианино и выдающего себя за охотника. Он сообщает им, что охотится на мужчин. Он дает им двухдневную фору, а также предоставляет юноше нож для самозащиты. Сам он охотится с луком. Тот, кто выиграет, — получит в качестве награды девушку. Это замечательный материал для Фрейда — взаимоотношения между охотником и жертвой.
У льва в моем фильме есть имя, его знают, любят и почитают. Львицу тоже очень уважают, потому что она была повержена. После съемок фильма я больше не мог охотиться. Но что самое интересное, так это то, что мы никогда не видим льва в кадре: он где-то рядом, сливается с растительностью и всегда скрывается от глаз. Его присутствие ощутимо.
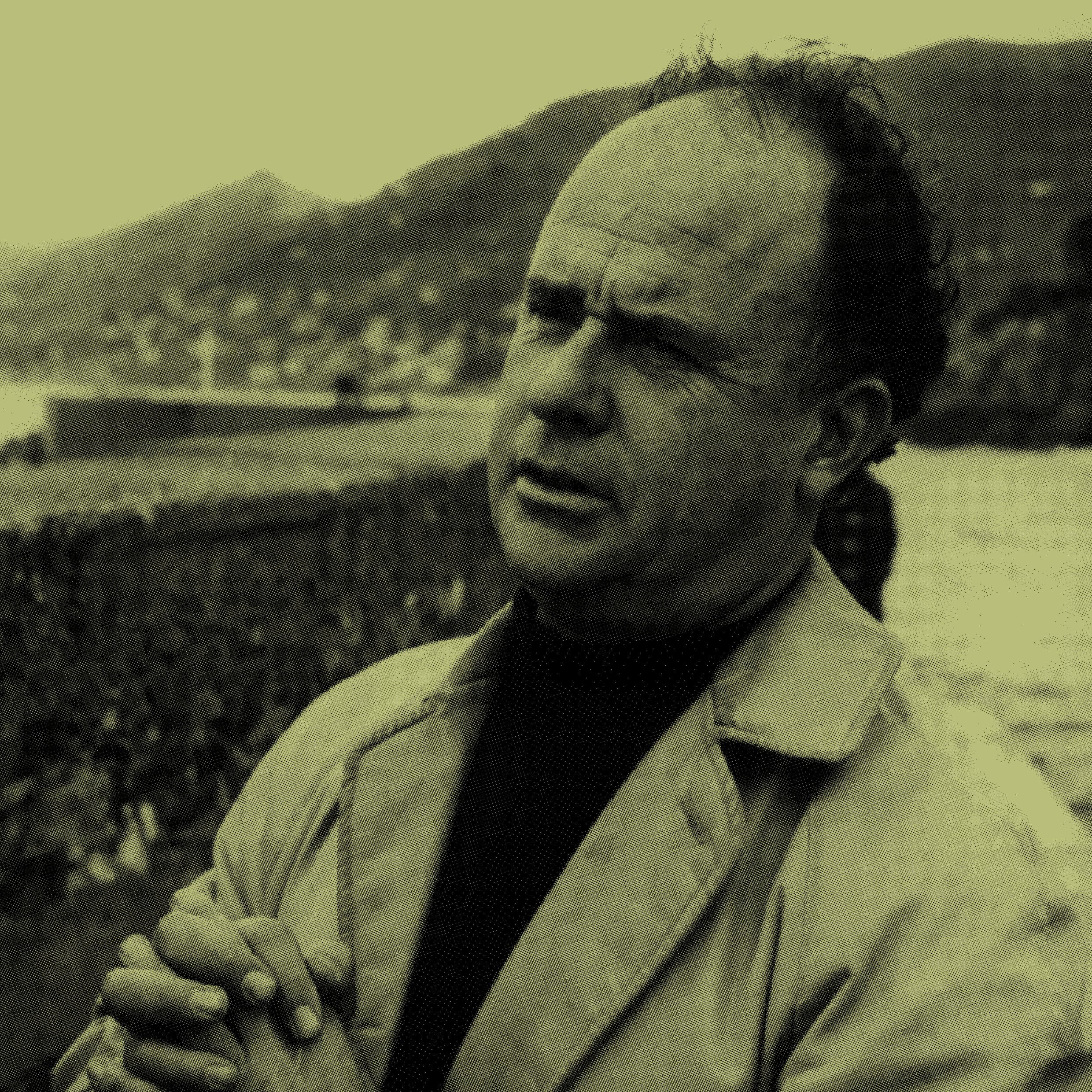
Что насчет Ваших съемок в «Хронике одного лета»? Там мы преимущественно видим Морина.
Всё потому, что я большую часть времени был за пределами объектива камеры. Возможно, это было немного лицемерно с моей стороны: все люди в фильме были друзьями Морена, а я был своего рода наблюдателем, имеющим объективный взгляд на всё. Это не очень хорошая роль. К слову об отношениях между Мореном и молодыми левыми интеллектуалами, — с тех пор он как раз покинул французскую коммунистическую партию… Я был в ужасе от этого фильма: эти люди, Режис Дебрэ и другие, все были в отчаянии в свои двадцать лет. Единственный человек, который хорошо проявил себя в фильме — это Марселин. Вначале она достаточно застенчива, но в конце концов становится настоящей актрисой. Необычайное преображение.
Я был глубоко впечатлен сценой, в которой она гуляет в
Это первые два кадра, которые мы сняли с помощью Brault. Мы открыли новое кино. Внезапно мы стали заниматься тем, к чему так долго шли и стали снимать Arriflex со штатива, что, кстати, не очень мне понравилось. Поэтому я сказал Дауману, продюсеру, что нам нужна новая камера, и что мы должны пригласить Мишеля Бро, который мог бы нас чему-то научить.
Это была авантюра в чистом виде. Мы не знали, что должно было случиться. Мне понравился Ле-Аль, который был разрушен господином Помпиду. Это было прекрасно: в августовское воскресенье здесь было пусто. Мы выбрали Площадь Согласия, где не могли разобрать, что говорит Марселин, так как магнитофон был у нее на ее шее. Она была единственной, кто слышал свои собственные слова. Мы хотели понаблюдать за ней с другого ракурса, и Браул сказал, что нам следует поставить камеру на заднее сиденье Renault 2cv. Мы запустили мотор и разогнали его до такой степени, что он заглушал голос Марселин. Никто не смотрел в видоискатель: мы не знали, какое изображение мы в итоге получим. Это было сюрреалистично, потому что мы делали это неосознанно. Марселин, прочувствовав атмосферу, стала думать о вокзале, а когда мы вернулись, она разговорилась о своем брате и вокзале, откуда его депортировали… Она была абсолютно искренна, и когда позже сказала, что лишь играла, она стеснялась и хотела казаться выше всего этого. Снимать такой фильм немного рискованно.
Получается, это была психодрама?
Да, и это изменило их жизнь. Для Марселин это было нормально. Она стала женой Йориса Ивенса и вместе с ним снимала подобные фильмы о Китае. Режис Дебрэ уехал на Кубу, чтобы снять фильм о Че Геваре. Жан-Пьер Серджент (возлюбленный Марселин в фильме) также решил остаться в кинематографе: он сделал репортаж об Алжире с Марселин во времена Бена
Беллы, но тот был запрещен
Фильм напрямую повлиял на всех, кто в нем участвовал, разве что кроме рабочего Анджело.
Да, и Марилу стал фотографом Бертолуччи и Годара, а также снял фильм в Риме.
«Хроника одного лета» оказала невероятное влияние на Новую волну. Да, это было прекрасно. Мы играли с огнем.
Несколько слов о вкладе Новой Волны в Французское кино.
Как по мне, она ознаменовала момент, когда французское кино выбралось из ежовых рукавиц киноиндустрии и превратилось в искусство. До Новой Волны было невозможно снять фильм: нельзя было купить 35 миллиметровую пленку без разрешения Национального центра кинематографии и анимации. Когда Мельвиль снимал «Молчание моря» (1949 г.), ему приходилось красть пленку. Новая Волна стала первой реакцией на ужасную угрозу искусству — корпоративизм. Когда корпорация защищает себя, не позволяя вмешиваться другим, как было в случае кино, это как раз то, что мы французы называем «le fils d’archeveque» («папенькин сынок») или сын архиепископа: предположим, что ты вынужден принадлежать какой-то банде, и тебя в нее допустили, только потому что в ней состоит твой отец. И вдруг Новая Волна заявляет: “Мы будем снимать фильмы без декораций, актеров, официальных разрешений и даже практически без камер”.
Человек, который сыграл определяющую роль во всем этом — это Роберто Росселлини. Он приехал в Париж с Ингрид Бергман и сказал нам: “Вы можете снимать то, что вы хотите, я найду вам деньги в США и Италии.” Он попросил каждого из нас рассказать свою историю. Мы мечтали вместе с ним в его отеле и делали все, что могли. Однажды он просто исчез, у нас не было ни денег, ни фильмов, но мы уже успели подготовить наши проекты. Он оказался для нас настоящим стимулятором. Этот безумец дал толчок первым фильмам Реветта и Годара. Мы до глубины души любили Роберто. Он был для нас Богом. Он говорил: “Вот и все! Старое кино умерло! Ваше время пришло!”.
Новая Волна открыла эту для нас эту дверь, но, к сожалению, сейчас она снова закрыта. Люди бояться сделать ошибку, рискнуть. «400 ударов» (1959 г.) Трюффо заработали $800,000, которые он мог инвестировать в будущие фильмы. И так он стал бизнесменом. Годар мог бы попасться в эту ловушку, но будучи совершенно безумным, он смог ее избежать.
Мне повезло, и мои фильмы не имели коммерческого успеха. Я был оплачиваемым исследователем для Национального центра научных исследований, поэтому я мог делать все, что угодно и идти на любой риск.
Сейчас нет Новой Волны, но она вернётся. Сейчас она на стадии формирования. Точно так же, как
Александр Астрюк в начале Новой Волны говорил о «камере-стило» («камере-ручке»). Сейчас у нас есть «камера-карандаш», которую любой может взять в руки. Священные леса Голливуда перестают быть монополией в кино.
Ваша камера в «Ку-ка-ре-ку, месье Петух» более подвижна, нежели в «Охотниках на льва». Почему?
В «Охотниках на льва» мы использовали старую технику Bell & Howell, которая была очень громоздкой. Я старался не перемещать ее слишком часто, так как она могла застрять где-нибудь на половине пути, именно поэтому я снимал очень короткие кадры — максимум по 20 секунд. В «Ку-ка-ре-ку, месье Петух» я использовал камеру с электрическим мотором, которая каждый раз давала мне 10 минут автономии и позволяла снимать длинные непрерывные кадры. Открытие системы синхронизации — это как открытие прямого эфира в фильме. Моя мечта — это научиться начинать снимать за несколько минут до кульминации. «Ку-ка-ре-ку, месье Петух» полностью сделан из длинных непрерывных кадров: словно в кинохрониках, мы никогда не останавливались. Мы монтировали его, но совсем чуть-чуть.
А разве не субъект диктует, как камере двигаться?
Не знаю, не следует связывать это напрямую. Если ты начнешь строить теории о моем фильме, ты проиграешь. Тебе лишь нужно следовать за движением. А если появляется теория, то уходят и импровизация, и креативность. Я очень удивляюсь, когда читаю, что в Кайе дю синема пишут что-нибудь о моих фильмах. Даже если там написано что-то стоящее и правдивое, я считаю, что это абсолютно бесчувственно. Я предпочитаю называть это “кино-транс”. Когда у меня в руках камера, я становлюсь совершенно другим человеком, поэтому не спрашивайте почему я сделал то, что сделал.
То есть это, скорее, что-то эмоциональное, нежели интеллектуальное?
Конечно. Ты снимаешь фильм сердцем, а не головой. Это очень важно понять. Что вы думаете о документальных фильмах Криса Маркера и Луи Маля? Цикл Маля про Индию просто потрясающий. Эти фильмы самые красивые из
В ваших фильмах Вы соотносите форму и посыл?
Конечно. Если нет посыла, то нет и формы. Я всегда настороженно относился к красивой фотосъемке. Это означает, что внутри пустота. Красота в сути, которая выходит наружу: внезапно вспыхивает эмоция, и это происходит совершенно неожиданно. Меня всегда впечатлял сюрреализм. Я верю в случай. Мне удаются самые красивые снимки, когда мой люксметр указывает на отсутствие света. Ни один фотограф не стал бы снимать, но я все равно делаю это, и
Почему Вы предпочитаете работать с коллаборационистами и
Нет, я предпочитаю это, потому что есть много того, чего я не знаю. Я не знал ничего о Франции в 1960-ом, поэтому со-директором был Морен. «Ку-ка-ре-ку, месье Петух» — это произведение нашей с Дамуром и Ламом коллективной импровизации. У каждого из нас была своя роль, как в
Говоря о музыке, может ли музыкальный ритм диктовать ритм сцены?
Нет, никогда, только если музыка является частью самой сцены. Я редко использую фоновую музыку, кроме фильма «Охотники на льва»: там есть немного гитарной музыки, которая создает воинственную атмосферу и повторяется в «Бабату». Она придает эпичности. Это показатель чего-то большего. Но я терпеть не могу музыку в фильмах — это как милые картинки на обертке, как если бы это был рождественский подарок: дешевый, но в красивой упаковке. Важно то, что внутри. Вот роль музыки в кинематографе, но только не в западном. Там она придает эпичности — это показатель фальши. Всё, что заявляется как фальшь, сопровождается музыкой.
Вы оптимист?
Конечно, а Вы?
Иногда.
Почему иногда?
Бывают сомнения.
Сомнения и есть оптимизм. Нет ничего более пессимистичного, чем пуританство. Когда ты сомневаешься — всё возможно.
Перевод подготовлен киноклубом «вечер»
