Догматичность морали. Метаэтика.
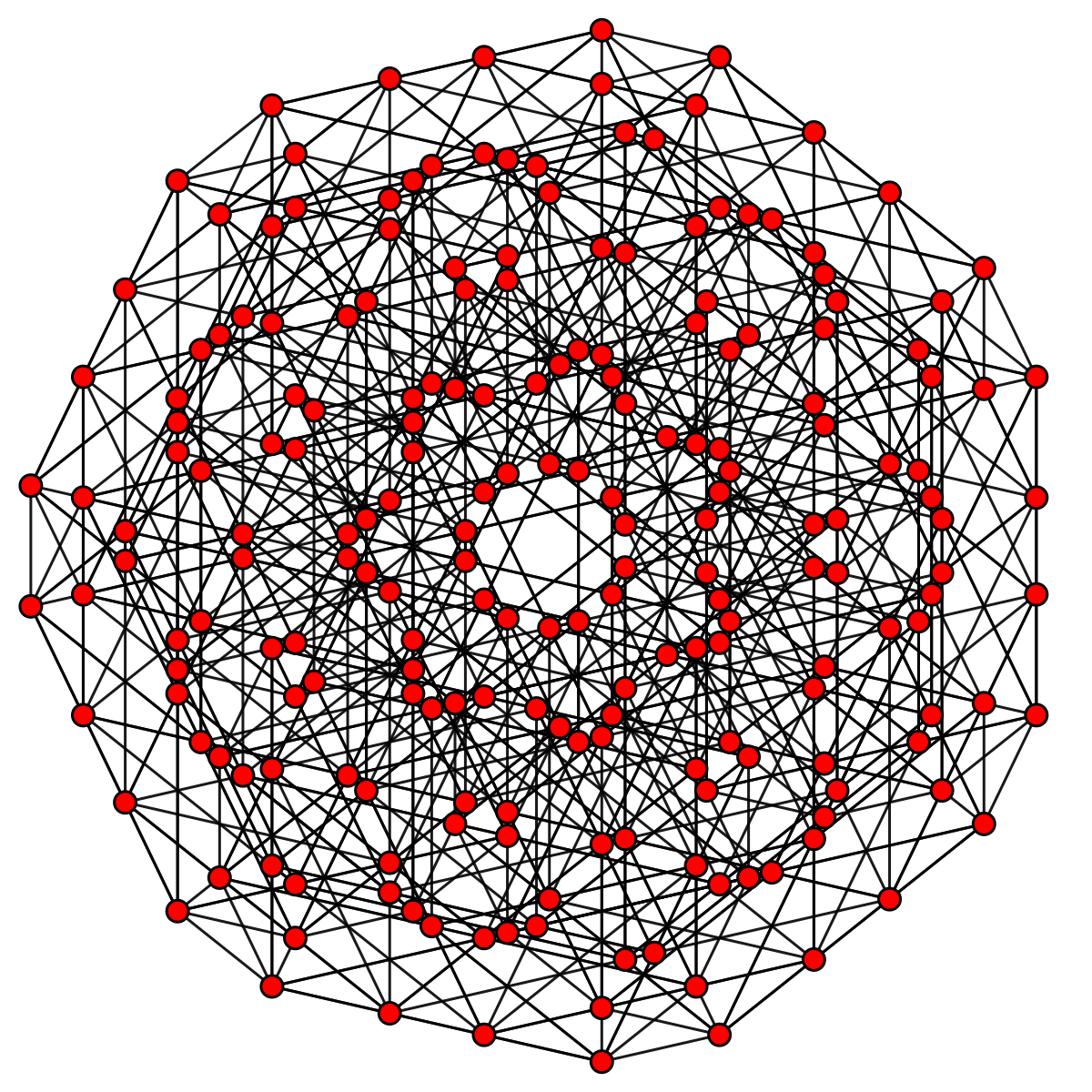
Предметом изучения этики является мораль. Мораль-этика сводится к вопросу «Как поступать хорошо?». Буквально, это бинарное разделение на плохое и хорошее, что уже серьёзно упрощает действительность. Однако, несмотря на такой явный недостаток, я проведу всесторонний интегральный анализ явления морали-этики.
Этика как историко-социальная догма.
Мораль-этика предлагались нам как инструмент, посредник между мыслью и действием. При этом, они не исходят из мысли как таковой. Этика, являясь философской дисциплиной, все была больше дисциплиной, чем философией. Причём не в значении научной дисциплины, а как самостоятельное нормативное направление. Если прочие философские направления действительно имеют какую-то методологию, хоть и ограничены предметом мышления как догмой, то мораль-этика догматичны целиком. Они являются не изучающими дисциплинами, а предписывающими. Цель морали-этики не познание, а предписание.
Формирование предписывающих моделей этики происходило в рамках исторических дискурсов. Причём измерение власти в формировании этико-моральных концептов настолько первостепенно, что это выражается в банальном межличностном отношении родитель-ребёнок, где первый навязывает последнему свою модель посредством воспитания.
В прочем, всем известно, что человек не теряет субъектность, даже находясь внутри заданных моделей исторических дискурсов, власти. Смена эпистем начинается с "революции одного человека" — резкого теоретического сдвига, эпистемологического разрыва, возглавляемого философом. Но в рамках этики как синтетического конструкта субъектность ограничивается либо выбором веры в те или иные этические конструкты, либо отрицанием доминирующих, чем напоминает больше подростковый бунт, нежели философское развитие.
Таким образом, этика своей императивной конфигурацией ограничивает субъектность. Относительно неё неприменимы никакие иные методологические модели, кроме веры и бунта.
Этика как насилие над индивидуальностью.
Индивидуальность человека плотно сопряжена с его действиями. Люди поступают по-разному, ввиду разного набора жизненного опыта, установок, желаний и прочих мировоззренческих предрассудков. Действие человека всегда имеет какую-то цель, отвечающую им.
Этика, входя в пространство действия, диктует универсалии: «следуй долгу», «максимизируй благо», «развивай добродетель». Причём, любая этическая догма мало соотносима с индивидуальностью, поскольку действия человека основаны на отличной от этики комплексной системы, имеющую в основе не нормативные универсалии, а личный опыт и жизненный контекст.
Этические конструкции стремятся редуцировать сложность индивида до универсального принципа, тем самым воплощая насилие над собственным субъектом. Через тот же властный, историко-социальный дискурс синтетическая мораль навязывается человеку.
Сама же синтетическая мораль, ввиду её несоотносимости с жизненным опытом, ставит человека, пришедшего к ней самостоятельно, пользуясь остатками субъектности, в то же положение. Навязывание универсалий самому себе является самоуничижением.
В этом заключается фундаментальная подмена: под видом «нравственного» выбора этика предлагает отказ от подлинного выбора. Субъект, действующих в рамках морали, занимается насилием над собой. Это делает мораль глубоко неэтичной по отношению к самому человеку. А если мораль-этика так противоречивы, то нужна иная модель.
Интегрализм. Контекст вместо морали.
Интегрализм не предлагает систему ценностей, не навязывает "хорошее и плохое". Интегрализм — это система, утверждающая структуру рассмотрения действий и утверждений в различных контекстах. Это исходит из его глубокой онтологической основы: истина — это пересечение всех правд; правда — то, что верно в том, что оно определяет. И нет никакого противоречия между разными утверждениями, есть разный контекст. Предел контекста — предел истины.
В пространстве действия всякое действие является верным в своём контексте, своей перспективе. Оно является не правильным, а именно верным, так как оно свершено. Вопрос не в абсолютно правильном действии, а в нашей рефлексии над ним. Изучение контекста собственного действия, диалектическая контекстуализация "противоположных" действий:
Не «не делай так, потому что так надо», а «почему я делаю так?». Рефлексия над собственными действиями с метапозиции, несоотнесённость с бинарной системой этики — это признаки метакогнитивности. Можно сказать, что это единственная "добродетель", выведенная мной. Изучение контекста, осознание собственного догматизма действий и помышлений способствуют учёту многих позиций, ввиду чего действие человека становится интегральным.
Этика в интегрализме не уходит на второй план, а становится метаэтикой, цель которой не предписание, а познание, через осознание догматизма и рефлексию. Интегрализм не подменяет свободу универсалией. Он возвращает человеку мышление — не как акт морали, а как пространство самопонимания.
Я осуждаю этику не потому, что она ошибочна, а потому что она ограничена. Интегрализм не читает нам мораль, он предлагает нам новый способ мышления: не что делать, а как понимать, что делаю.
