Правда художника: проблема символической власти.
Введение в новую теологию искусства (1)
Единственно адекватное отношение к свободе в человеке есть самоосвобождение свободы в человеке.
М. Хайдеггер
…Собственное бытие произведения искусства состоит в том, что оно становится опытом, способным преобразить субъект.
Х.Г. Гадамер
Не то, что есть, побуждает к творчеству, но то, что может быть; не действительное, но возможное.
Р. Штейнер
Измена художника
Основной пафос радикального искусства, отчаянно, упорно и безнадежно сопротивляющегося все нарастающему давлению социума, обусловлен фактом беспросветного отчуждения художника в капиталистическом мире… Не осознав причину отчуждения, невозможно стратегически «перехитрить» субверсивную мудрость жрецов Капитала как абсолютного «царства чистого количества». Здесь, казалось бы, нужно оговориться, уточнив, о каком именно отчуждении идет речь, но, думаю, это слово говорит само за себя. Не затрагивая марксистские коннотации этого понятия, уточню лишь, что в контексте данной статьи речь идет об отчуждении художника от своей собственной правды. Но что это за ПРАВДА ХУДОЖНИКА?

Размышление на эту тему я предварю зарисовкой-наблюдением из недавнего персонального опыта. Это поможет нам органично «войти в тему».
В мае 2007 года в греческом городе Салоники проходила I Международная биеннале по современному искусству на тему: «Гетеротопии. Другие пространства», кураторами которой выступили Катрин Давид, Ян-Эрик Лундстром и Мария Цанцаноглу (2) Мероприятие прошло так, как оно и должно было пройти в нашу глянцевую эпоху: со всевозможными презентациями во главе с высокопоставленными греческими чиновниками, забавной наукообразной конференцией, изданием большого количества буклетов, открыток, газет и, наконец, толстого красочного каталога. Да, чуть не забыл, — и обильными средиземноморскими фуршетами. Одним словом, все прошло на самом высоком уровне. Но мне, как одному из участников биеннале, из всего этого «туристического» великолепия запомнился лишь один вечер, точнее, очень короткий разговор за бокалом хорошего вина с российским художником Никитой Алексеевым о его проекте, представленном на выставке (3)
Эфемерная инсталляция художника состояла из нескольких небольших работ, где на красном фоне в нарочито эскизной форме были изображены различные объекты: танк, снеговик, бутылка, мышь и т. д. Все эти рисунки объединяла одна и та же фраза, написанная по-гречески вверху каждой работы: «Этого нет» (4) Рисунки были прикреплены на стенах в различных местах города и к моменту официального открытия экспозиции многие из них попросту исчезли, а сохранившиеся своей «нонспектакулярностью» едва ли привлекали внимание зрителей (что и входило в намерение автора). Такой вот хрупкий, «ветронеустойчивый» проект. Никита рассказывал о том, что идея проекта напрямую связана с апофатической теологией христианского мистика Георгия Паламы, жившего и работавшего в Салониках в XV веке. Рассуждая об этом, художник проводил параллели с психотехнологиями отрицания в
Случай, казалось бы, тривиальный, но меня он «зацепил» не на шутку (имеется в виду беседа с Никитой). По большему счету меня заинтересовал не его проект сам по себе, а то, что эта работа проделала с самим художником. Я отчетливо осознавал, что Никита Алексеев, говоря о своем проекте, не столько объяснял его концепцию (это было бы как раз банально, хотя и интересно), сколько раскрывал потайные зоны своей творческой кухни. Более того, сознательно или нет, он пытался сделать почти невозможное: на дискурсивном уровне «реактуализировать» свое спиритуальное состояние, в котором находился, осуществляя проект. И то, как он мгновенно замкнулся и с легкостью переключился на тривиальные темы (после присоединения к нашей беседе других участников мероприятия), показалось мне весьма симптоматичным. По моим личным наблюдениям, попытки «реактуализации» этого специфического и универсального состояния у художников бывают довольно часто. Но они носят спонтанный и как бы необязательный, несерьезный характер, что называется, «между делом». Поэтому им и не придается особого значения. Современные художники жутко стыдятся демонстрировать свой неподдельный интерес к этой «наивно-романтической» процедуре по «реактуализации», особенно в присутствии ушлых кураторов, галеристов, дилеров, музейщиков… (5) Хотя именно в этом состоянии и заключено то, что я называю правдой художника, которая в современном искусстве жестко элиминирована правдой арт-менеджера (в первую очередь куратора, затем уже галериста, музейщика, критика, культурбюрократа…).
По сути дела, имеет место неснимаемое противоречие/конфликт между этими двумя правдами, как, например, в философии Декарта имеется парадоксальное противоречие между математической точкой, не имеющей измерений, и протяженностью, которая самим своим наличием отрицает, делает невозможным существование точки; или, скажем, в апофатической теологии нам известен неснимаемый конфликт между точкой духа, как эманации абсолютно Иного, и телом, как протяженностью материи, которая «в упор не видит, не распознает» эту точку принципиальной альтернативы самой себе, а значит, «полагает» эту точку попросту невозможной и т. д. И никакая диалектическая логика здесь не в состоянии помочь — эти две правды непримиримы в принципе…

Добавлю принципиальный момент: проблема актуализации собственной правды напрямую сопряжена с возрождением субъектности и принципом символического властвования. Только тот, кто актуализировал свою внутреннюю правду, может рассчитывать на обладание реальной властью в художественном (и не только) мире. Сделаю оговорку: под властью я понимаю не административный контроль над интеллектуальными и финансовыми потоками, а наличие осознания абсолютной исключительности и истинности собственной правды. Тот, кто осознает и упорно акцентирует это, через того и проходит ось истинной (а не административной) власти. Скажу больше: волевое упорствование художника в безусловной истинности собственной правды есть высшее этическое действие (за пределами «добра и зла»). В этом действии художник сбрасывает с себя кожу производной от социокультурного контекста функции и превращается в навигатора, который сам задает алгоритм траектории своего путешествия в культурном пространстве. Его деятельность, в этом случае, становится не
Но почему у правды художника такая трагическая участь? Почему она предательски замалчивается, репрессируется, вытесняется в область несуществования? Ответ прост: потому что правда художника смертельно опасна для этого мира, а ее «невозможное» присутствие разоблачает актуальное бытие/тотальную социальность как царство абсолютной лжи и насилия (против всего того, что не ангажировано идеями чистого экономизма). А художник, соответственно, как носитель этой правды, является диверсантом, холодным спиритуальным террористом, деятельность которого куда более опасна и разрушительна для социума, чем прямые действия всяких опереточно-декоративных бен ладенов и иных симулятивных креатур спецслужб.

Чтобы стало ясно, о чем идет речь, упомянем о двух фундаментальных подходах к искусству, подспудно влияющих на политику современной художественной жизни.
Первый подход определяет искусство, замыкающееся на самом себе и для себя, как цель (цель-в-себе, самоцель). В рамках этого подхода первичным является не творчество как таковое, не трансформирующий сознание экстремальный опыт художника, а только исторический контекст, история искусств, с которой художнику приходится постоянно соотносить свою деятельность для сравнения и движения «вперед». Субъект такого понимания искусства — преуспевающий художник-конформист, обожаемый и лелеемый Системой, в которую он аккуратно вписан. При этом номинально такой художник может прослыть даже радикалом и бунтарем, авангардным творцом эффектных подрывных инициатив, угнетающих Систему. Но очень часто выясняется, что эти инициативы заказаны ему самой Системой, а значит, художник-«бунтарь», а на самом деле — последовательный буржуазный интеллигент-циник имеет постоянный экономический спрос и свою легитимную нишу на прилавке «супермаркета» современной мировой культуры…
Второй подход маркирует искусство как средство (психотехнологический инструментарий) для достижения иной цели, а именно для преодоления отчуждения, т. е. освобождения. Субъект такого, я бы сказал, «самоустраняющегося» искусства может быть с полным правом назван радикалом, так как его подчас выстраданная стратегия катастрофична по отношению к Системе, плохо справляющейся с нелинейными, хаотическими процессами. Работа художника в этом случае заключается не в том, чтобы изобретать новые объекты, желания, провокации и образцы потребления, угодные прожорливой рыночной Системе, а в том, чтобы с помощью психотехнических усилий интенсифицировать особые зоны своего внимания и мышления, результатом чего является совершенно иной, предельный опыт осознания Реальности и своего места в ней. А это и означает преодоление отчуждения и, несколько перефразировав М. Хайдеггера, «самоосвобождение свободы в самом себе». В этом случае агрессия хищного рынка бессильна перед внутренним онтологическим суверенитетом художника, потому что последний не ангажируется социологичностью и историцизмом как двумя основными идолами/мифами современности. И художник может воскликнуть, подобно Г. Сковороде: «Мир ловил меня, но так и не поймал».
Думаю, очевидно, что в современном художественном мире задействован лишь первый подход, лоббируемый прагматичной правдой арт-менеджера: искусство как цель/самоцель. Тотальная доминация этого подхода и сопряженный с этим триумф правды арт-менеджера привели к принципиальной несвободе художника, к неотвратимому отчуждению его от тех субтильных реалий, пребывание в которых только и оправдывает его онтологический статус и модус (подлинного) существования в этом мире.
Но весь парадокс в том, что современный художник как огня боится манифестации собственной правды в себе, что указывает на необратимую степень ослепленности, загипнотизированности художника со стороны арт-менеджера (напрашивается аналогия с гипнотическим воздействием удава на кролика). Упоминание об этой правде в кругу своих коллег кажется ему неуместным и инфантильным (разумеется, этот комплекс неполноценности заброшен в его сознание тем же самым коварным арт-менеджером). Ему стыдно говорить об этом, ибо он не хочет прослыть наивно-романтическим идиотом и аутсайдером, что чревато исключением его из зоны суетливой актуальности, которая во всех смыслах кормит его и тешит ранимое самолюбие. Но цена за такие малодушие и стыдливость, граничащие с откровенной глупостью и трусостью, — потеря свободы и аутентичности, пик отчуждения, жалкое прозябание в инфернальных слоях принципиальной неподлинности.
В ситуации гегемонии арт-менеджерской правды онтологический статус художника ничем не оправдан — последний существует лишь в качестве наемного донора, попросту говоря, находящегося в ментальном анабиозе раба, у которого систематически выуживают эссенцию жизненного сока — его конечный энергетический потенциал (в просторечии — душу) для поддержания иллюзии безальтернативности дурной экономической бесконечности (= объекту или бытию как таковому).
Как бы ни было трагично положение современного художника, но в этом виноват только он сам. Ибо эта нелицеприятная ситуация есть следствие его экзистенциальной измены самому себе, своей собственной внутренней правде. Он мог бы оставаться самим собой и не подчиняться арт-менеджерским рыночным стратегиям, потребным «производственному безумию» современной культуры. Но, наверное, невероятно трудно устоять перед соблазном, тем более когда эти прагматичные стратегии сулят значительную прибыль и медиальную славу. Рискуя вызвать раздражение и усмешку атеистически настроенных читателей, скажу, что речь идет ни больше ни меньше как о продаже души дьяволу.
Теперь, чтобы прикоснуться к теме правды художника, мы несколько сменим вектор размышлений и для начала попытаемся рассмотреть природу того, что мы определили как правда арт-менеджера.
Правда арт-менеджера: волк в овечьей шкуре
АРТ-МЕНЕДЖЕР, в широком смысле этого слова, — фигура символическая и метафизическая (6), вступившая на авансцену социокультурной реальности еще во времена античности (и даже раньше); конкретнее, с того самого момента, когда деньги стали играть решающую роль в обществе. Он является креатурой и адвокатом этого мира чистого количества, эманацией экономического абсолюта, идеальным Ростовщиком. Его «священная» функция заключается в обеспечении беспрепятственной работы отлаженного механизма реальности, который зиждется на «пантеистической» идее финального тождества всего со всем — идее, отражающей экономический принцип равенства обмениваемых товаров. Эта идея постулируется арт-менеджером как безусловная истина, не подлежащая обсуждению, тем паче сомнению. То есть речь идет о том, чтобы всячески поддерживать безальтернативность, стабильность, комформность, гомогенность (существования) актуальной реальности, не допускать возможных разрывов и опасных креативных актов радикального прорыва, ставящих под сомнение легитимность принципа абсолютного Тождества.
Другими словами, миссия арт-менеджера — обеспечивать статус-кво того, что есть, что существует как незыблемый онтологический порядок тотальной социальности (= человеческого общества, «овеществленной» культуры, экономической бесконечности…).
Как обеспечивается такой порядок? Очень просто — посредством рыночной операции приравнивания/сведения/подчинения, как сказал бы Т. Адорно, «нетождественного» — «тождественному», «духовного» — «недуховному», «качества» — «количеству» (7) Тривиально говоря, я имею в виду чисто экономическую процедуру оценивания всего и вся, включая продукты творческой деятельности человека, в результате чего все находит свое «тихое» место в историческом архиве, на ухоженном кладбище человеческой культуры.
Что бы ни говорили циники от современной культуры, произведение искусства про-ис-ходит из сферы абсолютно Иного, его сущностный исток находится не в этом мире и не имеет с последним никаких точек соприкосновения и соотнесения. В своей инаковости/нетождественности (имплицитно содержащейся в его завершенной форме) оно противостоит насилию тотальной социальности, а значит, представляет собой смертельную угрозу последней. В этом случае «по достоинству» оценить произведение искусства со стороны экспертного сообщества арт-менеджеров означает репрессировать его. Другими словами, аннулировать его инаковость, погасить его трансцендентную ауру, превратить в рядовой товар и, посредством этого, качественно приравнять ко всей той товарно-денежной массе, что уже пылится в архиве (8) То есть осуществить контрсвященный акт тождества, поддерживая мнимую стабильность того, что есть. А чтобы поддерживать статус-кво того, что есть, учитывая все возрастающую энтропию и рыночную суть этого «есть», необходимо неустанно модифицировать его: постоянно инсценировать видоизменения исторического социокультурного ландшафта, выискивая новые способы желания и модели потребления. Благо появившийся в эпоху Возрождения принцип постоянного преодоления данности (принцип новизны, прогресса) позволял с лихвой достигать этого эффекта. Модернизм начала XX века своим пафосом тотального отрицания прошлого невольно модифицировал этот принцип, фактически абсолютизировав инновационный аспект современной культуры (9) Релятивизм был поставлен во главу угла.
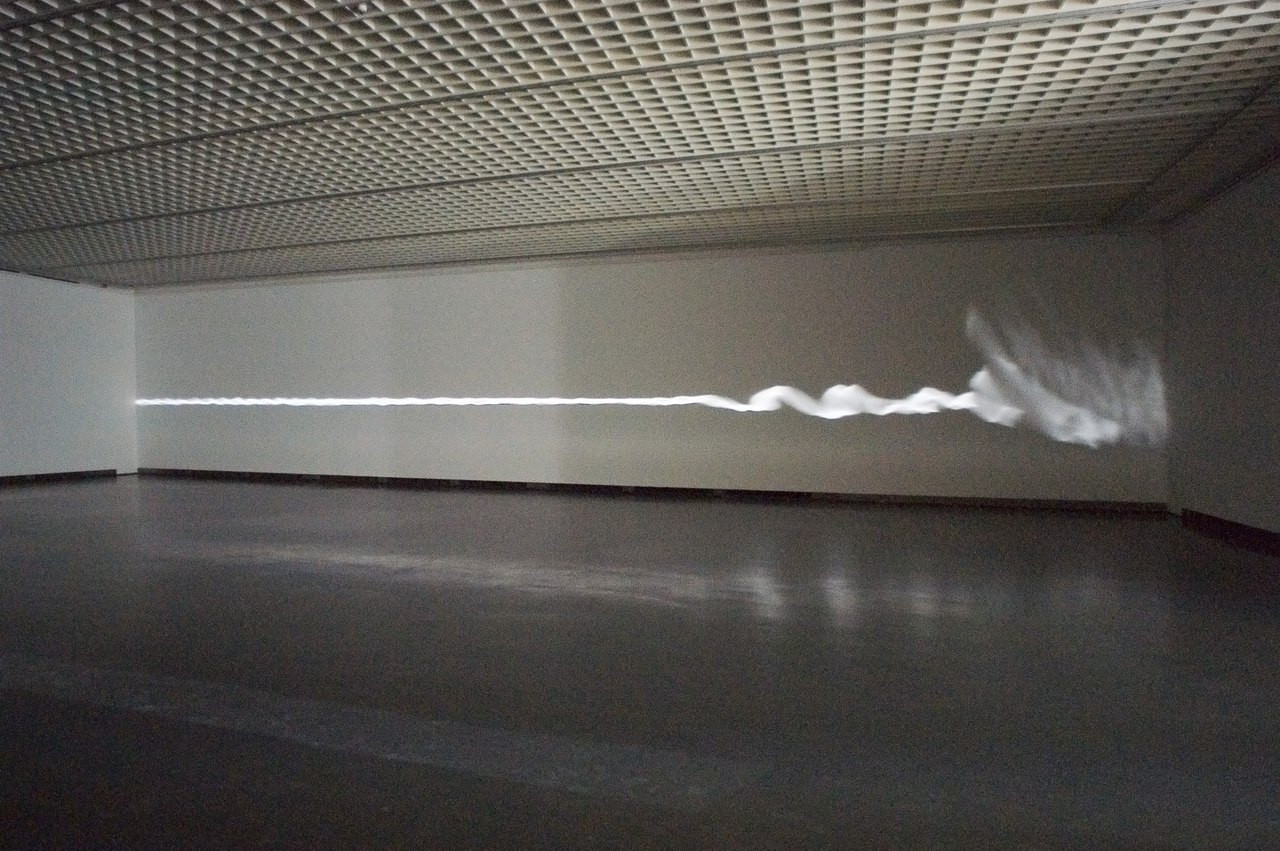
Вследствие этого, под прикрытием непрерывного изменения стилистических и интеллектуальных форм, мы имеем вечное возвращение одного и того же — вездесущего, бессмертного и самотождественного рынка. И, как нам давно хорошо известно, даже протестное искусство, которое отчаянно придумывает способы противостояния системе товарно-денежных отношений, на деле лишь выполняет экономический заказ этой системы. Если бы подобное происходило только с продукцией художника, то это еще полбеды — продукция не существенна, разве что для архива. Но так как сам художник, поддавшись психологической инфляции (по Юнгу), отождествляет себя с продуктами собственной деятельности, то и он сам превращается в
Правда художника: великий джихад
Но такой очевидный порядок вещей, преподносящий себя в качестве аксиологически неуязвимой бесконечности, не может считаться нормальным несмотря на то, что у этого порядка такие авторитетные адвокаты, как Ф. Гегель («Все действительное — разумно»). Налицо факт прогрессирующего культурного вырождения, онтологической катастрофы, которая распознается мало-мальски вменяемым художником на интуитивном уровне как личная драма. Художник, травмированный фактом своего рабского порабощения, интуитивно осознает примат революционного вектора долженствования над консервативным вектором бытия.
Правда художника гласит: да, этот порядок вещей есть то, что он есть. Более того, он длится с незапамятных времен и кажется неизменным, как неизменны само время и рок, но… Но так НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, ибо то, что есть и хочет быть вечно, целенаправленно стремится к уничтожению духовных параметров реальности, к превращению всего жизненного ландшафта в ледяную мертвую пустыню.
Ведь откуда берется духовная энергия для поддержания и модификации вампирического социума, который сам напрочь лишен каких бы то ни было жизнетворческих ресурсов? Она нагло выкрадывается корпорацией арт-менеджеров из внутренней точки предела — той центральной точки человека (художника), которая в новой теологии культуры называется «черной дырой» (в просторечии — точкой духа), или точкой принципиальной альтернативы тому, что есть (11) Она же есть точка подлинной свободы, с которой каждый соприкасается бессознательно, в режиме сновидения. Маркс говорил, что человек подлинно свободен только во сне. Она же есть точка смерти как посвящения в
Эта неочевидная точка соединяет/соотносит человека с тайными энергиями ноумена, с тем, что несоизмеримо больше человека, даже взятого в своем идеальном проекте «совершенной личности». В ней сконцентрирована яростная энергетика абсолютных смыслов и значений, ожидающих часа X — мгновения кайроса (по Негри — Хардту и не только) — для самопроявления и финального преображения/отмены актуального бытия (тотальной социальности культуры, а в пределе — абсолюта, понятийно разработанного в традиционной философии от Платона до Гегеля…). Но это проявление возможно только в одном случае — когда фокус внимания художника, в котором аккумулирована энергия его осознания, переключится с этого множественного мира в сторону точки предела и художник наконец отрефлексирует/проманифестирует происходящее в этой темной точке. Только так он сможет открыть дверь потокам трансцендентных смыслов, запредельных этому миру и опознаваемых последним как ужасающие шумы, как разрушительный хаос, от которого этот мир и защищается путем постоянного самовоспроизведения — осуществления актов тождества, обильно используя энергоресурс (душу) человека с его молчаливого согласия.
И вот здесь оказывается затребованным второй подход к искусству, упомянутый выше: искусство как средство. Именно то средство, которое положит конец отчуждению, позволит заблокировать «отсос» энергии, за счет чего последняя, вместо унизительной кристаллизации во множестве производственных артефактов, пополняющих внушительный массив культурного мусора, направится на созидание нового смысла и новой альтернативной реальности, существующей в современном мире пока лишь в качестве утопии. Все дело в том, что переключение фокуса внимания художника на точку предела становится возможным только при вступлении художника в силовое поле творческого процесса, понятого как вполне самодостаточный комплексный феномен…
Если обратить внимание на креативную стратегию основателей модернизма, скажем, Кандинского, Малевича или Мондриана, то мы увидим, что они в поисках нового языка для выражения своих интуиций обращались к традиционному искусству: русской иконе, восточной (мусульманской и японской) миниатюре и т. д. И дело здесь не только в идеопластике этих форм визуальности. Интеллектуально отрабатывая неевропейские модели визуальной культуры, укорененные в конкретных сакральных традициях, модернистские художники не могли не обнаружить, что эти формы для самих традиционных авторов служили лишь поводом (или опорой) для духовной практики. Правда, этот момент не подвергался рефлексии. Внимание отцов нового искусства и большинства исследователей их творчества было привлечено к экспериментам над формопластической компонентой и акцентуации на проективной воле модернистских художников, стремящихся изменить окружающий мир. Но у меня есть сильное подозрение, что редукция к первоэлементам визуального языка (точке, линии, кругу, черному квадрату и т. д.) была отражением аналогичных интроспективных процессов в сознании — процессов умаления в себе онтологической плотности, т. е. вскрытия нулевого уровня онтологии и бессознательного (!) прорыва в Иное. Модернистский художник был на шаг от осознания искусства как средства для изменения режима восприятия и трансформации сознания, влекущих за собой реальное изменение действительности, ибо последнее есть проекция содержимого нашего сознания. Об этом может свидетельствовать, например, такая фраза Малевича: «Преображая мир (в продукции собственного творчества. — Прим. Т. Даими), я иду к своему преображению, и, может быть, в последний день моего переустройства я перейду в новую форму, оставив свой нынешний образ в угасающем зеленом животном мире». Но
До сих пор радикальный художник-пассионарий, наследующий модернистскую традицию, измеряется степенью интенции и проективной воли к революционному преобразованию мира. И эта стратегия по деструкции и преображению наличного бытия действительно является оптимальной и истинной. Но с одной оговоркой: если ее осуществлять грамотно. Что это значит?
Здесь я позволю себе обратиться к концепции джихада — священной войны — как к высшему интеллектуальному ориентиру, как к квинтэссенции духовной практики не только в исламской метафизике, как это принято считать, но и в любой иной аутентичной традиции, с той лишь разницей, что в рамках ислама проработке этой концепции уделялось больше внимания. Я настаиваю на той мысли, что идея джихада, несмотря на, казалось бы, далекую от культуры политико-теологическую ауру, напрямую связана с магией художественного творчества…
Вкратце это выглядит так. Понятие «джихад» составляет суть трансцендентной гносеологии и означает интенсивнейшее сверхусилие по преодолению негатива, конденсированного зла, коим является вся обозримая действительность с ее гуманитарным пакетом трехгрошовых «универсальных общечеловеческих ценностей». Это есть также борьба против насилия легитимированного этим миром онтологического порядка, одним словом, чистое, радикальное, немотивированное отрицание, срывающее с реальности все наносное, лишнее, то, что опосредуется вторжением человеческого фактора… Эта радикально нонконформистская и апофатическая концепция включает в себя два вектора — великий джихад и малый джихад.

Первый, имплозивный, вектор — великий джихад — является наиважнейшим. В приложении к искусству он апеллирует к автономному измерению последнего и означает творческий процесс как таковой, без привязанности к результатам, когда внимание творческой личности погружается в тайну внутреннего… Его гносеологический пафос направлен на сжигание негатива в самом субъекте джихада, на небезопасное перемещение фокуса внимания к точке предела (смерти) и интеллектуальной проработке ноуменальных процессов, инспирированных актом сверхрискованного вскрытия этой точки. Можно сказать и так: сжигание негатива есть устранение некоего ментального буфера, расположенного между нашими внутренними органами восприятия и ноуменальной реальностью, которая в своем чистом виде невыносима для нашей уязвимой психофизики. Поэтому назначение этого буфера — защищать нас (нашу неподготовленную психотелесность) от непосредственного лицезрения «ужасной» реальности. Так сказать, поддерживать биохимический гомеостазис организма. Не об этом ли слова Ницше: «Истина — это разновидность заблуждения, без которого не может существовать определенный род живых существ». На нейрофизиологическом уровне это выражается в работе сенсорных фильтров, вытесняющих 99% поступающей извне информации и уродующих оставшийся 1%. Но цена за такую психотелесную безопасность — онтогенетический Дефект Восприятия и искажение Реальности, или, проще говоря, обреченность вечно жить в тотальной лжи, в вечном узаконенном рабстве… Ибо добровольная неосведомленность человека относительно предельных смыслов бытия делает его игрушкой безличных сил слепой судьбы и этого мира. Надо признать, что это самый темный и таинственный аспект духовной практики, упорно замалчиваемый в евроцентричной интеллектуальной традиции после эпохи Возрождения, особенно после И. Канта (непознаваемость ноумена) и вторящего ему Л. Витгенштейна (молчать о том, о чем невозможно говорить). Это пугливое замалчивание увело внимание западных интеллектуалов от главного — от мужественных попыток постижения «последней правды…» — и ввергло их в бесконечные, бессмысленные, но зато безопасные лабиринты имманентного и прагматичного, где не остается ничего другого, как, согласно Оккаму, «умножать сущности без необходимости» и, таким образом, уплотнять дурную экономическую бесконечность, образно выражаясь, укреплять стены ментальной тюрьмы. Начиная с Просвещения агностицизм превратился в мейнстрим, и европейская интеллектуальная элита взяла на вооружение формулу, выраженную основателем электрофизиологии и молекулярной теории биопотенциалов Дюбуа-Реймоном “Ignoramus et ignorabimus” (“He знаем и не будем знать”).
При вскрытии точки предела происходит самое возвышенное — манифестация абсолютных энергийных смыслов, агрессия безусловного ноумена против аксиологически неуязвимой бесконечности, результирующиеся в теологическом понятии «откровения», что в переводе на конвенциональный понятийный язык приблизительно означает столкновение с истиной, вторжение Иного, непосредственное умо-зрение ужаса, актуализацию события и т. д. Иначе говоря, через осознанно вскрытую точку в этот мир бешено врываются трансцендентные потоки позитивного хаоса, дестабилизирующие доселе устойчивую и якобы неуязвимую архитектонику наличного бытия. И только после этого значимого События реализуется второй, эксплозивный, вектор — малый джихад, предполагающий экспансию прорвавшихся «сюда» потусторонних, трансцендентных энергий для трансформации этого мира. Этот вектор апеллирует к политическому измерению искусства. Очень важно понять, что без реализации первого вектора второй этап не имеет смысла. Автономное и политическое здесь кровно связаны. И вот здесь отметим важный момент: неудача модернистской креативной стратегии, обернувшаяся победой циничного постмодерна, была обусловлена тем, что реализации подлежал только второй вектор — малый джихад. Первый вектор был признан принципиально неартикулируемым и отвлеченным от материальных характеристик бытия, и центр тяжести переместился на процесс реализации эстетического опыта и экспансии объективированной продукции, впоследствии обернувшейся «производственным безумием». Модернистских авторов, оболваненных эрой вульгарно понятого марксизма, позитивизма и НТР, интересовало только социальное и церебральное измерения человека. Более глубинные метафизические измерения, посредством которых человек сопрягается с иными, не-антропогенными сегментами реальности, остались в тени.
Еще раз подчеркнем, что эквивалент великого джихада в искусстве — это взятая до и поверх всякой культурной объективизации чистая процессуальность креативного акта, сопровождаемая синхронной рефлексией. Последнее чрезвычайно важно, потому что, с легкой подачи романтиков, неокантианцев и фрейдистов, творческий процесс был определен как иррациональный и бессознательный, в силу чего и был взят в скобки… Но только осознание тех ускользающих от определения интенсивных процессов, что происходят в точке предела, в мгновения творчества, делают художника «хозяином» этих неочевидных интенсивностей; только подвергая тонкой рефлексии нелинейные пульсации хаоса, художник «приватизирует» ноуменальные энергии и блокирует их отчуждение от себя. Не лишним будет вспомнить заявление философа А. Пятигорского: «То, что не отрефлексировано, не существует».
Другими словами, для художника, не желающего быть рабом актуальной арт-сцены и жертвой слепых сил судьбы, создание произведения искусства только предлог, причина, чтобы войти в режим творческого процесса, в опыт символической смерти (= инициации) и подлинной свободы. И не просто войти, но и осуществить акт понимания эффектов от этого умопомрачающего вхождения. Постараюсь пояснить, что я имею в виду.

Вспомним до боли тривиальную и неактуальную ныне мысль: процесс всё, результат ничто. Принципиальным является вопрос: зачем художник входит в силовое поле творческого процесса? Зачем это ему нужно? С точки зрения суетливой актуальности: во-первых, чтобы произвести продукт (текст), причем не имеет значения — в материальном или имматериальном смысле; во-вторых, чтобы интегрировать его в существующую сетку овеществленной культуры (гипертекст), дав повод для бесконечных интерпретаций, критических экспликаций, герменевтических толкований, социокультурных исследований — всего того, что, выстраивая грандиозную вавилонскую башню современной культуры, уплотняет количественную ткань наличного бытия. Это, как мы уже выяснили, соответствует малому джихаду и отвечает правде арт-менеджера. В этом случае самое большее, на что способен художник, так это стать отрешенным аналитиком информационных процессов в обществе или, по Делёзу, «диагностом цивилизации», что, по сути, одно и то же. Но с точки зрения новой теологии культуры, художник входит в творческую процессуальность только для одной цели — чтобы достичь спиритуального состояния и через волевое сверхусилие вскрыть точку предела, вызвать ожидающие самоманифестации ноуменальные энергии и нездешние смыслы, отрефлексировать их и тем самым произвести реальные изменения внутри собственной перцепции и сознания, т. е. устранить онтогенетический Дефект Восприятия (а появившийся продукт вторичен по отношению к процессуальности). В результате такой подлинно гносеологической процедуры художник (а, в перспективе, любой реципиент его влияния) превращается в субъекта символической власти, проводника мощных силовых потоков, декодирующих социокультурную «картину мира» без вмешательства в ткань наличного бытия, что очень важно, ибо прямое вмешательство лишь в очередной раз спровоцирует смену декораций глобального спектакля. Последний только этого и ждет и всячески провоцирует художника. Подлинная же социальная трансформация (революция?) должна быть предварена «тихим» переворотом в области перцепции и метадискурсивных технологий (возвращаясь к последовательности осуществления двух векторов джихада), способным подорвать сами основы спектакля, обусловленного актуальным перцептивным статусом человека. Любое внешнее социальное преобразование (изменение бытия) без предварительного изменения внутреннего перцептивного статуса (изменение сознания) ни к чему не приведет; рано или поздно все возвратится к
Таким образом, речь идет о том, чтобы, не затрагивая на начальном этапе механизм функционирования актуальной арт-среды (наличие злополучного рынка не помеха: «богу богово, кесарю кесарево»), сфокусировать «саморефлексирующее» внимание на чистой процессуальности творческого акта. Здесь мы наблюдаем два связанных друг с другом эффекта от этой процедуры: 1) посредством изменения перцептивного статуса и устранения Дефекта Восприятия достижение/осуществление художником состояния подлинной свободы (великий джихад); 2) и вытекающая из этого манифестация ноуменальной энергии, трансформирующей наличное бытие (малый джихад). В реализации этой гносеологической процедуры (с последующей периодической реактуализацией инспирированного ею состояния в творческой экспликации самого автора) и состоит правда художника.
Разумеется, рефлексия в режиме творческой процессуальности и последующее «говорение об этом» (реактуализация состояния) неимоверно проблематичны в формате актуального языка. Именно
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Понятие «теология» [в названии статьи] употребляется нами в контрклерикальном и контрконфессиональном значениях как парадоксальное учение о трансцендентном. Другими словами, переиначив одну из ключевых мыслей Витгенштейна, настала пора говорить о том, о чем следует молчать.
2. Тема биеннале была инспирирована одноименным текстом Мишеля Фуко.
3. Из художников постсоветских стран в биеннале участвовали: Вадим Захаров, Гурам Тсибахашвили, Ганжина Шарипова, Андрей Ройтер, Георгий Литичевский, Вазген Тедовасян, Шалва Каханашвили, Никита Алексеев, Елена Камбина, Андрей Филиппов, Теймур Даими, Баби Бадалов, Ваграм Агнасьян, Алексей Каллима.
4. По словам самого художника, это очень условный перевод. На английском фраза выглядит так: “There Ain’t None” — тоже весьма приблизительно, что неудивительно, учитывая принципиальную непроговариваемость самой «идеи».
5. Только в обстановке максимального доверия, которое граничит с интимностью, художник может отважиться на это.
6. Я бы добавил: и трагическая, в той мере, в какой он осознает степень своей неизбежной зависимости от сил рока и непривлекательности своей миссии…
7. По утверждению Адорно: «Даже элейское понятие единого, которое должно быть единственным, становится понятным только по отношению к многому, которое оно отрицает». (Цит. по книге «Идеалистическая диалектика в XX столетии». — М., 1987. C. 196.)
8. Лицезреть такой товар, скажем, в музее — все равно что наблюдать животных в зоопарке: и то и другое вырвано из живого контекста и духовно кастрировано.
9. Разумеется, навряд ли модернистский художник хотел этого. Скорее он стремился к обратному — к трансформации искусства в то, что составляло условие его существования…
10. В информационном обществе выражением идеи чистого количества является, разумеется, информация или ее коррелят — деньги.
11. Если еще раз провести аналогию с философией Декарта, то можно уподобить эту точку с декартовской точкой, противостоящей протяженности.
