Искусство и Вера: художник как субъект сопротивления Всему...
Мир, который мы создали как результат некоего уровня мышления, породил проблемы, которые невозможно решить на этом же уровне.
Альберт Эйнштейн
1. Два вектора современного искусства
Современный художник, претендующий на актуализацию сильного критического высказывания, но обреченный на культурное производство в рамках легитимных арт-институций, находится в весьма проблематичной ситуации. Он зажат в тисках «двойной невозможности». С одной стороны, его интенции нейтрализуются негласным сговором глобальных корпоративных арт-тусовок, «причесывающих» его высказывание и в конечном счете превращающих его в креативного функционера престижных мировых арт-форумов, являющихся аппендиксами международных политических мероприятий. С другой — ему катастрофически не везет с революционными вторжениями в социальное пространство с целью изменить ситуацию наличного бытия. Но если в первом случае, делая свой выбор в пользу массовой культуры и участвуя в политкорректных арт-проектах он еще может безболезненно вписаться в гламурную атмосферу культурной жизни, позволяя делать из себя медиа звезду победившего капитализма, то во втором случае он всегда оказывается перед неотвратимым фактом экзистенциального поражения, ибо неизбежно обкрадывается ненавистным ему социумом.

Как показывает история радикального искусства, глобализирующийся неолиберальный мир, посредством отлаженного механизма собственного воспроизводства, позволяя художнику выстраивать критический дискурс, на деле не оставляет возможности для его актуализации. Система впускает в себя критическое жало, но тут же ассимилирует разрушительный потенциал этого события в собственной ткани. После этой ювелирной процедуры по рекуперации противостоящая Системе сила теряет свою величественную ярость — радикальный разрушительный запал — и превращается в игрушку самой Системы, начинает играть декоративную роль прирученной антитезы в профанированной «системной» игре.
Подобная нелицеприятная ситуация ведет к еще большей радикализации искусства, вплоть до редуцирования его к недвусмысленному политическому жесту. Но при этом оно (искусство) грозит превратиться в прикладной инструмент идеологии и растерять все присущие ему имманентные качества. Здесь наиболее пассионарные деятели актуального искусства, ангажированные леворадикальной революционной риторикой и ориентированные на прорыв к актуализации условий иного, лучшего, свободного мира, выражают сомнение в имманентной эффективности искусства как такового. Мол, искусство социально не адаптировано и неэффективно в своей имманентности и должно стать рупором идеологической работы, превратив самого художника в рядового политического активиста, который, в противном случае, неминуемо становится политкорректным дизайнером глобализации. В противовес этой тенденции существует интенция к анализу автономного измерения искусства, способного в своей суггестивной беспримесности «породить» более эффективную стратегию сопротивления Системе. Данная дискуссионная ситуация усложняется фактором перманентной институциональной активности в сфере актуального искусства, не терпящей «паузы созерцания», внутри которой только и возникает шанс на саморефлексию и неторопливое фундаментальное переосмысление стратегии как современного художника, так и искусства в целом.
Попытаемся в рамках данной статьи смоделировать эту своеобразную медитативную паузу и нащупать в теле искусства тончайшие нервы иных возможностей самоактуализации, элиминированных дискурсом современности. Суть нашего «послания» заключается в том, что уже давно назрела необходимость подвергнуть радикальной интеллектуальной ревизии стратегию современного искусства и сам модус присутствия художника в этом мире. Провести же такую работу можно, лишь изъяв себя из навязанной нам социумом «объективной» причинности, проще говоря, нагнетаемой суеты Этого мира.
2. Актуальное — Нон-актуальное
Необходимо сказать, что художник, позиционирующий себя как субъект сопротивления новому мировому порядку, но вынужденно укорененный в формате актуального искусства, травмирован вирусом тотальной социальности и полностью вывернут «наружу» — фокус его внимания находится во внешнем пространстве. Данную метастратегию можно условно назвать эксплозивной, т. е. ориентированной во вне. Интегрированность современного художника в динамику осуществления глобальных арт-проектов (обусловленная прагматической составляющей мировой кураторской практики) стимулирует не активную, а
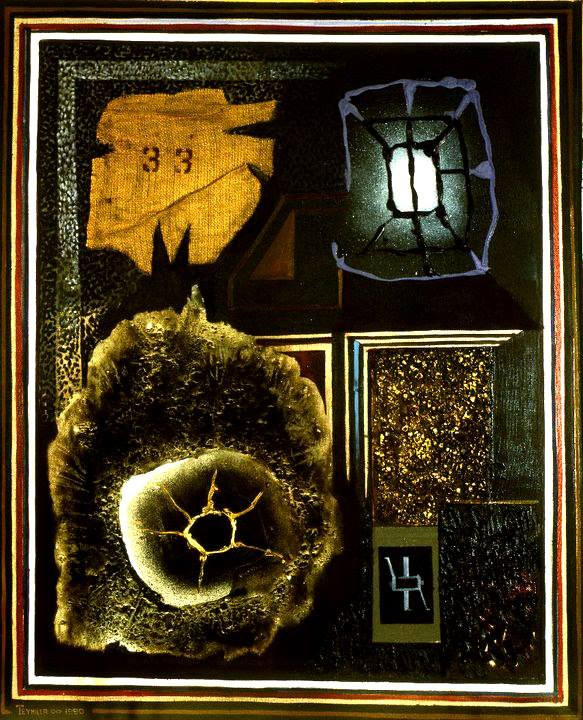
Означает ли это, что протестный вектор современного искусства несостоятелен? Или внутри тела современной культуры все же теплятся взрывные потенции, еще не тронутые лучом внимания художника как субъекта сопротивления? Интуиция возможных ответов побуждает нас дистанцироваться от всего комплекса идей, конституирующих понятие «актуального искусства». Как ни странно, но путь оптимистических ответов обратно пропорционален сохранению искусством статуса «актуального». Забегая вперед, скажем, что позитивное решение кризисной ситуации видится нам в довольно «простом» метаперцептивном жесте — перемещении фокуса внимания (центра тяжести экзистенциональной интенсивности) с онтологически нелегитимного внешнего (линейное время/тотальная социальность/царство необходимости) на внутреннее (живое пространство/царство свободы) — прыжок в пространство необусловленной веры. А так как актуальное искусство есть функциональное производное от внешнего, то, в контексте наших размышлений, напрашивается побочный демонтаж его базовых парадигматических конструкций.
По степени суетности и погруженности в крикливую повседневность актуальное искусство можно определить как визуальную журналистику. Но при этом оно, во-первых, проигрывает собственно журналистике (большой прессе) и смежным медиальным областям (мода, массовая культура) в мобильности и популярности, во-вторых, неминуемо удаляется от онтологической функции искусства, суть которой — в неторопливой и фундаментальной экзистенциальной аналитике. Но примечательно, что наряду с хитрой тенденцией глобальных арт-институций определять актуальные силовые потоки в области современного искусства, элиминирующих все, что не отвечает суетливо нагнетаемой интеллектуальной моде, всегда существовала нон-актуальная тенденция к замедлению скоротечных процессов и вскрытию нулевого режима творчества, лежащего в основе любого креативного акта. Художников этой тенденции (М. Дюшан, Й. Бойс, в более расширенном историческом контексте — А. Рембо, А. Арто…) характеризует безразличие к «сфере социально-принудительных иллюзий, обусловленных особым ограниченным положением различных общественных групп» (1), и укорененность во внутреннем — пространстве необусловленной свободы и личной веры как модуса воли к преодолению наличного неподлинного бытия (2). Творчество этих деятелей, предпочитающих качественное неделание (на грани провала) количественной продуктивности, представляет собой сингулярные «точки бифуркации», в которых развитие искусства могло бы пойти по иному пути (то, что этого не происходило и искусство всякий раз предательски соскальзывало к «греху объективации», не означает, что иной путь невозможен в принципе). Их «нулевая» творческая стратегия, зиждущаяся целиком на интуиции веры и импульсах персональной экзистенции, презирала идею непрерывного культурного производства как основного условия существования современной культуры в эпоху победившего капитала. Отсюда — пиетет перед визуальной аскетикой и минимализация количественного параметра творчества, что может показаться убийственным для деятеля современной культуры, принужденного Системой (рынком) к беспрерывной «ментальной эякуляции». Это обстоятельство позволяет нам проинтуировать гипотетическую модель иного, нон-актуального художника (и
На данный исторический момент идея сопротивления внешнему редуцирована до идеи сопротивления одному из частных сегментов внешнего — капитализму как
Говоря о модели иного художника, нам не обойти вниманием соотношение между двумя принципиальными для нас понятиями — «актуальное» и «нон-актуальное» (3). Актуальное связано с сиюминутным, скоротечным, со скольжением по «поверхности смысла», с фиксацией и усложнением очевидного. Актуальное выражает то, что есть, являясь ликом социального бытия, а в идеале — бытия как такового. Актуальный художник не может быть субъектом сопротивления по определению, так как уже давно существует в мире, где провозглашена смерть субъекта. Ницшеанское «смерть Бога», будучи констатацией логически оправданных последствий рационализма, косвенно постулирует не что иное, как смерть субъекта как живого контрапункта царству необходимости (4). В этой экзистенциально пораженческой ситуации любое сопротивление носит декоративно-опереточный характер. Ибо истинное сопротивление, природа которого скорее метафизична, нежели социальна, может быть только активным, а не
Отсюда напрашивается вывод, что сопротивляющийся и объект сопротивления принадлежат к одной и той же онтологической модальности, к универсальной (на данный момент «большой истории») интеллектуальной парадигме современности. Эта модальность представляет собой аморфную, секулярную и плюралистичную «даосско-постмодернистскую» реальность, где силовые центры конфликтующих сторон ликвидны, неструктурированны и взаимопроникаемы, а значит, призваны создать видимость бесконфликтного бытия (5).
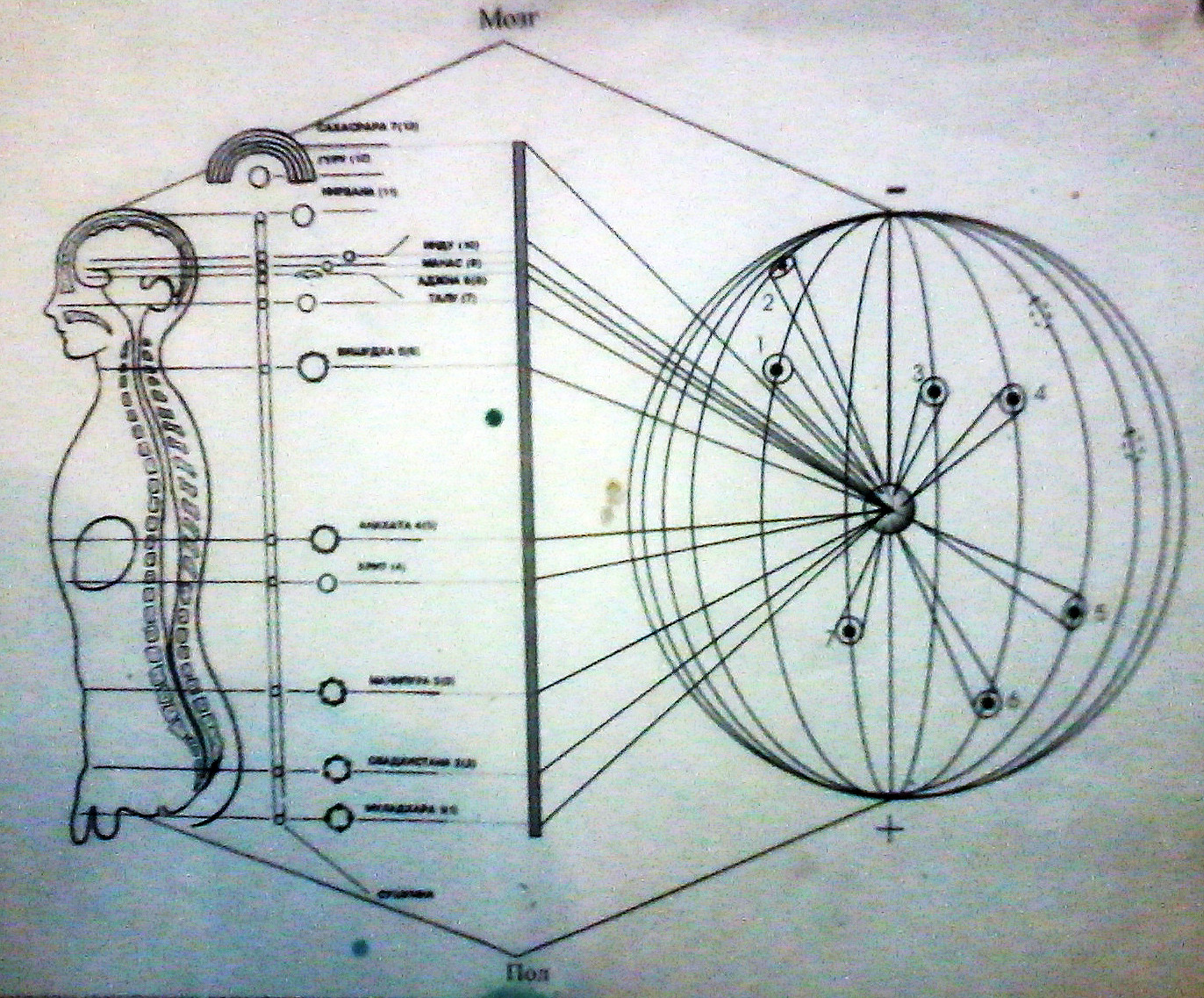
Осмелимся предположить, что данная актуальная модальность отражает в себе модифицированный дискурс языческого пантеистического концепта «абсолютного тождества» («единство всех проявлений бытия», «человек и мир едины»). Этот концепт предполагает отсутствие или хотя бы максимальное умаление субъектности как модуса радикального противостояния целому, что согласно данному концепту некорректно, ибо «всё есть целое». В рамках этого дискурса конечная цель человека (человечества) видится в снятии проблематичной дистанции между воспринимающим и воспринимаемым, а также в финальном отождествлении с целым, означающем конец истории и триумф общества (неолиберально-капиталистического) благоденствия. При этом потерявший статус субъекта человек превращается в пассивный манипулируемый объект (истории, политики, глобализации…). Разумеется, такой подход ведет к контрпассионарности, увеличению энтропии и выгоден лишь силам тирании, ибо в приложении к социальной действительности есть блестящий способ погашения кшатрийской энергетики угнетенных. Поэтому, в контексте рассматриваемой проблематики, «архиважным» представляется возрождение осознанной радикальной субъектности в современном человеке (6). То есть возрождение самого многомерного субъекта как такового, с его приверженностью единственно легитимной конкретной истине, вскрытой им силой необусловленной веры в глубине персональной экзистенции и противостоящей сумме «нормативных» истин тотальной социальности. В силу недиалектического противоречия между идеей субъекта и актуальной модальностью процесс реанимации субъектности связан с преодолением этой модальности. Но на этом пути нам необходимо заново определить «образ врага»…
Что является объектом сопротивления для актуального художника/интеллектуала? Думаем, не ошибемся, если скажем — глобализирующийся неолиберальный капитализм, как продукт Нового времени, базовые доктрины которого складывались в интеллектуальном формате рационализма (Декарт, Бэкон, Локк). Современный художник/интеллектуал, придерживающийся (преимущественно) леворадикальной позиции и претендующий на статус субъекта сопротивления, — дитя того же самого рационализма. Сквозь призму неомарксистской риторики капитализм маркируется им как негативная общественная формация, как историческая девиация, которую необходимо «выправить» с помощью социально-политических стратегий, результирующихся в идее неизбежной революции (7). По этой логике, насильственные изменения социально-экономических реалий в процессе революционных преобразований автоматически приведут к иному, демократическому миру. Но, учитывая принадлежность противостоящих друг другу сил к одной и той же онтологической модальности, не явится ли социальная революция возвращением того же самого, но в другом, мимикрическом обличье? И не является ли глобализирующийся капитализм/империя (или, если угодно, гомогенизирующийся социум) всего лишь одной из производных форм более могущественной субстанциональной метаструктуры, которую условно назовем Репрессивным Целым? Более того, не является ли сама идея революции как хирургического вмешательства в тело истории хитрой уловкой этого Репрессивного Целого, посредством которой последняя, всякий раз меняя декорации социально-политического ландшафта, оставляет по сути «всё как есть»?
3. Репрессивное Целое
Эти вопросы наводят на следующие размышления. На протяжении всей истории, на примере возникновения многочисленных империй и религиозных экспансий, мы видим попытки вышеуказанного, трудно верифицируемого Репрессивного Целого «глобализироваться», стать абсолютно гомогенным, стирая и уничтожая все, что может помешать этому (в первую очередь человека, который самим своим субъектным присутствием бросает вызов идее абсолютной гомогенности). Современное информационное общество, выросшее на дрожжах Нового времени, оказалось наиболее оптимальным для этой процедуры. А онтологическая модальность, на которой зиждется весь интеллектуальный каркас современности, есть исторически выверенная и наиболее адекватная отчужденному человеческому формату операционная система. В этом обществе, где насилие, являясь инструментальным атрибутом Репрессивного Целого, растворяется в декларируемых ценностях свободы и демократии, ужас экзистенциального рабства не столь очевиден, как в ранние, менее политкорректные эпохи. Среднестатистический индивид, «вывернутый наружу», т. е. находящийся на периферии собственного сознания и загипнотизированный пропагандой, ласкающей наивный слух «общечеловеческих ценностей», добровольно становится объектом тирании и угнетения. Общество спектакля самой своей суггестивной спектакулярностью и иезуитски хитрой системой конформистских подачек гасит в современном человеке интенции к сопротивлению. А все социальные революции только и делали, что подталкивали общество к этой заключительной стадии глобализации, когда степень отчуждения достигает такой степени, что ставится под вопрос само продолжение органической жизни на Земле.
Характерным симптомом актуальной ситуации информационного общества является сверхскоростное поглощение внутреннего внешним, так называемая «социализация приватного», проще говоря, неприкрытая медиакратическая агрессия социума против Каждого, претендующего на суверенность мышления. Наблюдаемые среднестатистическим зрением плюрализм и мультикультурность, казалось бы, децентрализирующие планетарную власть и подрывающие тотальность, на деле лишь переводят ситуацию в режим глобального нелинейного контроля. Где гарантия, что и ныне, лелеемая силами сопротивления «новая» революция не станет еще одной лептой в усилении Репрессивным Целым своих онтологических позиций? Неужели человек, в рамках истории, обречен на бесконечный процесс реактуализации утопических проектов с более или менее прогнозируемым результатом? Да, безнадежно обречен, с единственной оговоркой — если и впредь будет проявлять эксплозивную активность в рамках актуальной онтологической модальности, если энергия его внимания будет по-прежнему рассеяна во Внешнем.
Ведь что такое Репрессивное Целое? Анатомическая природа этой коварной метаструктуры амбивалентна: с одной стороны, она антропоморфна, с другой — онтологична. Рассматривая первую «характеристику», можно предположить, что Репрессивное Целое есть проекция «вовне» всей совокупности имманентных антропогенных качеств, этакая объективированная эссенция «человеческого слишком человеческого». Неприкосновенный для критики языческий культ антропоцентризма и вытекающая из этого бессмертная мода на гуманизм есть тому подтверждение. Согласно актуальной модальности, человек самодостаточен, равен самому себе, точнее, заперт в своей антропной скорлупе. Можно сказать, что Репрессивное Целое есть эволюционный продукт экстериоризации антропогенного фактора и, в качестве «человеческого абсолюта», по линии «обратной связи», имплантирует в интеллектуальную матрицу гомо сапиенса программу его непрерывного самовосполнения, процессуально направленную в дурную количественную бесконечность (идея прогресса). Именно на линии дурной бесконечности расположены точки всех прошлых, настоящих и будущих революций и социальных инноваций. Поэтому любые метасоциальные исторические акты, преследующие внешне благородные цели построения справедливого общества и улучшения самодостаточной человеческой природы — в идеальном проекте исключающие все проблематичные дискурсы как помехи к гармоничному и стабильному благу, — будут на деле лишь укреплять Репрессивное Целое. Последнее же, декларируя позитивные ценности — свободы, любви, добра, справедливости, — на выходе будет всякий раз продуцировать лишь энергетическое убывание, энтропию, регресс, деградацию, ложь и насилие, так как представляет собой самозамкнутую (по «образу и подобию»…) и закрытую от
Вторая онтологическая составляющая Репрессивного Целого побуждает идентифицировать его с самим бытием, с совокупностью всего, что есть. Логика здесь следующая. Человек, изначально, есть существо социальное, и его взаимодействие с окружающим природным миром опосредовано социальными отношениями. В этом случае так называемая объективная действительность со всеми физическими законами и
4. «Верю»
АБСУРДНА! Но именно в этой абсурдности теплится выход: ситуация актуальной невыносимости вталкивает нас в пространство Веры… Вспомним Тертуллиана: «Верю, потому что абсурдно». Вера вопреки…

Вера «не работает» с актуальным бытием, с тем что есть, ибо бытие очевидно (9.) Вера, косвенно дезавуируя подлинность очевидного, «апеллирует» к невозможности, т. е., полагая свой объект не в актуальном, «резонирует» с
Именно эта «последняя» инстанция в различных философско-исторических контекстах обозначалась как «абсолют», «единое», «универсум» «первоначало» и т. д. Но вся интрига в том, что само наличие человека как перцептивной точки, осознанно воспринимающей эту гомогенную инстанцию, подрывает ее гомогенность: абсолютная гомогенность не может допустить существования чего-то, что было бы качественно отлично от нее. Другими словами, гомогенность/бесконечность исключает свидетельствующее сознание как фактор, нарушающий «чистоту» гомогенности и ограничивающий бесконечность. Субъект восприятия никак не вписывается в идею абсолютной гомогенности, ибо осознанно воспринимать (рефлектировать) можно только то, что принципиально отлично от воспринимающего (иначе ни о каком восприятии не может быть и речи). Таким образом, наличие перцепции, которую можно охарактеризовать как драматическую встречу «я" с "не-я», постулирует, во-первых, принципиальную онтологическую инаковость человека всему тому, что Есть (радикальную центрированную субъектность как точку разрыва «изначальной» гомогенности), во-вторых, самим своим наличием ограничивает экспансию Репрессивного Целого, косвенно подчеркивая его нелегитимность, а значит, «историческую» обреченность. Точка абсолютного не-тождества и есть «место обитания» радикальной субъектности, выступающей контрапунктом Репрессивному Целому. А человека (художника) можно определить как заброшенного во враждебную реальность агента абсолютно Иного — точкой хаоса в царстве ложного порядка и обманчивой, конвульсивно удерживаемой стабильности.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сказать, что интуиция веры побуждает современного художника/интеллектуала к важнейшему методологическому акту — акту экзистенциального различения внутреннего и внешнего. Или, по-другому, — растождествления с Репрессивным Целым, разрыва пуповины с тотальной социальностью, означающим в то же время преодоление актуальной онтологической модальности и возрождение истинной радикальной субъектности. Этот, признаем, небезболезненный акт предполагает обстоятельную ревизию интеллектуальных парадигм современности, которые, при всех своих изощренных модификациях, не выходят за артикулированный рассудком формат нововременского рационализма. Актуализация точки не-тождества невозможна без обращения (и дальнейшей интеллектуальной проработки) к элиминированным рационализмом нонактуальным дискурсам, например, эсхатологическому дискурсу, так как упомянутая выше мысль об «исторической» обреченности Репрессивного Целого справедлива лишь в эсхатологической перспективе. Иначе говоря, назревает потребность к вскрытию табуированных зон, объявленных просвещенческим рационализмом архаичными и примитивными.
На этом пути, наверное, самым сложным будет принять идею несамодостаточности, инструментальности и драматической амбивалентности человека, который, с одной, корпоральной, стороны, един с Репрессивным Целым, но, с другой, через внутреннюю точку не-тождества, коммуницирует с
Как этот комплекс экзистенциальных процедур приложить к сфере социальной активности? Этот вопрос чрезвычайно сложный и выходящий за рамки настоящей статьи. Нашей задачей было лишь в эскизной форме набросать контуры иной, нон-актуальной творческой стратегии, субъектом которой мог бы стать нон-актуальный художник/интеллектуал, для которого сопротивление является не методом идеологической борьбы против очевидной девиации, а сущностным зерном самого метаисторического предназначения антропоса, заброшенного в этот невыносимый мир. Единственное, что можно сказать о практической сфере, так это то, что вышеуказанные фундаментальные процедуры невозможно проводить в суете и спешке, столь характерных для актуального социума. Любой фундаментальный жест, «схваченный» социумом, тут же диссипациируется. Необходима отрешенность, «пауза созерцания». А значит, акт экзистенциальной сепарации внутреннего и внешнего должен быть перенесен и в социальную среду: художник/интеллектуал, осознавая онтологическую нелегитимность Репрессивного Целого и свою неприкаянность в актуальном социуме, должен духовно отмежеваться от последнего и волевым усилием создать для себя «паузу созерцания». То есть, продолжая проявлять внешнюю рефлектирующую активность в сфере враждебной его духу массовой культуры, внутренне он должен совершить культурную дифференциацию — не подставлять продукты хрупкого интеллектуального процесса под прожорливый медиальный луч тотальной социальности, ибо все, что попадает под этот луч, — инфицируется и опошляется. Истинная же креативная и междисциплинарная работа в этом случае будет вестись в размеренной тиши суверенного альтернативного сообщества интеллектуалов, в рамках которого существуют совершенно иные критерии, правила и принципы сосуществования. При этом создание и постоянное укрепление автономной интеллектуальной среды, внеположной социуму (своеобразного Ноева Ковчега), в условиях жесткого прессинга внешнего является одной из важнейших задач художника/интеллектуала, требующего от него колоссального волевого усилия, интеллектуального мужества, парадоксальных этических жестов, возможно, самопожертвования, но ведь это и подразумевает вера… Речь идет о духовном выживании — не более, не менее.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мамардашвили М. К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. — М.: Наука, 1972, с. 53.
2 В историческом срезе в качестве коллективных субъектов рассматриваемой тенденции можно назвать первые общины почти всех мировых религий. Деятельность этих общин до момента универсализации их идей и возникновения институциональной религии (как результата инверсивной реадаптации духовного Послания к социуму) была направлена не на реактивное вмешательство в социальные структуры, а на взращивание парадоксальной и контрпрагматической веры в абсолютно Иное. Именно эта «нулевая» и, казалось бы, политически наивная стратегия приводила к пассионарному энергетическому взрыву внутри социального пространства с последующей «цивилизационно-культурной» экспансией — явлению, ассоциируемому с теорией происхождения Вселенной из ничто…
3 Это соотношение нельзя назвать бинарным: противоположностью «актуальному» является «потенциальное»; «нон-актуальное» же проявляется в совершенно иной, не-дуальной модальности, трансцендентной бинарной связке «актуальное/потенциальное».
4 С этим, по всей видимости, связан вынужденный отказ от понятия «сущности человека» в европейской мысли. Ибо это понятие неразрывно связано со статусом человека как субститута Бога, наместника последнего на земле, а это уже вынесено рационализмом за скобки, в качестве научно некорректного дискурса.
5 Наиболее красноречивым примером такого «бесконфликтного бытия» является масс-медиальное пространство, узурпировавшее статус бытия (всё, что есть, есть только в этом пространстве). Несмотря на демонстрацию в рамках этого симулятивного пространства нескончаемых конфликтов и сцен насилия, рядовой гомо сапиенс воспринимает всю эту гнусную трансляцию индифферентно и отчужденно (бесконфликтно), как занимательный и забавный театр теней.
6 По сути, интеллектуальная практика многих мыслителей современности преследует именно эту цель. Но, по нашему мнению, в силу антропогенной оптики их мышления и вытекающего из этого иммунитета против трансцендентного (метафизического/теологического) дискурса эта цель превращается в удаляющийся горизонт.
7 Справедливости ради отметим, что идеей финальной Революции бредят не только левые, но и правые (консервативная революция).
8 В этой связи нелишним будет отметить, что глобальный экологический кризис обусловлен сознательным отчуждением человеческого (результирующегося в Репрессивном Целом) от Нечеловеческого (Иного). По законам же «продвинутой» физики любая закрытая система обречена на энтропию.
9 Нелишним будет вспомнить и слова Ж. Деррида: «Всё, что очевидно, — ложно».
