Катрин Малабу. Пластичность и гибкость, за сознание мозга
В издательстве V–A–C press вышла книга Катрин Малабу «Что нам делать с нашим мозгом?» Что нам делать с его историчностью? С его таким необходимым и
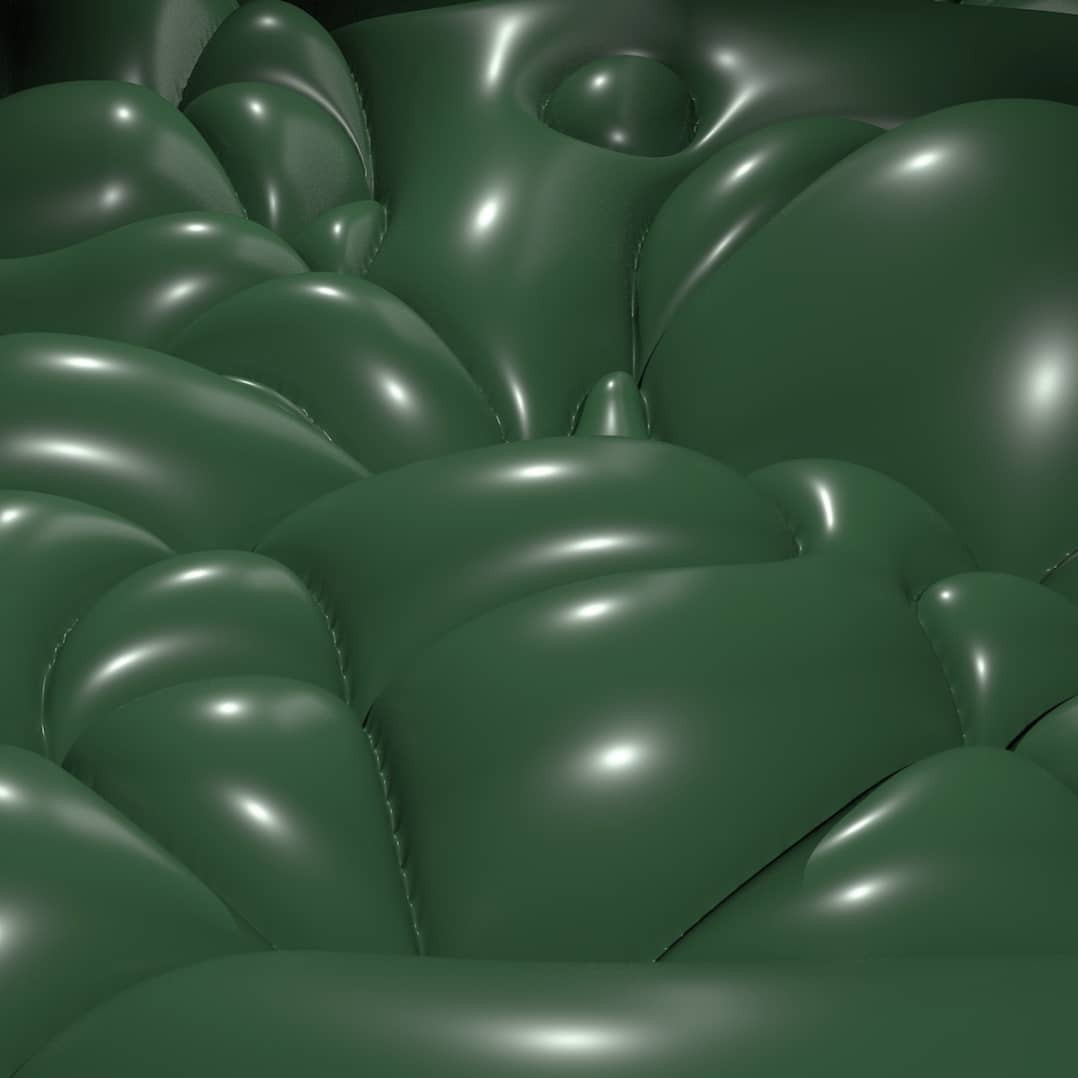
Мозг — это произведение, и мы этого не знаем. Мы его субъекты — одновременно авторы и порождения, — и мы этого не знаем. «Люди сами делают свою историю, но они не знают, что ее делают», — говорит Маркс, желая пробудить сознание историчности. В известном смысле эти слова полностью применимы и к предмету нашего рассмотрения: «Люди сами делают свой мозг, но они не знают, что его делают». Мы не пытаемся, видоизменив эту изящную фразу, совершить ловкий риторический маневр или ограничиться поверхностной формальной аналогией. Совсем напротив, сегодня решительно установлена связь между мозгом и историей — понятиями, которые, надо сказать, очень долго считались антитетическими.
Речь идет о настолько глубокой структурной связи, что она в
В самом деле, сегодня допустимо утверждать, что существует конститутивная историчность мозга. И цель предлагаемой читателю книги — пробудить сознание этой историчности.
Отныне важна уже не постановка вопроса, являются ли мозг и сознание одним и тем же — оставим в стороне этот древний и обманчивый спор, — но обоснование той странной критической единицы (одновременно философской, научной и политической), которой могло бы быть сознание мозга. Именно к этому новаторскому обоснованию — открытому для всех — и приглашает вопрос: «Что нам делать с нашим мозгом?»
Мы все еще не усвоили результаты революционных открытий, сделанных за последние пятьдесят лет в области нейронаук (совокупность дисциплин, чьим предметом исследования является центральная нервная система — ЦНС — ее анатомия, физиология и функционирование) [1] и чуть ли не ежедневно переворачивающих наши ошибочные и вместе с тем на удивление устойчивые представления о мозге. Уже в 1979 году в предисловии к своей книге «Человек нейронный» Жан-Пьер Шанжё заявил, что познания в области нейронаук получили «развитие, сопоставимое по своей значимости разве что с развитием физики в начале века или молекулярной биологии в 1950-е. Открытие синапса и его функций по масштабу последствий похоже на открытие атома или ДНК. Перед нами проглядывают контуры нового мира, и сейчас весьма благоприятный момент, чтобы не только обеспечить доступ к этому полю знания для более широкой публики, чем сообщество специалистов, но и по возможности заразить ее энтузиазмом, которым проникнуты исследователи в этой области». [2] Вместе с тем никакой передачи знания, никакого привлечения широкой аудитории и заражения энтузиазмом так и не случилось. Спустя двадцать пять лет вывод автора не утратил актуальности: «Игнорирование мозга, за некоторыми исключениями, носит тотальный характер». [3] Даже несмотря на то что многое изменилось, нейронауки стали по-настоящему передовыми отраслями знания, медицинская визуализация пережила небывалый прогресс, «когнитивные науки» обрели статус полноправных дисциплин, [4], а число статей о ЦНС в ведущих изданиях неуклонно растет, у «человека нейронного» по-прежнему нет сознания.
В этом смысле мы остаемся чужими самим себе на пороге этого «нового мира», о котором не имеем ни малейшего представления, в то время как он составляет саму нашу личность. «Мы» не имеем никакого представления о «нас» — о том, что у «нас» внутри. Конечно, все мы слышали о нейронах, синапсах, связях, сетях, разных типах памяти. Все мы в курсе существования нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Многие из нас видели в больницах табличку «услуги функциональной нейровизуализации». Некоторые знают, что сегодня, благодаря новым методам МРТ и ПЭТ,5 появилась возможность наблюдать мозг in vivo и в реальном времени. Все сходятся во мнении, что психоанализ — на спаде, и повсюду слышны речи (неважно, справедливые или нет) о том, что единственное эффективное лечение невротической депрессии — химическое. Мы знаем об ИМАО и СИОЗС, [6] нам смутно знакомы слова «серотонин», «норадреналин» и «нейротрансмиттер», мы догадываемся о нейрональном происхождении зависимости от табака или наркотиков. Мы знаем, что сегодня возможно провести операцию по пересадке кистей рук и что мозг способен перестроить схему тела с учетом чужих конечностей. Мы слышали об особой способности нервной системы восстанавливаться (по меньшей мере частично) после некоторых перенесенных повреждений. Выражение «восстановительный потенциал» не является для нас чем-то неведомым. [7]
Проблема в том, что мы не видим связи между этими явлениями, названиями и ситуациями, которые здесь намеренно приведены вперемешку и, на первый взгляд, не имеют ничего общего. Вместе с тем таковая связь существует и относится к активности мозга, его способу развиваться, работать, делать — к мозгу как нашему произведению, нашей истории, нашей уникальной судьбе.
Подлинное произведение мозга, которое вовлекает индивида в собственную авантюру и историю, имеет имя: пластичность. То, что мы назвали конститутивной историчностью мозга, есть не что иное, как его пластичность. Пластичность ЦНС, нейропластичность, синаптическая пластичность — мы слышим это слово на всех неврологических отделениях медицинских факультетов и университетских больничных центров, в наименованиях научно-исследовательских отделов по нейронаукам, [8] оно бросается в глаза, часто встречается в публикациях, которые значатся под рубрикой «Мозг» в каталогах библиотек, и входит в заглавие самостоятельной дисциплинарной области в научных журналах. [9] И все это отнюдь не случайно. В сущности, пластичность — объединяющее понятие нейронаук. Сегодня оно составляет общую область их интересов, господствующий мотив и излюбленную рабочую схему, поскольку позволяет одновременно мыслить и описывать мозг как абсолютно оригинальные динамику, организацию и структуру. [10]
Наш мозг пластичен, и мы этого не знаем. Мы ничего не знаем об этой динамике, этом способе организации, этой структуре. Мы продолжаем верить в «„ригидность“ всецело генетически обусловленного мозга», [11] и что нам с ним делать — очевидно бесполезный вопрос. Само слово «мозг» нас пугает; мы ничего не понимаем во всех этих явлениях, этих складках, полях, слоях, локализациях, этом жаргоне, который как будто описывает ряд фиксированных и, по сути, генетически программируемых образований без какой-либо гибкости и способности к импровизации; в этой организации, которая дала повод к такому количеству настораживающих метафор, связанных с руководством и управлением (контролер, отдающий приказы сверху вниз, телефонная станция, компьютер и т. п.), с кибернетической бездушностью, от которой нам пока еще важно отмежевать сознание, [12] единственный знак жизни и свободы в этом царстве неумолимой органической необходимости, где любое движение и любой порыв, кажется, сводятся к одному лишь рефлексу.
Между тем пластичность прямо противоположна ригидности. Она — точный антоним последней. Термин «пластичность» обычно обозначает как раз податливость, приспособляемость, умение перестраиваться. Действительно, согласно своей этимологии — от греч. πλάσσειν «лепить» — это слово имеет два основных смысла: оно одновременно указывает на способность принимать форму (в том смысле, в каком «пластичной» называют, например, глину, в том числе гончарную) и способность форму придавать (как в пластических искусствах и пластической хирургии). Таким образом, говорить о пластичности мозга значит рассматривать его как инстанцию разом изменяемую, «формуемую» и формообразующую. Кроме того, как мы увидим, нейропластичность действует на трех уровнях: 1) формирование нейронных связей (пластичность развития эмбриона или ребенка); 2) изменение нейронных связей (пластичность модуляции синаптической эффективности на всем протяжении жизни); 3) способность к восстановлению (восстановительная пластичность): «Пластичность — это свойство нервной системы изменять свою структуру и функции вследствие развития, полученного опыта или перенесенных повреждений». [13]
Но следует отметить, что пластичность может указывать и на способность уничтожать форму, которую она в состоянии принимать или создавать. Не будем забывать, что французское слово plastic (от которого происходят plastiquage и plastiquer) обозначает мощное взрывчатое вещество на основе нитроглицерина и нитроцеллюлозы. Итак, как мы видим, значение термина «пластичность» колеблется между двумя крайностями: с одной стороны, восприимчивости, принятия формы (скульптура или пластиковые предметы), с другой — уничтожения всякой формы (взрыв).

Слово «пластичность», стало быть, раскрывает свой смысл в диапазоне между скульптурной формовкой и дефлаграцией, то есть взрывом. А раз так, то говорить о пластичности мозга значит видеть в нем не только создателя и получателя формы, но еще и фактор неповиновения всякой стандартизации, отказ подчиняться модели.
Остановимся на формировании нейронных связей, которое становится возможным в силу опыта, навыков, житейских привычек каждого из нас, способности самой жизни накладывать на нас свой отпечаток. Понимаемая в этом смысле, пластичность мозга, как видно, вполне соответствует возможности формовки посредством памяти, способности «лепить» историю. Хотя восприимчивость центральной нервной системы к изменениям особенно выражается в ходе развития, сегодня твердо установлено, что потенциал к обучению, приобретению новых навыков и новых воспоминаний сохраняется в течение всей жизни — и притом разнится от одного индивида к другому. Способность каждого принимать и создавать свою собственную форму не зависит ни от какой предустановленной формы. Изначальные модели или стандарты в некотором роде постепенно изглаживаются.
Синаптическая эффективность повышается или понижается именно благодаря индивидуальному опыту. Синапс — от греч. σύναψις «связь», «точка соединения» — место контакта или соединения двух нейронов. Нейрон, элементарную единицу нервной ткани, можно разделить на три части: тело клетки (протоплазма), дендриты и аксон, которые являются его отростками. Именно с их помощью устанавливаются связи (синапсы) между двумя нейронами. Дендриты, как, впрочем, и тело клетки, составляют то, что принято называть постсинаптической частью нейрона (именно ее достигают восходящие связи). Аксон, в свою очередь, составляет пресинаптическую часть нейрона: его окончания образуют нисходящие связи. [14] Марк Жанро объясняет: «Если синапс входит в часто используемую цепочку, он имеет тенденцию увеличиваться в объеме, его проницаемость повышается и эффективность возрастает. И наоборот, мало используемый синапс становится менее эффективным. Теория синаптической эффективности позволяет, таким образом, объяснить постепенное формование мозга под влиянием индивидуального опыта — вплоть до учета отличительных характеристик и особенностей. [Речь идет] о механизме индивидуации, делающем каждый мозг уникальным объектом, невзирая на его принадлежность общей модели». [15]
В этом смысле, как мы уже догадались, мозг пианиста не строго идентичен мозгу математика, механика или рисовальщицы. Но, разумеется, здесь принимается во внимание не только «профессия» или «специальность». Имеет значение вся идентичность индивида: его прошлое, среда, встречи, практики — словом, умение нашего мозга — любого мозга — адаптироваться, усваивать изменения, принимать удары и вновь творить исходя из самого этого «принятия». Вопреки нашему мнению именно потому, что мозг не есть нечто заранее готовое, и следует задаться вопросом, что нам с ним делать, как нам поступать с этой пластичностью, которая «творит» нас подобно тому, как создают произведение скульптуры или архитектуры. Что нам делать с этим органическим пластическим искусством? Сегодня общепризнано, что «синаптическая пластичность в ходе обучения и развития, равно как и во взрослом состоянии, ваяет мозг каждого из нас. Воспитание, опыт, тренировка делают каждый мозг уникальным произведением». [16] Что же нам делать со всеми этими неосвоенными возможностями внутри нас? Как быть с генетической свободой действий? Что делать с идеей по-настоящему живого мозга (модификация синаптической эффективности, как мы увидим, свойственна даже самой элементарной животной жизни и потому сегодня считается одной из основополагающих характеристик живого), хрупкого, зависимого от нас в той же степени, что и мы от него: с головокружительной взаимностью принятия, придания и приостановления формы, которая в точности характеризует новую структуру сознания?
Понятно, почему Жан-Пьер Шанжё считает «открытие синапса и его функций» столь же революционным, как и открытие ДНК: первое вносит настолько существенные уточнения и поправки во второе, что почти ему противоречит.
Пластичность мозга задает пределы допустимой импровизации относительно генетической необходимости. Сегодня больше нет случайности и необходимости. Есть случайность, необходимость и пластичность — которая, собственно говоря, не относится ни к тому, ни к другому.
«Как мы знаем, сила генов, — заявляет Шанжё, — обеспечивает сохранение и передачу основных черт [мозговой] организации, формы мозга и его извилин, расположения его полей, общей архитектуры мозговой ткани… Но существует определенная изменчивость, на которую их сила не распространяется». [17] Если функционирование нейронов и есть событие, то как раз потому, что оно само способно создавать события, сообщать событийность программе, а стало быть, в некотором смысле ее депрограммировать.
Мы живем в пору нейронного освобождения и сами того не знаем. Некая инстанция внутри нас придает смысл коду, и мы этого не знаем. Различие между мозгом и психикой в значительной степени ослабевает, и мы этого не знаем. «Мы» в конце концов совершенно совпадаем с «нашим мозгом» — поскольку наш мозг и есть мы, интимная форма «протосамости», [18] своего рода органической личности, — и мы этого не знаем. Люди сами делают свой мозг, но они не знают, что его делают.
Но почему же, почему они этого не знают? Почему мы продолжаем верить, что мозг — всего-навсего «машина», программа без обещаний? Почему мы пренебрегаем нашей собственной пластичностью? На самом деле это вовсе не по причине отсутствия информации — сегодня нет недостатка в общедоступной литературе по теме пластичности мозга. Речь не идет о проблеме популяризации, так как о пластичности, по сути, можно говорить очень просто, чем я и предполагала заняться в этой книге. Речь не идет о знании, речь идет о сознании. Что же именно требуется осознать (а не просто узнать) применительно к пластичности мозга? Какова природа ее смысла?
Отнюдь не желая играть словами, все же ответим, что сознание пластичности, которое требуется пробудить, затрагивает ее способность натурализации сознания и смысла. Проще говоря, если у нас нет сознания пластичности, то это, согласно кажущемуся парадоксу, потому, что мы ее не видим, не замечаем, как среду, в которой живем и развиваемся, не обращая на нее внимания. Она стала формой нашего мира. Как заметили Люк Болтански и Эв Кьяпелло в своей знаковой книге «Новый дух капитализма», нейронное функционирование и функционирование социальное взаимно друг друга обусловливают, придают друг другу форму (опять же сила пластичности) до такой степени, что провести между ними различие более не представляется возможным. Как если бы нейронное функционирование совпадало с естественным ходом вещей, как если бы нейропластичность сообщала некоему типу политической и социальной организации биологическую укорененность, а значит, и обоснование. Что, собственно, и составляет смысл «эффекта натурализации». Авторы заявляют, что мы живем в «отношенческом мире, обладающем когерентностью и природной непосредственностью». Однако «эффект натурализации бывает, несомненно, наиболее значительным в таких науках, которые, объединяя биологию и общество, выводят социальную связь из укоренения в порядке живого или же дают свое представление общества на основе физиологической метафоры: только сегодня речь идет уже не о клеточной дифференциации, как некогда в органицизме, но, скорее, о нейронной метафоре со всеми ее сетями и потоками». [19]
Люди сами делают свой мозг, но они не знают, что его делают. Мы ничего не знаем о пластичности мозга. Зато мы знаем все об определенной организации труда: частичная занятость, временные контракты, требование абсолютной мобильности и приспособляемости, требование креативности… Мозг — это наше произведение, и мы этого не знаем. Зато мы прекрасно знаем, что живем в сетевом обществе. Мы усвоили, что выживать сегодня означает быть подсоединенным к сети, быть в состоянии модулировать свою эффективность. Нам очень хорошо известно, что любая утрата гибкости влечет за собой безоговорочное отправление на свалку.
Столь ли велика разница между нашими представлениями о безработном, утратившем право на пособие, и человеке с болезнью Альцгеймера?
Мы знаем, что отныне индивид конструирует свою жизнь как произведение и он ответствен за то, что из себя сделать, а для этого он обязан не быть ригидным. Следовательно, не обязательно быть в курсе актуальных открытий в области нейронаук, чтобы иметь непосредственный повседневный опыт нейронной формы политического и социального функционирования, формы, которая во многом совпадает с нынешним обликом капитализма.
Отсылка к Марксу в самом начале нашего анализа приобретает здесь всю полноту смысла. Задаваясь вопросом «Что нам делать с нашим мозгом?», мы желаем не просто снабдить читателя кое-какими сведениями о функционировании мозга. Обыгрывая название известной книги Дэниела Деннета, скажем, что мы стремимся не объяснить, а вовлечь сознание. [20] Вовлечь сознание, поставив вопрос: «Что нам делать с нашим мозгом?» — значит на основе этих сведений попытаться разработать критику того, что мы назвали бы нейронной идеологией. Необходимо не только обнаружить в пластичности известную свободу мозга, но также, на основе максимально досконального изучения функционирования этой пластичности, сделать эту свободу еще более независимой. Высвободить ее
Но вопрос «Что нам делать с нашим мозгом?» относится не только к философам, ученым и политикам — это вопрос для всех. Он должен позволить нам понять, почему несмотря на то, что мозг пластичен и свободен, мы по-прежнему пребываем «в оковах». Почему несмотря на то, что деятельность центральной нервной системы, какой она предстает сегодня в свете научных открытий, бесспорно наводит на мысль о совершенно новом типе трансформации, мы ощущаем, будто ничего не трансформируется. Почему, хотя и очевидно, что сегодня не может быть философского, политического или научного подхода к истории, не сопряженного с утонченным анализом нейронного феномена, мы чувствуем, что лишены будущего, и спрашиваем себя, зачем вообще обладать мозгом, что с ним делать?
Итак, ключевой вопрос настоящей книги следует сформулировать следующим образом: что нам делать, чтобы сознание мозга не совпало попросту с духом капитализма? Мы выдвинем следующее положение: сегодня подлинный смысл пластичности затемнен, мы склонны постоянно подменять ее на «ложного друга» — гибкость. Различие между этими терминами кажется незначительным. Однако гибкость — это идеологический аватар пластичности. Одновременно ее личина, искажение и изъятие. О пластичности мы не знаем ничего, о гибкости знаем все. В этом смысле пластичность предстает грядущим сознанием гибкости. На первый взгляд у этих терминов одно и то же значение. Словарная статья о слове «гибкость» сообщает: «Во-первых, качество того, что гибко, что легко сгибается (эластичность, податливость); во-вторых, способность легко изменяться, чтобы иметь возможность приспосабливаться к обстоятельствам». Примеры, иллюстрирующие второе определение, известны каждому: «гибкая занятость, гибкое расписание (скользящий график), гибкая производственная система»… Проблема в том, что эти значения охватывают лишь один из смысловых регистров пластичности: принятие формы. Быть гибким — это принимать форму или нести отпечаток, быть сгибаемым, прогибаться, а не прогибать, быть покорным, а не взрывным. Гибкости недостает ресурса придания формы, возможности изобретать, оставлять или устранять отпечаток, способности оформлять. Гибкость есть пластичность минус ее гениальность. [21]
Люди сами делают свою историю, но они не знают, что ее делают. Наш мозг есть произведение, и мы этого не знаем. Наш мозг пластичен, и мы этого не знаем. Причина в том, что гибкость почти всегда перекрывает пластичность, в том числе в научных дискурсах, которые якобы описывают ее во всей «объективности». Ошибка некоторых когнитивистских дискурсов не в том, что они сводят ментальное к нейронному или дух к биологической единице. Автор настоящей книги сама придерживается совершенно материалистических взглядов, и подобные утверждения ее едва ли шокируют. Но ошибочно полагать, будто «человек нейронный» — это простая нейронная данность, а не политическая и идеологическая конструкция (включая конструкцию самого «нейронного») в том числе. Мы видим, что многие описания пластичности мозга в действительности суть неосознанные обоснования безграничной гибкости. Порой возникает ощущение, что от аплизии [22] до человеческой нервной системы совершенствуется способность — точно описанная в категориях синаптической пластичности — уступать и покоряться среде, приспосабливаться ко всему, быть готовым к любым изменениям. Как если бы под предлогом описания синаптической пластичности пытались продемонстрировать, что гибкость прочно вписана в мозг. Как если бы мы больше знали о том, сколько мы можем вынести, чем о том, сколько можем сотворить. Следовательно, отстаивать подлинную пластичность мозга — значит требовать знания о том, что мозг может сделать, а не только стерпеть. Глагол «делать» мы используем не только в смысле занятий, скажем, математикой или фортепиано, он означает делать свою историю, становиться субъектом своей истории, ухватить связь между участием генетического недетерминизма в формировании мозга и возможностью социального и политического недетерминизма, словом, новой свободы, нового значения истории.
Гибкость — расплывчатое представление, без традиции, тогда как пластичность — это понятие, то есть форма, обладающая весьма точными значениями, собирающая и структурирующая частные случаи. У этого понятия богатое философское прошлое, которое слишком долго находилось в тени. Мы не намереваемся здесь никого критиковать, наша цель — не полемика. Мы просто хотели бы размежевать представление и понятие, чтобы одно не принимали за другое, чтобы их не смешивали (как это намеренно сделали мы выше, говоря о невротической депрессии, пересадке рук, восстановлении после повреждений и желая вскрыть терминологическую путаницу, в которой погрязли мы все, не исключая автора этой книги). Что касается меня, то я очень давно интересуюсь пластичностью и в своих предыдущих работах пыталась исследовать и реконструировать ее происхождение и смысл в философской традиции. Изучение нейропластичности и функционирования мозга, а также чтение ключевых текстов когнитивистов, посвященных этой теме, не просто обогатили мои познания: это было настоящим испытанием и в то же время подтверждением, обновлением и конкретизацией философского значения пластичности. Предпринятое в этой книге упражнение по критической эпистемологии, таким образом, имеет целью уточнить и согласовать употребление этого понятия.
И все же не будем забывать, что вопрос «Что нам делать с нашим мозгом?» — это вопрос для всех и что он призван пробудить чувство новой ответственности. Таким образом, если опустить приведенные выше критические императивы, проводимое здесь исследование должно позволить всякому, кто готов проследить его ход, задуматься о новых модальностях самоформирования, таящихся под словом «пластичность» и находящихся по ту сторону упрощенной альтернативы между ригидностью и гибкостью. Не «до какой степени мы гибки?», но скорее «в чем мы пластичны?».
Примечания
1. Термин «нейронауки» используется с 1970-х годов; он объединяет нейробиологию, нейрофизиологию, нейрохимию, нейропатологию, нейропсихиатрию, нейроэндокринологию и т.п.
2. Changeux J.-P. L’homme neuronal. Paris: Hachette Littératures, 1990. P.7–8.
3. Ibid.
4. «Когнитивные науки образуют обширный массив исследований, затрагивающих множество дисциплин: когнитивную психологию, искусственный разум, нейронауки, лингвистику и философию сознания. Сегодня говорят даже о „когнитивной антропологии“и „когнитивной социологии“… Охватываемые ими области (восприятие, память, обучение, сознание, рассудочная деятельность и т.п.) исследуются на многих уровнях: от биологических оснований (физиология клеток, анатомия мозга и т. д.) вплоть до изучения „внутренних ментальных состояний“ (представлений, ментальных образов, стратегий решения проблем)». Dortier J.-F. (éd.) Le cerveau et la pensée. La révolution des sciences cognitives. Paris: Sciences Humaines Éditions, 1999. P. 4.
5. «Магнитно-резонансная томография», «позитронно-эмиссионная томография». Об этом см.: Annales d’histoire et de philosophie du vivant, vol. 3. Le cerveau et les images. Paris: Institut d’édition SanofiSynthélabo, 2000.
6. «Ингибиторы моноаминоксидазы» и «селективные ингибиторы обратного захвата серотонина»: «Прозак» [Флуоксетин], «Паксил» [Пароксетин], «Лувокс» [Флувоксамин], «Селекса» [Циталопрам] и т. д.
7. Это понятие широко используется в работах Бориса Цирюльника (см. последнюю главу настоящего издания).
8. Несколько примеров с сотен интернет-страниц, посвященных пластичности, служат тому подтверждением: «Нейропластичность» (www.chu-rouen.fr); Институт Пастера: курс о развитии и пластичности нервной системы (www.pasteur.fr); коллектив Национального центра научных исследований: «Интеграция и синаптическая пластичность в зрительной коре» (www.unic.cnrs-gif.fr); «Мастерская по нейропластичности и математическому моделированию» (www.crm.umontreal.ca); «Развитие и пластичность нервной системы» (sign7.jussieu.fr); «Развитие и пластичность ЦНС», лиценциат по когнитивным наукам, Университет Экс-Марсель (www.sciences-cognitives.org); «Пластичность и регуляция нейрогенеза в мозге» (Incf.cnrs-mrs.fr); «Группа по восстановительной пластичности», факультет наук и технологий Сен-Жером, Марсель (irme.org).
9. Это особенно касается журнала La Recherche.
10. Сошлемся на следующие издания: Ansermet P., Magistretti F. À chacun son cerveau: Plasticité neuronale et inconscient. Paris: Odile Jacob, 2004; Schwartz J.M. The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force. New York: Harper Collins, 2002; Дойдж Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга. М.: Эксмо, 2010.
11. Changeux J.-P. Op. cit. P. 337.
12. Слово «кибернетика» происходит от греч. κυβερνάω «править». Кибернетика — это наука, образуемая совокупностью теорий, относящихся к контролю, регуляции и коммуникации в случае живых существ и машин.
13. Gregory R.L. Le cerveau, un inconnu. Paris: Laffont, 1993. P. 1044.
14. Эта характеристика представляет собой упрощенное воспроизведение чрезвычайно точного описания, представленного в книге Марка Жанро: Jeannerod M. Le cerveau intime. Paris: Odile Jacob, 2002. P. 47. Следует уточнить, что аксон, который гораздо длиннее других отростков, является в некотором роде телеграфным проводом, пере- дающим сообщения от одного нейрона к другому, а также к мышце или железе, которые он иннервирует. Аксон и окружающая его оболочка образуют нервное волокно. Каждый нейрон производит электрические сигналы, которые таким образом распространяются по всей длине аксонов. Передача сигналов от одного нейрона к другому через синапс обычно осуществляется благодаря определенному химическому веществу, нейромедиатору.
15. Ibid. P. 63.
16. Ibid. P. 66.
17. Changeux J.-P. Op. cit. P. 301.
18. «Протосамость» и «нейронная самость» — термины невролога Антонио Дамасио, к которым мы еще вернемся в последней главе этой книги.
19. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 272–273. Перевод изменен.
20. Company, 1991. См. также: Bennett M., Dennett D., Hacker P., Searle J. Neuroscience and Philosophy: Brain, Mind, and Language. New York: Columbia University Press, 2007.
21. В прямом смысле гениальности: изобретательность, придание формы.
22. Представитель брюхоногих моллюсков, также называемый морским зайцем.