Какая роль отводится чувствам в современной русской культуре
В послевоенный период на Западе под влиянием психотерапии и психоанализа активно развивалась и распространялась новая терапевтическая культура и способ говорения о эмоциях, подразумевающие предельное внимание к человеческому «я». Исследовательница из Израиля Юлия Лернер считает, что в России такой способ индивидуалистического понимания себя и своих чувств еще только зарождается — и это необязательно хорошо. Наблюдая за его проявлениями в повседневности и культуре — от
В интервью Анне Михеевой она рассказала, что может поведать о русском человеке программа «Модный приговор», почему удобно и продуктивно все познавать в сравнении и как переезд в Израиль из Ленинграда обусловил ее собственное исследовательское кредо. Иллюстрации — Кати Симачевой.
Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.
И не забывайте подписываться на наш инстаграм!

Исследование: формирование терапевтического «я» в России
Я давно слежу за тем, как мир вокруг меня становится будто бы более уязвимым и чувствительным, но при этом чувства эти прохладны. Все вокруг бесконечно рефлексируют о своих эмоциональных состояниях, но эмоции эти нормированы, дисциплинированы и рационально управляемы. Исследовательские проекты, которыми я занимаюсь последние годы, связаны с моим интересом к становлению этого глобального эмоционального стиля. По сути, я все время исследую одно и то же, используя разные подходы и выбирая новые объекты и эмпирические поля. Эмоциональный стиль — это прежде всего способ мышления, понимания и выражения эмоциональных состояний, принятый или возможный в определенной культурной среде, характерный для конкретного исторического периода или идеологического режима. Исследующих эмоциональный стиль обычно интересует, какая роль отводится в той или иной культурной среде чувствам, как в ней понимается внутренний мир человека и его отношения с внешними проявлениями, поведением, социальным окружением. В моей интерпретации этого понятия важным является еще и то, какие формы языка, говорения или письма задействованы тем или иным эмоциональным стилем.
Понятие эмоционального стиля часто упоминается в контексте критического обсуждения «терапевтической культуры», которая сформировалась в послевоенный период на Западе, прежде всего в США, в результате распространения психологии и психоанализа. Согласно критике, сращение психологии как дисциплины с капиталистической системой отношений привело к возникновению эмоционального капитализма и единого языка рационализированных эмоций. Этому феномену посвящены, например, работы социальных исследовательниц Евы Иллуз и Арли Хокшилд. В книге последней из них, «Управляемое сердце», описывается, как именно капитализм задействует и использует эмоции. Я была одной из первых, кто взялся за исследование этой новой терапевтической эмоциональной культуры на постсоветском пространстве.
В начале 2000-х Россия стала для меня идеальным полем для изучения глобальных тенденций, так как позволила сравнить российский контекст с западным и рассмотреть то, как осуществляется перевод между языками, использующимися для описания эмоций в разных культурных средах. Концепция культурного перевода для меня важна, так как с помощью нее можно подчеркнуть роль языка в понимании и производстве эмоций. Причем это может быть перевод между языками, относящимися не только к разным национальным культурам, но и к разным историческим периодам. Целые пласты культуры, которые долгое время находились на периферии внимания, вновь становятся актуальными. Например, для одних в России на смену советской идеологии как главного инструмента объяснения и проживания эмоций постепенно приходит психотерапия, а для других — православие.
Русский язык не построен на нарративе выбора, на существовании автономного «я»
Все началось с моего магистерского исследования студентов, которые в эмиграции конструируют новые идентичности. Оно породило во мне интерес к антропологии знания и разработке новой методологии. Понятие «знание» я трактую широко, включая в него и научное, теоретическое знание, и практики его передачи. Этот интерес привел меня к идее докторской диссертации. В начале двухтысячных мне удалось сделать этнографическое исследование, посвященное переводу академического знания в области социальных наук. Я просто приехала в Россию и год училась в Европейском университете (ЕУ). ЕУ был для меня отчасти подражательным (mimetic) институтом, задача которого состояла в переводе западного социального знания на язык российской среды, и диссертация была посвящена этой трансляции в процессе преподавания, конференций, исследовательской работы и общения [1]. Тогда я определила аналитическую призму дискурсивных категорий, в числе которых были этничность, гендер и идентичность.
Термин «идентичность» в то время редко встречался и в повседневном русском, и в академическом языке, он не был чем-то безусловно понятным. Для диссертации я брала биографические интервью у преподающих и учащихся в ЕУ и уже на этапе составления вопросов поняла, что затрудняюсь спросить их об идентичности. Как на русском языке адекватно сформулировать вопрос, чтобы человек смог описать себя? Слушая, как информанты рассказывали о своих профессиональных биографиях, я поняла, что в их речи отсутствует терапевтическое «я» — то самое базовое понимание self, которое строится на бесконечной рефлексии о собственном выборе. Интересно, что его не удалось обнаружить даже в интервью с людьми, которые занимались непосредственно исследованиями идентичности.
Я осознала, что понимание личности, внутреннего мира, отношений с окружающими в России и в русском языке другое. Русский язык не построен на нарративе выбора, на существовании автономного «я». Любая биография здесь является в большей степени коллективной, семейной, когортной. Поскольку о современной России на эту тему тогда никто не писал, я обратилась к историкам и литературоведам, которые немало занимались становлением русской и советской самости: знаменитые работы Александра Эткинда об истории психоанализа в России и Олега Хархордина по археологии советской личности, книги историка Игала Халфина о становлении постреволюционного и раннесоветского self, анализ советских автобиографий Ирины Паперно. Мне стало постепенно понятно, что отсутствие социологического понятия «идентичность» тесно связано не только с иным представлением о субъективности, но и с иным эмоциональным стилем.
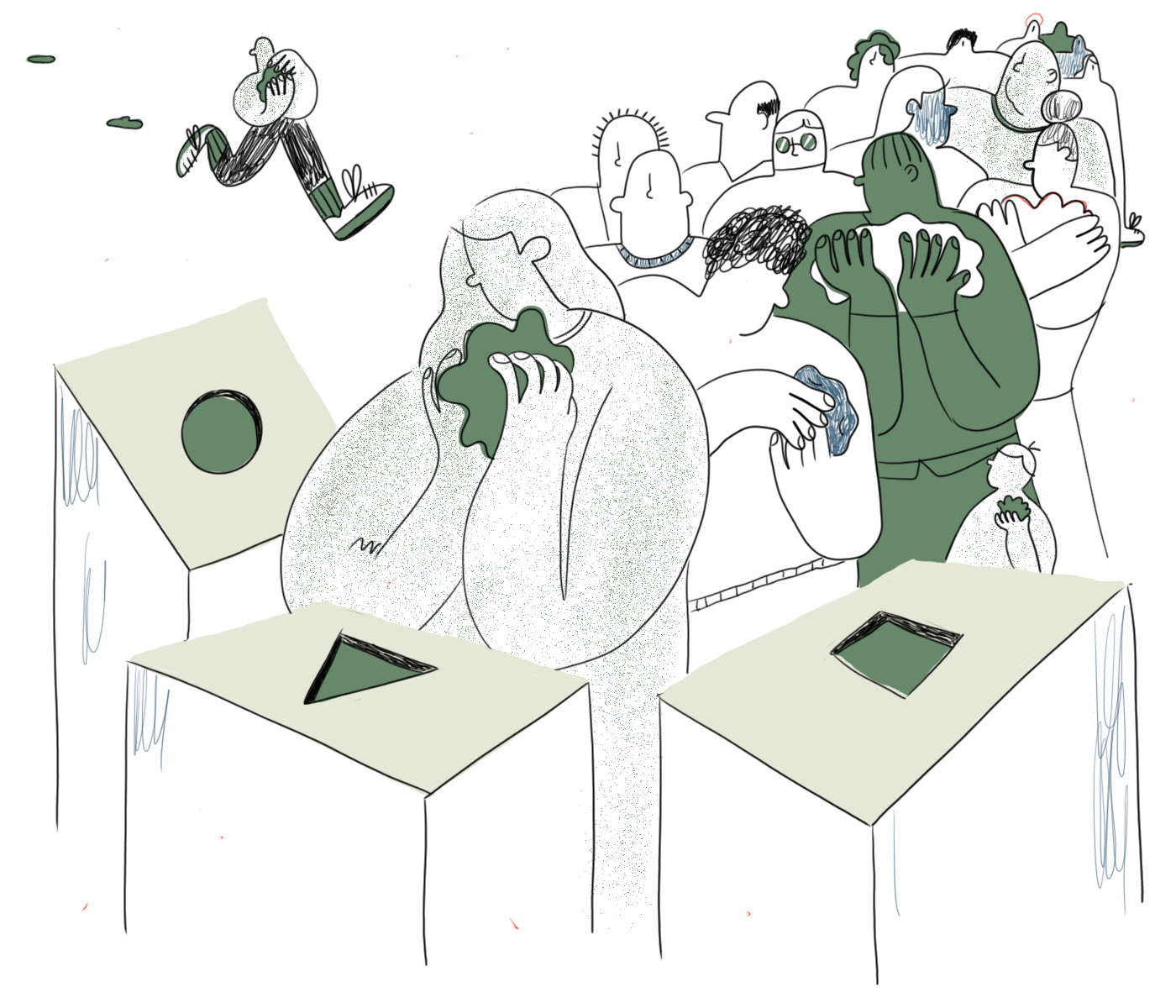
Психологизированный стиль говорения о личном, не говоря уже о коллективном, в России до сих пор остается маргинальным, хотя его проникновение в дискурсивные форматы, словами социолога Ирвинга Гофмана, уже заметно. Влияние терапевтической культуры и эмоционального капитализма заметно особенно в поле российских массмедиа. Есть и другие каналы импорта, но наибольшую роль в этом процессе играет телевидение и, в частности, реалити-шоу. В процессе адаптации программы переводятся на русский язык не только в смысле грамматики и синтаксиса, но и в смысле форматов речи, которые были бы понятны российской аудитории и не вызывали бы чувства отчуждения. Тут я хотела бы упомянуть маленькую, но яркую работу о передаче «Модный приговор», опубликованную на английском и русском языках и написанную мной совместно с Клавдией Збенович, которая занимается социолингвистикой [2].
Исследование началось с того, что мы с Клавдией удивлялись факту существования чего-то подобного. Мы обе жили в Иерусалиме, где телевидение и интернет — основные каналы связи с российской культурой. Уже во время просмотра поняли, что, несмотря на сходство с западными аналогами и воспроизведение некоторых западных моделей говорения об эмоциях, в шоу присутствуют и иные дискурсивные форматы. Важно понимать, что реалити- и
В нем обнаружился особенный и специфический для России формат «кухонных разговоров», в котором нет посыла к личностному росту и трансформации
Мы показали, что все они связаны между собой, исторически обусловлены и формируются в рамках идеологии, экономических и классовых отношений. В этом смысле дискурсивные форматы связаны с практиками и с ситуациями, определяющими то, что и как люди говорят о себе — в суде, на свидании, у психолога. В Израиле, например, есть особый формат коммуникации, который существовал задолго до прихода психологизированной культуры. Он называется «дугри», что означает «говорить, ничего не тая», искренне, прямо и даже грубо. Если я предупрежу собеседницу, что сейчас я ей что-то скажу «дугри», наше взаимодействие изменится, правила коммуникация будут иными.
Одним из подобных форматов в передаче «Модный приговор» был «разговор с психологом». У беседы с психологом есть жанровые особенности. О чем вы говорите во время нее? О своих эмоциях, о событиях из прошлого, обязательно о детстве и об отношениях с родителями. Вы обсуждаете травмы, ошибки и то, как они проецируются на ваше нынешнее состояние, как отражаются на ваших действиях. Дальше вы работаете над эмоциями, чтобы изменить себя и свое поведение. Такой терапевтический дискурсивный формат основной в трансформаторных западных реалити-шоу. В «Модном приговоре» же обнаружился особенный и специфический для России формат «кухонных разговоров». Мы назвали его так
Проговаривание чувств является неотъемлемой частью терапевтического эмоционального стиля, так как терапия невозможна без разговора. Способность и научение субъекта говорить о своих эмоциях — это часть лечения. В качестве примера несовпадения эмоциональных стилей приведу кейс, описанный в работе моей коллеги Гали Плоткиной. Галя исследует процесс адаптации российских подростков-мигрантов к жизни в Израиле, где психологизированы многие сферы жизни, а местные жители психотерапевтическим языком говорения об эмоциях хорошо владеют. И она отмечает замешательство специалистов, которые работают с этими подростками и которым приходится их учить говорить об эмоциях, чтобы создать нормативных, способных на самолечение терапевтических субъектов и таким образом облегчить им процесс адаптации.
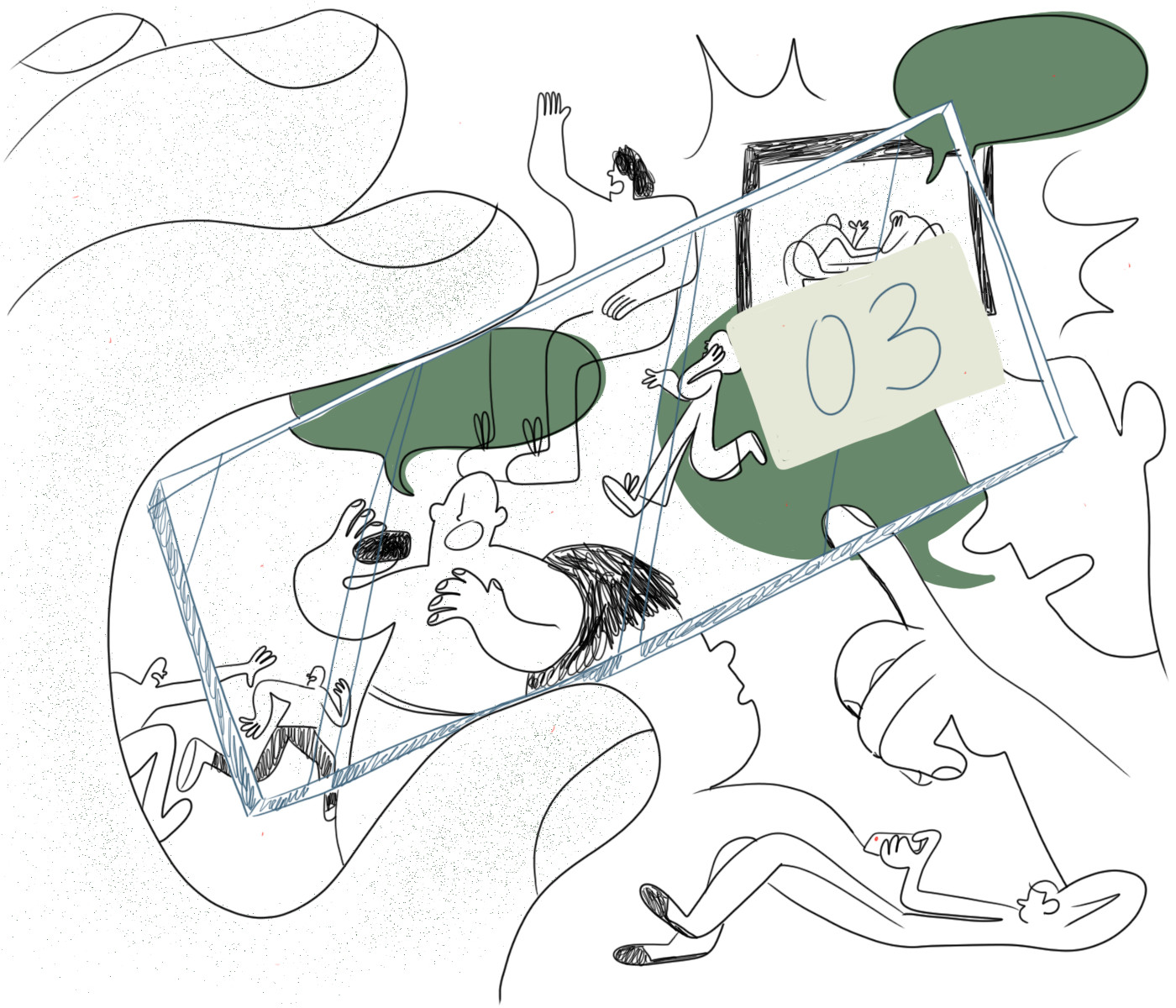
Схожим вещам посвящена наша совместная с Полиной Аронсон работа об адаптации и переводе псевдодокументального сериала In Therapy для русской культурной среды [3]. В этом сериале, оригинальная версия которого вышла в Израиле в 2005 году, действие разворачивается в кабинете психолога, каждый день принимающего разных пациентов — семейные пары, женщин, мужчин. Спустя двенадцать лет после выхода, в 2012 году, его адаптировали и выпустили в России под названием «Без свидетелей». Иронично, что незадолго до этого я выступала на конференции в ЕУ, говорила об отсутствии терапевтического self в российском дискурсе и утверждала, что в России этот сериал никогда не появится.
И все же многое переводу не поддалось. В итоге в российской адаптации мужчина-психолог был заменен женщиной. Совсем иначе выглядит ситуация измены: в израильском и в американском вариантах жена с болью признается психологу в измене, но преподносит это как собственный выбор. В российской адаптации изменяет муж, который впоследствии избегает обсуждения этой темы и не признается вовсе. Совершенно разные сюжетные ходы, хотя многие высказывания переведены практически дословно. Несмотря на адаптацию, у аудитории все равно остается ощущение, что персонажи сериала говорят на новом для них языке, который по ходу дела осваивают. Это самое интересное: перевод терапевтического эмоционального стиля все равно кажется зрителям чуждым, косноязычным и неестественным.
Вообще, медиа — важный канал, используемый для исследования культуры. Особенно медиа в России, где в 1990–2000-е культура была первичным полем для переноса западных форм говорения и мышления. Когда я беру примеры из медиа, я воспринимаю их в первую очередь как культурные тексты. При этом меня, в отличие от, например, исследующих медиа, не интересуют особенности самого медиума или процесс непосредственного производства медиапродукта и его восприятие аудиторией.
Траектория: отличие как исток исследовательского интереса
Моя исследовательская биография связана с историей моей жизни, миграции и межкультурного перевода самой себя. Я уехала из Петербурга, тогда еще Ленинграда, в Израиль, когда мне было восемнадцать лет. Тогда я не знала, что существуют такие дисциплины, как социология, а тем более антропология. Мое исследовательское кредо родилось из опыта переживания отличия и межкультурной встречи. И поэтому первой моей исследовательской оптикой стала феноменология миграции: как я уже упоминала, моя магистерская диссертация в Еврейском университете Иерусалима была посвящена русскоязычным студентам на факультетах общественных и гуманитарных наук израильских университетов и процессу приобретения ими нового социального знания [4]. Занятие гуманитарными исследованиями влияет на понимание собственного места в обществе, именно поэтому мне было интересно поговорить с людьми, которые погружены в интенсивный процесс перестраивания и поиска себя. Феноменология культуры идентичности в контексте учебы в то время занимала меня и потому, что я сама являлась частью исследуемого поля.
Мой интерес к эмоциям как новому знанию возник уже тогда — я писала о том, как мои информанты интерпретируют и расшифровывают эмоциональный стиль, с которым им пришлось столкнуться в эмиграции. Оказалось, что университетский опыт включает не только опыт образовательный, связанный с получением научных знаний. Мои респонденты рассказывали и о новом опыте коммуникации, межличностных взаимодействий, связанный с получением эмоционального знания. В Израиле, как и в Америке, много студенческих клубов, кружков, волонтерских организаций и инициатив. Все это работает посредством групповой динамики: участники садятся в кружок и делятся опытом и чувствами. Это были девяностые годы, в то время и для меня, и для моих информантов это был совершенно новый пласт практик. В интервью они рассказывали, как учились говорить об эмоциях и как университет способствовал развитию этого навыка.

Различие эмоциональных стилей было еще более очевидным в личной сфере. Как у всех, ранняя молодость — мне было 18–20 лет — была связана также с романтическими, любовными чувствами. Процесс их проживания протекал параллельно и во многом пересекался с моим исследованием. Тогда мне стало понятно, что в моих личных отношениях с израильтянами существует зазор: в новом культурном контексте любовь понималась в первую очередь не как
В своей работе я стремлюсь обнаружить негативные последствия распространения этого эмоционального стиля, но не опровергаю статус профессионального психологического подхода
Мой собственный первый опыт психотерапии был в рамках семейной терапии, и она привела меня в итоге к разводу — так часто происходит. Тогда у меня еще не было однозначно критической позиции по отношению к психологии и психологическому дискурсу, она развилась немного позднее. Здесь важно заметить, что мой критический взгляд на психологизацию культуры совсем не значит, что в случае тяжелой ситуации я не обращусь к психологу. Критика на теоретическом и интеллектуальном уровне позволяет проанализировать влияние психологизации культуры и эмоционального капитализма на различные области знания и сферы жизни. В своей сравнительной работе я стремлюсь обнаружить негативные последствия распространения этого эмоционального стиля и его почти тотальной гегемонии. Но это не значит, что я опровергаю статус профессионального психологического подхода в качестве ресурса для людей в определенных жизненных ситуациях.
Метод: сравнение стилей, языков, культур
Чем больше я занимаюсь эмоциональным стилем в глобальном контексте, тем более ясной становится необходимость в сравнительном подходе. Такая перспектива и исследование различных эмпирических полей позволяют не только выявить какие-то местные особенности, но и обнаружить границы и даже ситуации, когда глобальный эмоциональный стиль оказывается непереводим. Об этом, например, пишет лингвист Анна Вежбицкая. Ее классическая работа — «Понимание культур через их ключевые слова», где автора интересует несоответствие эмоциональных языков в различных культурных средах. Например, одна статья Вежбицкой посвящена значительному различию в семантических полях понятия «счастья» на разных языках, другая — переводу русского слова «душа», у которого нет полного эквивалента в английском и которое в некоторых ситуациях переводится как soul, в других — как mind.
Вообще, эмоциональной стороной знания я заинтересовалась, потому что после написания диссертации от этнографии академического знания мне хотелось перейти к исследованию чего-то повседневного. Примерно в то же время я заметила, как изменилось общение в России и психологический дискурс стал проникать в повседневность: люди стали по-другому признаваться друг другу в любви, разговаривать между собой и со своими детьми. Тогда же я открыла для себя Еву Иллуз. Тогда и сформировался проект «Перевод терапевтического дискурса в постсоветских медиа и повседневном дискурсе», который длился четыре года.
В этом проекте работало несколько исследователей, мы занимались изучением разных эмпирических полей с помощью нескольких методологических подходов. Клавдия Збенович больше занималась проблемой современного родительства в контексте терапевтической культуры и тем, как меняется язык говорения о детях и с детьми. Она делала фокус-группы с мамами в Москве, вместе мы провели анализ сетевых дискуссий в материнских и родительских сообществах. В рамках проекта мои коллеги Полина Аронсон и Владислав Земенков прямо перед началом пандемии съездили в Воронеж и взяли интервью у молодых людей об их понимании собственной личной жизни. Результат был очень интересным: мы обнаружили сплав эмоциональных стилей. В новом эмоциональном стиле воронежцев прослеживается поиск близости и интимности, при этом есть желание сохранить автономию. При этом для всех, несмотря на изменения, которые претерпел романтический дискурс, советские форматы эмоционального все еще являются важным маркером и ориентиром.
Формы социалистического эмоционального стиля несут в себе потенциал альтернативы новой культурной терапевтической гегемонии
Одним из важных инструментов сравнительного подхода для меня со временем стала концепция эмоционального социализма, представляющая собой эссенциализацию советского эмоционального стиля. Эта концепция не имеет теоретической ценности вне сопоставления с концепцией эмоционального капитализма — только вместе, в диалоге друг с другом они несут эвристическую ценность. Поэтому нельзя сказать, что эмоциональный капитализм пришел на смену эмоциональному социализму. И в глобальной сравнительной перспективе формы социалистического эмоционального стиля несут в себе потенциал альтернативы новой культурной терапевтической гегемонии [6,7]. Здесь важно отметить, что социологическая или антропологическая критика — это не обязательное нормативное оценивание того или иного явления или тенденции, а прежде всего вскрытие, описание механизмов, которые этот феномен конструируют, а также интерпретация последствий, результатов, влияний, манифестаций того или иного явления в разных полях культуры и обществ жизни. В этом смысле критическое понимание терапевтической культуры важно так же, как и анализ механизмов любого другого доминантного этоса культуры — религии, капитализма, социализма, науки.
Традиционно в центре изучения эмоционального капитализма, кроме области предоставления сервиса как продукта потребления, находится еще и все то, что связано с личной сферой — понимание людей самих себя, то, как они распоряжаются эмоциями, ведут семейный бюджет, строят разговоры, ищут партнеров. Но сегодня меня интересует тема эмоционализации и психологизации публичных пространств: институциональных, бюрократических, политических. Сфера влияния процессов эмоционализации и психологизации гораздо шире частной эмоциональной жизни и межличностных отношений. Она трансформирует и публичное, влияет на коллективное. Любые отношения, любой коллективный опыт начинает восприниматься и оцениваться в публичной сфере относительно степени его эмоциональности. Эти же трансформации можно наблюдать и в университетской среде.
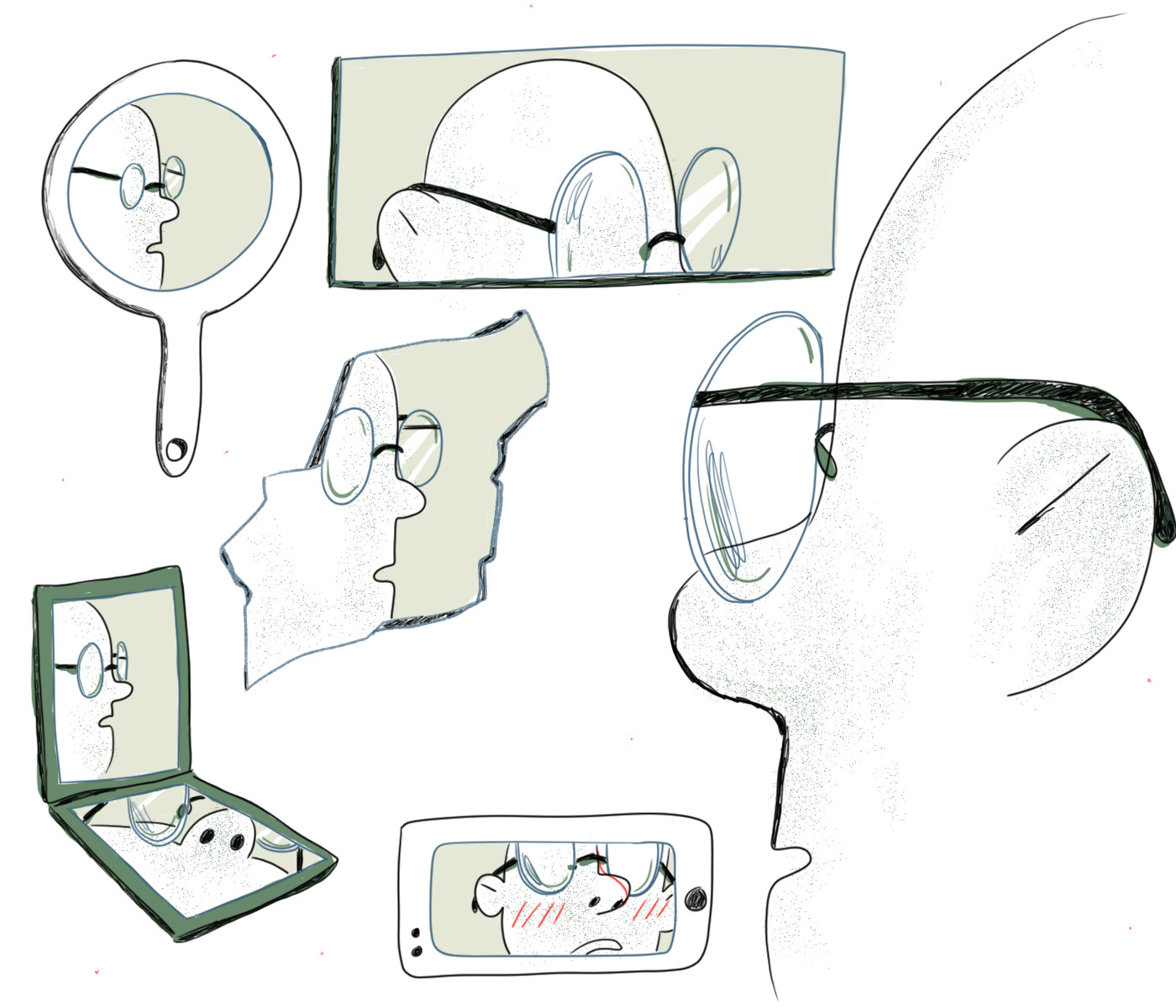
Например, сильную трансформацию пережило академическое образование в смысле отношений преподающих с учащимися. Студенческие ожидания от университетского опыта меняются и совсем не похожи на ожидания советских учащихся в 1980-х годах или израильских в 1990-х и 2000-х, когда я начала преподавать. Произошел эмоционально-терапевтический перекос, который повлиял на взгляды на преподавание внутри университетской культуры. Эти изменения связаны с глобальной тенденцией коммерциализации и неолиберализациии высшего образования. Университетская культура переводится на коммерческие рельсы даже там, где образование не является полностью частным. Я говорила с коллегами из России и из Франции в тех вузах, где студенты не платят за учебу, но все равно воспринимают себя в качестве клиентов. Это культурная позиция, для которой факт денежных отношений не обязателен. Эмоционализация образования — часть этого коммерческого подхода.
Исследованием отношений в университетской культуре я занимаюсь вместе с Клавдией Збенович и Тамар Кане-Шалит. Когда мы начали обсуждать эту тему, то поняли, что от нас как от преподавателей ожидается особое эмоциональное отношение. Разговоры студентов с нами становятся все более наполненными эмоциями, но при этом и более холодными. Это не просто процесс психологизации образования — психологизация теперь находится на службе сервиса. Эмоциональный компонент в образовании становится все более важным, студенты ожидают получить в процессе учебы какое-то значимое эмоциональное переживание.
Тамар Кане-Шалит — моя коллега по проекту — провела этнографическое исследование в университетском кампусе в Америке. Я, Клавдия и мои ассистентки — в Израиле. Мы также решили включить в исследование и Россию, где совершенно не ожидали обнаружить подобные тенденции. Мы собирали архивы сетевых обсуждений, анализировали посты, провели интервью и наблюдения. Я ездила в
Сейчас у нас уже есть черновой вариант статьи о преподавателях и о дискурсе самих университетов. Надеюсь, что скоро ее можно будет прочесть в специальном выпуске журнала Emotional and Society, который я редактирую с Мишель Ривкин Фиш — американской исследовательницей-антропологом, которая пишет о гендере, знании и здоровье в СССР и России.
На академическое производство влияет политика корректности, предупреждения о триггерах, связанных с личными травмами и границами идентичности расы и гендера
Интересным методологическим опытом в этом проекте было инициирование студенческого дневника, который вела два года студентка ВШЭ в
Мы наблюдаем, как бульдозер неолиберализации и психологизации трансформирует все три контекста. Различия тоже есть. Самое интересное отличие российского контекста лежит в сфере политического. В Израиле и Америке эмоционализация и психологизация университетов сильно связаны с политическим сознанием. На академическое производство влияет политика корректности, предупреждения о триггерах, связанных с личными травмами и границами идентичности расы и гендера. Образуются целые пласты знания, которые не могут быть включены в процессы учебы, потому что потенциально травматичны. В Израиле такого еще нет, но там границы эмоционального сильно связаны с националистическими позициями, прежде всего студентов. Там существуют пласты знания, которые могут задеть их религиозные и национальные чувства. В этом плане преподаватели тоже должны быть осторожны и чувствительны. В России же будто наблюдается тактика разделения. Политика не встроена в процесс эмоционализации и психологизации университета. Однако новая волна дебатов о сексуальных домогательствах в российских вузах — сигнал нового витка, где политика и эмоционализация пересекаются. Дискурс о сексуальных домогательствах — это дискурс новой чувствительности и нового эмоционального стиля, который трансформирует и культуру университетского знания.
Думаю, мой следующий проект будет посвящен персонализации знания. Я еще не знаю, через какие поля буду эту тенденцию прослеживать. Университетское образование точно включу, но думаю также и о профессиональном и дополнительном образовании. Мне интересно, как происходит формирование и социализация профессионалов из различных сфер в новой культуре знания, где все необходимо пропускать через себя любимого. Уже сегодня, если идея не основана на сильных эмоциях, не вызывает эмоционального отклика — она не имеет высокой ценности.
В ситуации пандемии в связи с распространением онлайн-образования все эти темы стали особенно острыми. Мы уже начали разрабатывать это направление с Марией Грецки, моей аспиранткой, и наблюдаем, что весь дискурс о новом дигитальном преподавании состоит на две трети из обсуждения эмоций, на треть — из обсуждения технологий. Места содержанию и идеям в нем нет. И я, и все мои коллеги из израильских университетов все лето участвовали в воркшопах по преподаванию. Основной посыл и идеология передачи знания эпохи пандемии — это идея персонализированного подхода в образовании и необходимости управления студенческими эмоциями. Так было и раньше, но сейчас, в результате резкого слома и смены технологии преподавания, такое представление о преподавании стало доминирующим. А противостояние ему становится все менее легитимным.
* * *

Юлия Лернер — антрополог, родилась в Ленинграде, получала образование в Иерусалиме. Преподаватель кафедры социологии и антропологии университета им.
С Юлией можно связаться по электронной почте.
Статьи
[1] Lerner J. “We teach our students to do science as in the West: Exploring the mimetic university in Post-Soviet Russia”. Julia Resnik (Ed). The Production of Educational Knowledge in the Global Era. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers, 2008, pp. 187–204.
[2] Лернер Ю., Збенович К. «Нутро на публику: публичный разговор о личном в постсоветской медиакультуре (на примере передачи «Модный приговор» // Синдром публичной немоты: история и современные практики публичных дебатов в России / отв. ред. Н. Б. Вахтин, Б.М. Фирсов. — М.: Новое литературное обозрение, 2017.
[3] Аронсон П., Лернер Ю. «Психолог на экране: разговор по душам?» // «Сеанс». — 2019. — № 73.
[4] Lerner J. “Knowledge in Migration: Russian Migrants in Israeli University”. R. Eisikovits (Ed). On Cultural Boundaries and between them: Young Immigrants in Israel. Tel Aviv: Ramot Press, Tel Aviv University, 2003, pp. 123–156.
[5] Zbenovich C., Lerner J. “Vospitanie — eto rabota: Intercultural Encounters in Educational Communication within Russian-Speaking Families in Israel”. Russian Journal of Communication (special issue on “Russian interpersonal communication”) 5(2), 2013, pp. 119–140.
[6] Lerner J. “The Changing Meanings of Russian Love: Emotional Socialism and Therapeutic Culture on the Post-Soviet Screen”. Sexuality & Culture (special issue on “Post-Soviet Intimacies”), 2015, no. 19, pp. 349–368.
[7] Lerner J. “TV Therapy without Psychology: Adapting the Self in Post-Soviet Media”. Laboratorium: Russian Review of Social Research 3(1), 2011, pp. 116–137. (in Russian)