Как устроена работа в ковидном госпитале
В новом материале проекта «Карта» Алеша Рогожин беседует с социальной исследовательницей Марией Вятчиной, которая в первую волну пандемии работала в ковидном госпитале и вела этнографическое наблюдение в его красной зоне.
Как устоявшиеся в медицинском учреждении отношения власти меняются и воспроизводятся в чрезвычайных условиях пандемии? С какими трудностями сталкиваются врачи, санитары и медсестры, работающие в ковидном госпитале? Как строится их общение друг с другом? И как социолог может быть им полезен?
Иллюстрации — Вика Шибаева.
Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта сигмы, посвященного поиску нового знания о России. Манифест «Карты» можно прочитать по ссылке. Мы открыты к сотрудничеству. Если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.
Рассказывайте о «Карте» и не забывайте подписываться на наш инстаграм!

Вы записались волонтером в ковидный госпиталь и вели этнографическое наблюдение в красной зоне. Как появилась идея этого исследования?
Я участвовала в исследовательском проекте Европейского университета в
Расскажите о вашей работе там. Вы изучали взаимодействие друг с другом сразу нескольких категорий людей — врачей, санитаров, медсестер, волонтеров. Задача заключалась в том, чтобы описать отношения этих групп и их изменения в условиях мобилизации?
Верно. Мой метод — это критическая этнография. Меня, как феминистскую исследовательницу особенно интересовали неравенства. В этом смысле исследования медицинской профессии — это идеальный кейс, потому что иерархия в таких коллективах очень строгая и я смогла посмотреть на то, как сложившиеся иерархии воспроизводятся и меняются в чрезвычайных условиях пандемии.
Как правило, качественные исследования здравоохранения проводятся на материалах интервью с врачами, а не с медсестрами или санитарками (санитарки вообще редко рассматриваются как медицинский персонал, потому что, по нормативам, не должны иметь специального медицинского образования). Мое исследование, напротив, было сосредоточено именно на представителях младшего медицинского персонала — людях, голоса которых обычно не слышны. Часто на эти позиции попадают наименее привилегированные участники рынка труда, например женщины предпенсионного или пенсионного возраста.
Главный мотив моего четырехмесячного путешествия — балансирование между ролью исследователя, который занимается критической этнографией, и ролью волонтера / сестры-хозяйки / санитарки / медицинского регистратора. Зачастую то, что надлежит делать санитару или медсестре, кажется очень проблематичным с точки зрения критического исследователя. Иногда я обнаруживала, что оказываюсь агентом биовласти, которым, конечно, никогда бы не хотела быть, но как у медработника у меня не было выбора. Мне было неловко без предупреждения или получения согласия вторгаться в личное пространство пациентов, однако получить согласие или сообщить о том, что предстоит сделать, сложно, когда перед тобой пациент с ментальными особенностями, с деменцией, с нарушениями речи и слуха. В таких случаях очень пригодились бы инструкции о способах альтернативной коммуникации с особенными пациентами.
Мое исследование, напротив, было сосредоточено именно на представителях младшего медицинского персонала — людях, голоса которых обычно не слышны
То есть это в значительной степени автоэтнография?
Да. Но это автоэтнография критического этнографа. Особенности критической этнографии — фокус на неравенствах и иерархиях, на том, как воспроизводятся, проговариваются и отражаются на участниках наблюдаемого сообщества отношения власти. В больнице они многоуровневые и очень сложные. Прежде всего, есть вертикальная иерархия должностей — начиная от начмеда и главного врача госпиталя и заканчивая людьми на самых низовых позициях, места, имена и роль которых часто вообще не проговариваются. Но это только самая очевидная вертикаль власти — есть еще много других. Госпиталь состоит из множества небольших организаций. Это, например, терапевтическое, реанимационное, приемное отделения, лаборатории, вспомогательные службы, отделы управления. Это огромный, сложно устроенный организм, в котором все взаимосвязано.
Власть характеризует и отношения между пациентами и медицинскими сотрудниками. В моем случае они стали еще более необычными. Специфика первой волны в том, что среди заболевших было очень много медиков. Участковые терапевты, медсестры, фельдшеры заражались первыми, потому что чаще всех контактировали с больными людьми. Таким образом, люди, которые привыкли лечить , теперь сами оказались заперты в палатах. В книге, которую я сейчас пишу для фонда «Хамовники» на материале этого исследования, множественные и разветвленные отношения власти станут осью повествования.
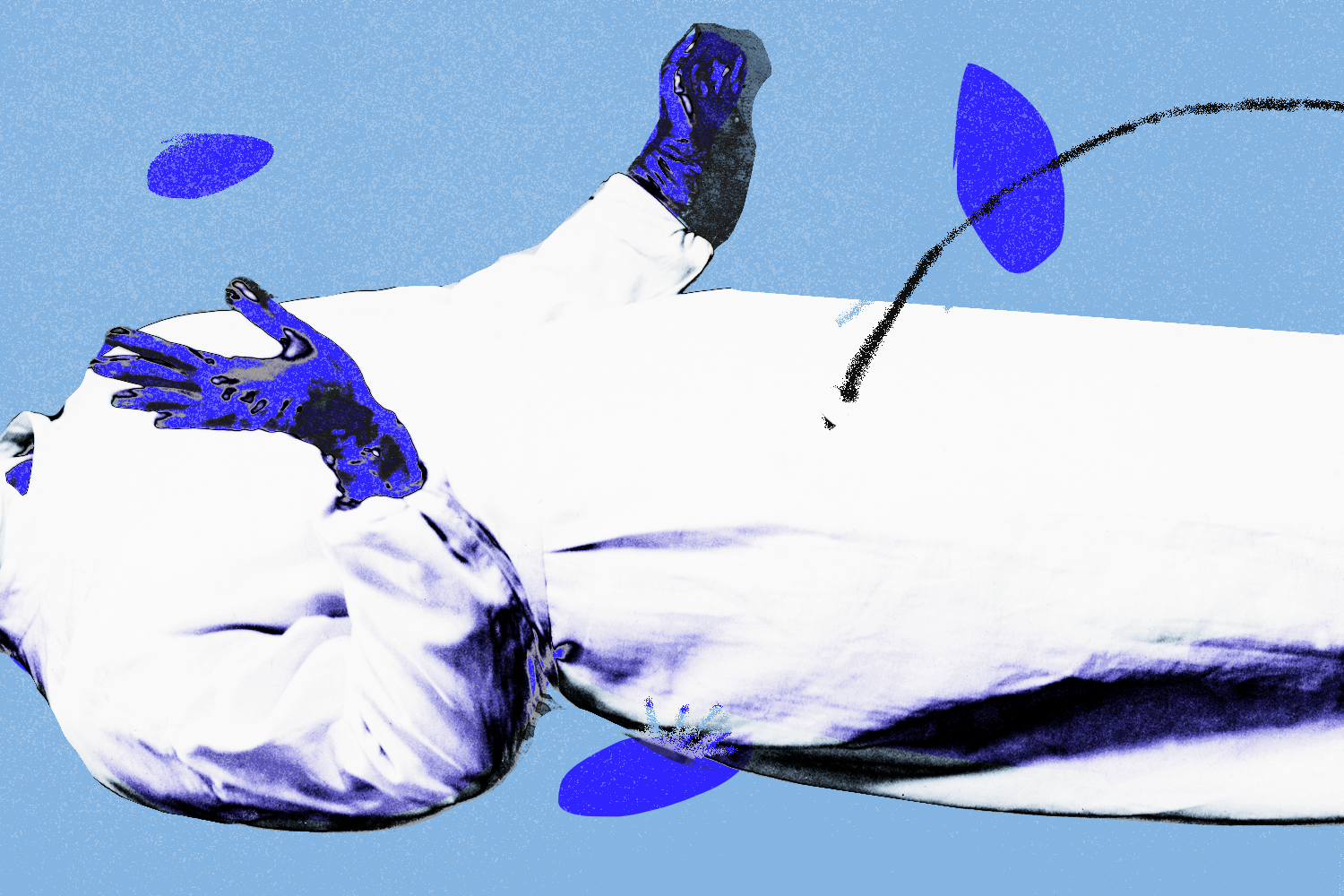
Я правильно понял, что если в регулярном функционировании медучреждения администратор управляет врачом, врач управляет медсестрами, санитарами и они все управляют пациентом, то в условиях мобилизации во времена ковида разделение труда перемешалось? В чем именно заключались эти изменения?
Есть разные типы медучреждений: государственные, ведомственные (МВД, Минобороны и так далее), частные. В каждом из них иерархия устроена по-своему, и я буду говорить только о государственных клиниках. По идее, в таком учреждении есть административный , медицинский и вспомогательный персонал. Администраторы решают большую часть бюрократических задач, например определяют уровни заработной платы. Работники медотделения, в свою очередь, условно делятся на три категории: врачи, медсестры, санитары. Врач в иерархии и в должностном смысле находится во главе, но при этом медсестрами руководит старшая медсестра, санитарками — сестра-хозяйка. Над врачом стоит заведующий отделением. Это тоже врач, но у него есть и медицинские, и административные функции. При этом по умолчанию предполагается, что все очень хорошо осведомлены о том, кто, кому и как подчиняется.
На практике вся система сильно забюрократизирована. Поэтому уйма рабочего времени врача уходит на то, чтобы заполнять историю болезни, отмечать наблюдения, вести переговоры по поводу дальнейшего перемещения пациента. А все медицинские манипуляции — капельницы, уколы, таблетки — выполняет медсестра. Врач может увидеть пациента порой только во время обходов, а медсестра взаимодействует с ним все оставшееся время. В результате реальной картиной протекания болезни у пациентов владеют в основном медсестры и санитары (назовем это аббревиатурой МСП — младший и средний персонал); но все решения тем не менее принимает врач.
В первые дни ковида всем было очень страшно
Еще одна особенность работы ковидных отделений — это смещение и даже стирание должностных границ
Еще одна особенность работы ковидных отделений — это смещение и даже стирание должностных границ. Основные иерархии оставались прежними, но конкретный функционал каждой должности сильно сдвинулся. Чтобы сформировать ковидное отделение, нужно было набрать определенное количество врачей, медсестер и санитарок — т. н. штатных единиц. Свободных врачей-инфекционистов нигде не было, поэтому роль лечащего врача брал на себя, например, кардиолог или хирург. Получается, что высококвалифицированные кадры оказались вынуждены работать не по своей специальности, а их прежние пациенты оставались без поддержки.
Солидарность была единственной реакцией на то, что роли всех сотрудников изменились, или, наоборот, были и
Я ни разу не наблюдала, чтобы на рабочем месте происходили конфликты по поводу разделения труда, чтобы, например, врач сказал коллеге: «Я не буду тебе помогать менять подгузник, потому что я
Тут еще много небольших нюансов. Во время ковида всех пожилых врачей со стажем 40–50 лет отправили на карантин. В отделении остались преимущественно молодые, плюс пришли студенты медвузов — они работали медсестрами или санитарами. При этом врачам-ординаторам — которым в другое время не поручают ответственных задач — пришлось заменить обычных врачей. Ординаторы стали «передним краем обороны» — и я уверена, это стало важным этапом в их карьере.
А как медперсонал относился к этому официальному милитаристскому дискурсу, понятиям вроде «переднего края обороны»? Они сами так говорили, относились к нему серьезно, или иронизировали над ним и осмысляли мобилизацию в других терминах?
Ирония — это оружие сильных, а мы в тот момент такими совсем не были. Плюс первая волна — это же весна-лето 2020 года, на неё выпало 9 Мая. Ты никуда не мог деться от вездесущей агитации, разговоров про «Бессмертный полк». Поэтому фронтовые, военные метафоры, которыми и без того пестрит российская действительность, оказались самыми удобными для описания текущей ситуции.
Медицина и здравоохранение — это институты, тесно связанные с военным делом. В свое время военные противостояния очень сильно способствовали развитию медицины. Мы можем посмотреть на историю открытия пенициллина, на историю возникновения медсестринской профессии — Флоренс Найтингейл, основательница сестринского дела, ухаживала за ранеными. Плюс некоторые из руководителей нашего отделения были людьми из военной медицины, они с большим удовольствием и по привычке говорили «госпиталь», «койки», вспоминали о триаже — принципе сортировки раненых в военных госпиталях, который использовался и в ковидных отделениях. Короче говоря, усвоению военной лексики способствовало все — и внутренние кадры госпиталя, и обстановка, и время года, и историческое прошлое.
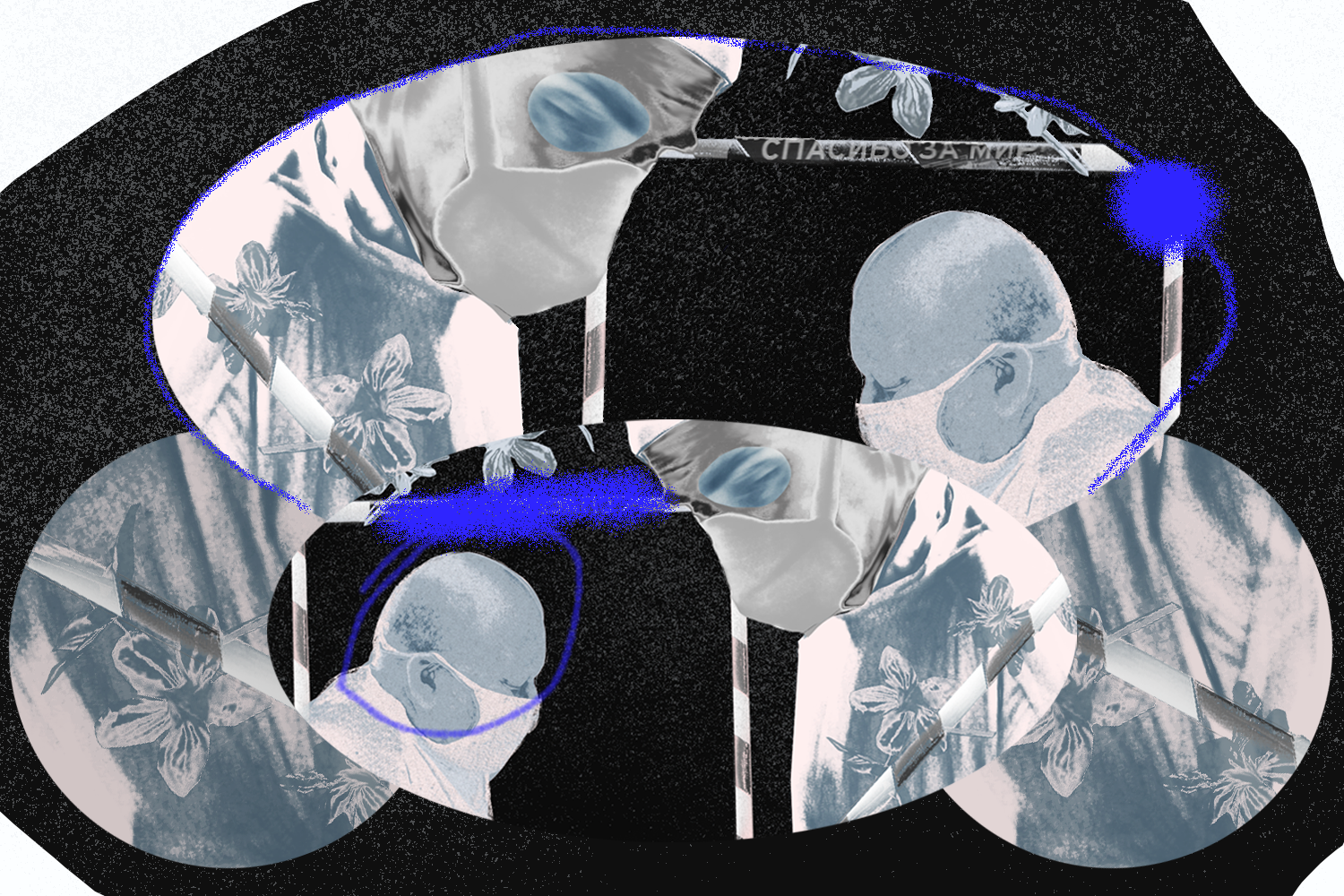
А на всеобщей солидарности медработников тревога и усталость как-то сказывались? Или это было вроде воплощенного мифа о стахановцах: на работе — упорный труд и чувство локтя, в обществе — всеобщий почет?
Было много факторов, которые не способствовали постоянному энтузиазму. Хотя в публичной сфере врачей окружали почетом, в повседневности их положение оказалось сильно стигматизированным. Внешняя среда воспринимала их как источник инфекции. Если человек работал в ковидном госпитале — он автоматически становился персоной нон грата для родственников, знакомых, друзей. У моей коллеги, медсестры, вся семья жила за городом, чтобы с ней не пересекаться, ее полностью исключили из всех семейных праздников и встреч. И таких случаев было очень много. И хорошо если в семьях были какие-то ресурсы в виде дач, загородных домов или других квартир, куда можно съехать. Несколько наших сотрудниц жили на квартире одной из них, чтобы не заразить своих близких.
То есть, помимо нагрузки на работе, медперсонал испытывал давление и за пределами отделения — и по поводу близких, и по поводу ограничений для ковид-контактных. Вы ведь заполняли анкеты при записи на прием к врачу — там обязательно были вопросы вроде «Контактировали ли вы с инфицированными COVID-19?». Конечно, мы контактировали! Поэтому не могли даже пойти к врачу. И таких поводов для тревожности было много. Но я ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил, что боится заразиться и умереть. Все говорили: «Я боюсь заболеть и заразить своих близких». Витальный страх не за себя, а за своих родных.
Или вот — средства индивидуальной защиты. Это как бы само собой разумеющимся — медики должны в них ходить. И вот в течение смены ты в СИЗах, у тебя нет связи с окружающим миром, у тебя запотевают очки, все чешется, ты не можешь ни в туалет сходить, ни попить, ни поесть. Кроме того, согласно инструкциям, все, что находится в красной зоне, считается потенциально заразным. Поэтому медикам нельзя было ничего проносить внутрь и ничего оттуда выносить: ни телефоны, ни книжки. Ты, конечно, можешь принести что-то почитать, если у тебя ночная смена, — но придется оставить это там. И хотя один из главных инструментов этнографии — ведение записей, я не могла взять блокнот для записей с собой в отделение. Поэтому я все время делала мысленные «зарубки» в голове, и это было частью моей повседневной нагрузки.
Ковид многократно усугубляет неравенство — территориальное, экономическое, гендерное
Еще одна больная тема — справедливость оплаты труда. Выплаты тоже стали частью общей неопределенности: никто не понимал, каким образом и в каком размере они будут начисляться. По телевизору президент говорил, что медикам будут платить надбавки, — а надбавок не было. Чиновники на региональном уровне тоже говорили: «У нас будут надбавки для медиков от регионов», но и их не было. Так вот, первая часть выплат пришла только в июне, на третий месяц работы, а вторая — в ноябре, через полгода после моего увольнения. При этом для нашего большого проекта по изучению медицины в условиях ковида я не только наблюдала, но и брала интервью с медиками из других регионов, например из Москвы или Вологды, и могла сравнивать. Это помогало справляться: я понимала, что по сравнению с региональными больницами, в которых не хватало СИЗов, препаратов, людей, у нас все было гораздо лучше. В Москве и выплаты начались сразу. То есть проявилось сильное региональное неравенство — казалось, меры по поддержке медиков принимались на федеральном уровне, но на практике они работали очень по-разному в зависимости от региона.
Медсестры из маленьких городов, договорившись через
В анонсе этого интервью вы сказали, что на фоне бесчисленных трудностей вы ожидали волны социальной мобилизации медработников и удивились, что она не поднялась. Как вы считаете, почему это должно было случиться? Какие проблемы могли бы побудить медиков отстаивать свои интересы? Или попытки были, но их пресекли?
Результаты нашего коллективного проекта показывают, что на самом деле мобилизация была. Это касается, например, обеспечения учреждений СИЗами. Уже в апреле 2020 года, когда появлялись первые ковидные госпитали, Минздрав и Роспотребнадзор стали рассылать инструкции по средствам защиты, притом что самих средств не было. Большая часть масок, халатов и тому подобного сперва импортировалась из Китая, а потом поставки прекратились — и тогда многие предприятия швейной промышленности переориентировались на производство СИЗов. Но этот процесс занял несколько месяцев, а в первые недели апреля самые активные и, видимо, ответственные медработники мобилизовывали все возможные ресурсы, чтобы обеспечить госпитали средствами защиты. В частности, они подключили индустрию 3D-принтеров, на которых изготовлялись детали для очков и щитков.
Другое дело, что не случилось политической мобилизации. Например, «Альянс врачей» очень много говорил и писал о проблемах, связанных со снабжением, невыплатами, нехваткой кадров, но далеко не все клиники соглашались пускать к себе представителей профсоюза. Потому что руководители уровня региональных медицинских учреждений (это самые крупные больницы в регионе, куда направляются для более сложного лечения пациенты из всех субъектов страны) сильно аффилированы с партией власти. Медработники писали во власть письма о том, что наши органы управления неэффективны, что их нужно менять, но чаще всего запросы оставались без ответа. Все внимание власти сосредотачивалось на других вопросах: поиск средств для выплат медработникам, QR-коды, локдаун, карантин. Часто небольшие очаги мобилизации оказывались просто невидимы на фоне более крупных процессов.

А когда ваши коллеги по госпиталю обсуждали свои трудности, они были согласны, что дефицит средств защиты и другие проблемы — это недостатки администрирования, и хорошо бы, чтоб у медицинского персонала было больше возможностей управлять своим учреждением?
Я спрашивала у коллег: «Почему вы не боретесь за ваши права? Что вы думаете о профсоюзе? Вы же часто говорите о справедливости оплаты труда?» Такие разговоры звучали постоянно. Когда только познакомилась с сотрудниками и сообщила, что я социолог, изучаю социологию здравоохранения, одна медсестра отвела меня в сторону и сказала: «Я придумала тебе тему диссертации». Она рассказала, как несправедливо — на взгляд медсестры — устроена система стимулирующих выплат в их отделении. Справедливость — это очень симптоматичный концепт. Есть довольно много количественных исследований о том, как медработники оценивают справедливость денежных выплат, как они соизмеряют затрачиваемые усилия и зарплату. Так вот, младший и средний медицинский персонал оценивает свой труд примерно так же, как врачи и управленцы, но получает сильно меньше. И когда я говорила: «Может быть, вам нужен профсоюз?» — мне отвечали, что у них уже есть профсоюз, но он только путевки в санатории выдает, а трудовые конфликты и проблемы с оснащением не решает.
На низовом уровне оказалось, что связи между разными отделениями, должностями и уровнями вертикали власти достаточно проницаемы для того, чтобы многие проблемы решались через неформальные каналы. Базовый пример: снабжение особыми лекарствами. Как я уже говорила, когда создается ковидный госпиталь, из помещения выносится все оборудование, подручные материалы, справочники, препараты — все. Потому что предполагается, что после того, как он прекращает свою работу, все это должно быть уничтожено. Но к нам мог поступить пациент, которому нужно было какое-то специальное оборудование. Обычно в таких случаях вопрос о снабжении ставят на уровне администрации, задействуется долгая цепочка агентов. Но если врач видит, что его пациенту необходимо, например, дорогое кардиохирургическое оборудование, он просто звонит коллегам. Те по инструкции не должны приносить такие устройства в красную зону, но, если это нужно для спасения жизни пациента, оборудование доставляется.
Сегодня неформальные инструменты переговоров кажутся медработникам гораздо более эффективными и привычными, чем то, что предлагается какими-нибудь теориями демократии. Для людей неочевидно, что профсоюз может действительно решать их проблемы.
Вы сказали, что медсестра предложила вам тему для диссертации. Коллеги нормально отнеслись к тому, что вы социолог и собираетесь проводить исследование? Может быть, с их стороны даже был какой-то запрос на то, чтобы о них написали, чтобы их проблемы сформулировали и
Я старалась понятно объяснять, что делают социологи и почему им интересно изучать здравоохранение. На примерах каких-то уже опубликованных работ это было довольно просто сделать. Для меня стало сюрпризом, что мое присутствие в госпитале восприняли настолько легко, и одно из объяснений вы уже озвучили: сотрудники рассматривали меня как агента, который может сформулировать их проблемы, реагируя на запросы. Вторая причина — таких, как я, не-медиков, в госпиталь в начале пандемии было набрано много, чтобы закрыть потребность в кадрах; оказалось, что не-медики перестали восприниматься как неуместные люди в стенах больницы.
Мне ужасно повезло, что руководителем процесса переформатирования госпиталя в ковидный был молодой, недавно защитившийся и очень активный доктор. Он не оставил без ответа ни один вопрос — а вопросы я задавала все время. Благодаря его участию я смогла смотреть на ситуацию не только снизу и изнутри, но и сверху, потому что он был важным звеном в цепочке между ковидным отделением и основной клиникой, между действующими и будущими сотрудниками.
Сегодня неформальные инструменты переговоров кажутся медработникам гораздо более эффективными и привычными, чем то, что предлагается какими-нибудь теориями демократии
В госпитале очень остро ощущался дефицит информированности. Представьте себе огромную клинику с огромным штатом. Всем нужно знать, когда выходной день, когда рабочий, когда это все закончится, сколько ещё пациентов привезут, какое отделение расширят еще на десять коек. Для информирования есть чаты. Но они очень сегрегированы: один — для медсестер и санитаров, другой — для врачей отделения, третий — для руководства. Поэтому иерархия особенно чувствовалась в плане доступа к информации. Когда я пожаловалась на это, руководство создало общий чат, куда включили всех работников. Это был весомый шаг к тому, чтобы информирование происходило не по иерархической лестнице. За счет анонимизации, иллюзии равенства люди могли задать те вопросы, которые казались им острыми в этот момент и на которые они не получили ответа от своих непосредственных руководителей.
А в чатах решались только рабочие вопросы или в тех, что поменьше, люди могли поделиться своими переживаниями, что-то обсудить?
Переживаниями делились в основном на уровне чата отделения, где общались медсестры и санитарки. В нем было больше всего искренности и честности. Он был полезен еще и тем, что объединял нас, ведь
То есть общий чат должен был стать шагом в сторону преодоления иерархий хотя бы в вопросе обмена информацией — но не стал, так как его жестко модерировали?
Конечно. Если человек слишком настойчиво спрашивал что-то в чате у начальства, его могли удалить оттуда. Чат здесь — отражение реальных отношений. Например, нескольких сотрудников из клиники уволили за то, что они написали жалобу в прокуратуру о неполучении выплат (хотя не учреждение, а регион распределяет выплаты). Руководитель, принявший это решение, сказал: «Я не хочу, чтобы среди нас были люди, которые на нас же и жалуются». То есть на самом деле эксплуатация идей коллективности и взаимовыручки повсюду производилась в пользу сильных.

Давайте теперь перейдем к вашей исследовательской биографии. Почему вы решили заняться социологией?
Я предпочитаю называть себя себя социальной исследовательницей, а не социологом, потому что мои интересы и методы, которые я использую, относятся сразу к нескольким дисциплинам. Мои научные интересы идут из детства. Я из очень маленькой удмуртской деревни Порез на границе Кировской области, Марий-Эл и Татарстана, и все люди с моей фамилией родом из моей деревни. Так как на этих территориях сталкивались культурные границы, полиэтничность и многоязычие для меня всегда были чем-то само собой разумеющимся. Неудивительно, что первые свои исследовательские работы на кружке по краеведению я писала о локальной топонимике и удмуртском костюме.
Во время учебы в средней школе мне очень повезло попасть в Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Кировской области — там в 1990-е открылась краеведческая школа. Это был такой уникальный формат очно-заочного обучения для детей из сельской местности. Нас учили работать с архивами и библиотеками, проводить интервью — то есть давали базовые навыки, которыми я пользуюсь до сих пор. После школы поступила на истфак Казанского университета, на кафедру этнографии — я уже знала, что это такое, и мне нравилось этим заниматься. Мне повезло учиться у Татьяны Алексеевны Титовой, которая обладает очень важной чертой — доверять своим студентам, благодаря чему у меня были возможности расти как профессионал и участвовать во множестве экспедиций.
Сотрудники госпиталя рассматривали меня как агента, который может сформулировать их проблемы, реагируя на запросы
Чему была посвящена ваша выпускная работа?
Так как кафедра этнографии относилась истфаку, необходимо было совмещать обе дисциплины. У меня был интерес к своим корням, в школе я очень любила читать источники XIX века — книги вроде «Юридический быт черемисов такого-то уезда такой-то губернии». После таких работ сложно удержаться от вопросов об истории науки, о роли этнографии и физической антропологии для выстраивания внутри империи границ между подданными Выпускную квалификационную работу я писала о том, как складывался жанр этнографической фотографии в конце XIX века — на примере портретов инородцев Волго-Уралья. Смотрела на то, как моих условных предков изображали белые люди с европейским образованием, фотографы или этнографы; писала, как очерчивались границы этого жанра, как в позднеимперское время полагалось изображать инородцев.
Какое-то время после специалитета я работала в университете, но это всегда была прекарная занятость, то есть контракты на часть ставки. Для того, чтобы продолжать преподавать как совместитель и арендовать жилье, все время приходилось искать вторую и третью работу. Тогда выручали прикладные проекты и всякие необычные занятости вроде помощи с проведением экскурсий и городских квестов. Еще я расшифровывала очень много исследовательских интервью коллег и теперь мечтаю сделать исследование о трансформации труда расшифровщиков, исполнителей труда профессионального слушания и набора текстов. Это еще один вид делегированной узкоспециализированной работы, во многом гендеризированной, с не всегда четко прописанными правилами и отсутствием единообразного названия, от расшифровщиков до транскрайберов. В
Потом был Европейский университет в
А что было потом?
Сейчас я научный сотрудник Центра независимых социологических исследований*. Еще я работаю в проектах Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета под руководством Анастасии Новкунской.
Вы упоминали, что пишете для фонда «Хамовники» книгу о ковидном госпитале.
После первой волны я продолжила вести заметки о том, что происходит с медицинской инфраструктурой и провела несколько интервью с коллегами, но именно предложение поддержки со стороны фонда «Хамовники» позволило переосмыслить мою работу, чтобы этот массив данных превратился наконец в
Понимаю, что я не совсем человек академии, потому что для успеха в академическом поле важно иметь центральную тему и развивать в ней свою экспертизу. Мне же интереснее развивать «насмотренность» в разных тематических полях. Поэтому для меня важной стала возможность делать прикладные исследования для НКО. Между разными проектами всегда можно найти связи. Например, делая проекты для благотворительного фонда «Ночлежка» и «Региональной экспертной группы по здоровью мигрантов» я наблюдала, как происходит фреймирование категорий пациентов. В России есть большая проблема с тем, что при отсутствии полиса ОМС человек не может рассчитывать на бесплатное плановое медицинское обслуживание, только на экстренную госпитализацию. В госпитале я увидела, как в действительности работает фреймирование пациентов самими медработниками, которые фактически выполняют функции уличных бюрократов (street-level bureacracy). Пациент, получающий лечение, должен быть «распознан» системой через включение в определенные категории и фактически переописан на бюрократическом языке МИС (медицинской информационной системы). Иногда оказывается так, что пациентов экстренно госпитализируют, включая их в категорию «человек без документов» / «иное», где-то это может быть категория «БОМЖи». И это могут быть не только люди в ситуации бездомности, но и иностранцы, беженцы, апатриды (люди без гражданства). После купирования ситуации человека выписывают, порой — в никуда. То есть бюрократическая логика к пациентам с очень разными жизненными обстоятельствами оказывается одинаково отстраненной и равнодушной.
***

Мария Вятчина — научная сотрудница Центра независимых социологических исследований*. Выпускница факультета социологии ЕУ СПб и исторического факультета Казанского федерального университета. Пишет диссертацию в Тартуском университете о развитии халяльной инфраструктуры в сфере медицинских услуг. Научные интересы связаны с исследованиями гендера, неравенств и исторической памяти, а также с деколониальными исследованиями. Участница академических и прикладных исследовательских проектов в области устной истории, городской антропологии и социальных исследований медицины.
Связаться с Марией можно в фейсбуке или по электронной почте maria.vyatchina@gmail.com
* По решению Минюста РФ, АНО «ЦНСИ» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).