Как связаны современная российская власть и уличные группировки 90-х?
В новом материале проекта «Карта» Алеша Рогожин поговорил с социологом Светланой Стивенсон о трансформациях уличных преступных группировок в России с конца 1970-х годов по 2000-е и их влиянии на сегодняшний день.
«То, что мы относим к 1990-м — единство власти и собственности, использование и легальных, и криминальных способов устранения конкурентов, полное презрение к праву, — продолжается. Эти установки пронизывают российское общество снизу доверху. В этом смысле 1990-е никуда не ушли. Да, усилилась центральная власть, и тот хаос, который был связан с переделом собственности в 1990-х, закончился. Но что касается кланового характера управления, коррупции и насилия — мы наблюдаем это всё больше и больше».
Иллюстрации Варвара Недеогло.
Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта сигмы, посвященного поиску нового знания о России. Манифест «Карты» можно прочитать по ссылке. Мы открыты к сотрудничеству. Если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.
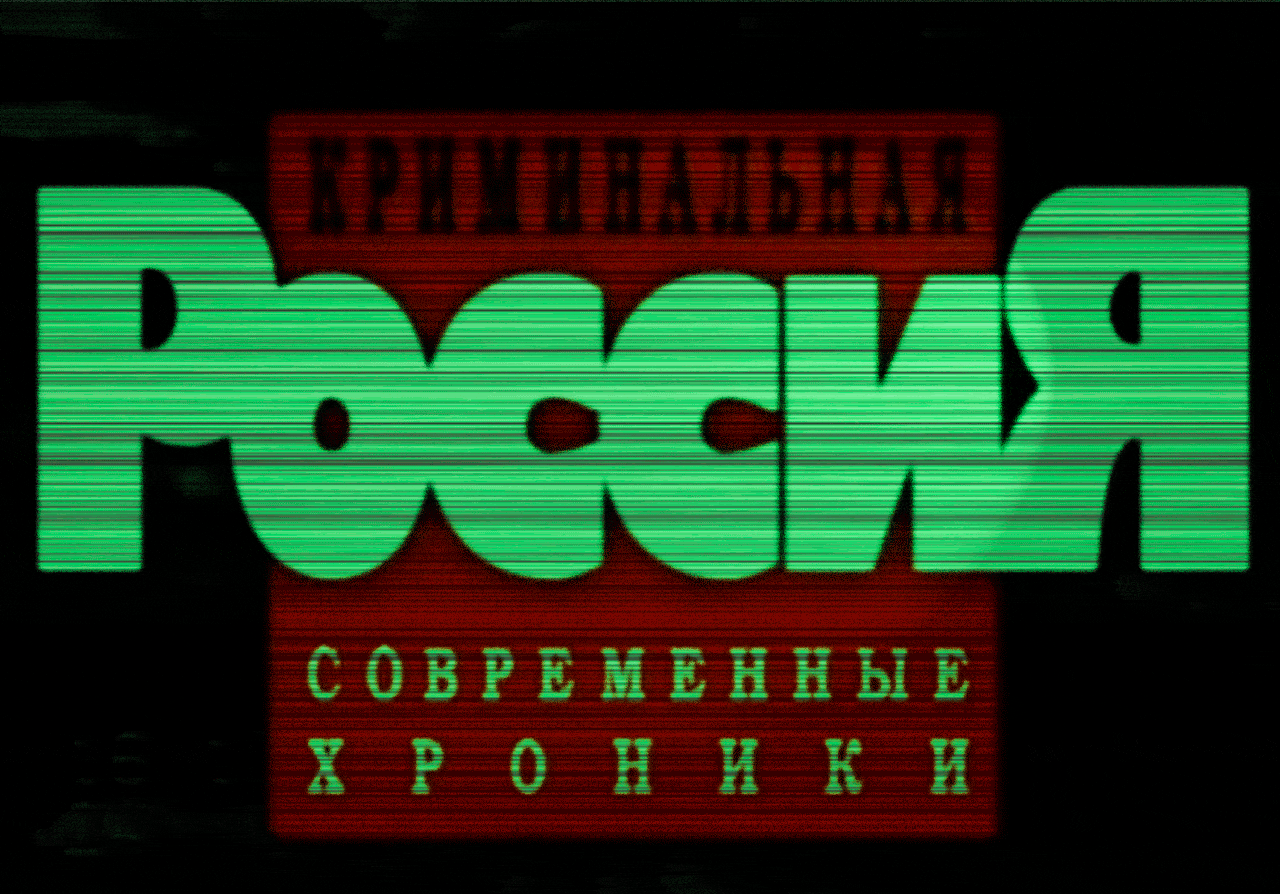
Расскажите, пожалуйста, чему было посвящено ваше исследование и как Вы пришли к этой теме? И почему существовавшая на тот момент литература не могла удовлетворить Ваш интерес?
Исследование, которое легло в основу книги «Жизнь по понятиям», посвящено происхождению и эволюции уличных криминальных группировок в России в контексте исторических изменений, происходивших в 1970–2010-х годах. Основное место в книге уделяется казанским группировкам, с участниками которых проводились углубленные интервью. До того, как заниматься этой темой, я занималась бездомными и уличными детьми. Когда я общалась с информантами, оказалось, что многие из них, особенно молодые мужчины, стремились попасть в преступные группировки. Не затем, чтобы разбогатеть, а чтобы войти в сообщество, где они могли бы найти защиту и поддержку, то есть обрести своего рода семью. Шансов на это у них особо не было, потому что для криминальной публики бездомные представляли собой низшую касту, — тем не менее эта мечта меня очень заинтересовала. При этом некоторые бездомные активно совершали действия для того, чтобы войти в группировки, — ходили в питейные заведения в надежде встретить там бандитов, посылали продукты на зону, создавали себе «имя» с помощью дерзких преступлений. Такой удивительный путь — преступность как способ войти в некое солидарное сообщество — мне показался очень интересным.
Потом я встретилась с казанскими исследователями — Александром Салагаевым и Александром Шашкиным, которые уже до этого изучали казанские группировки, и мы решили вместе провести такое исследование. Что касается литературы, то на тот момент была известна прекрасная книжка Вадима Волкова «Силовое предпринимательство». Но Вадим писал по материалам Петербурга, и там группировки складывались из сообществ мигрантов, бывших воинов-афганцев, бывших сотрудников силовых ведомств. А в Казани — в чем для меня был особый интерес — криминальные группировки вырастали из молодежных групп, которые там существовали уже к началу 1990-х и трансформировались в криминальные структуры в ходе транзита к капитализму. Это был невероятно интересный социологический материал, который показывает, как изменяются практики, социальные организации, мировоззрения групп под воздействием новых структурных условий.
Как появились эти группировки? Почему молодежь шла в такие компании, и почему у нее получилось создать структуры, которые так удачно вписались в 1991 год и дальнейшие события?
Взросление в соседских молодежных группах — традиционная часть мужской социализации, и в бывшем Советском Союзе такие группы были повсеместно. Пребывание в таких группах само по себе не предполагало криминальной деятельности. Однако в Казани, других городах Поволжья и, по имеющимся исследованиям, во многих городских агломерациях бывшего СССР в 1970-х годах начался процесс криминализации части этих групп. Здесь важно следующее обстоятельство: в начале 1970-х годов в Советском Союзе бурно расцветает теневая экономика. К так называемым теневикам относились и многие директора советских предприятий, которые создавали неучтенную продукцию; она нуждалась в транспортировке и охране. В этих условиях молодежные группы, их групповая солидарность и навыки насилия оказались востребованы. Например, одной из таких групп была компания, которая называлась «Тяп-ляп». Ее участники росли в районе предприятия «Теплоконтроль» — оттуда и название. Они стали охранять транспортировку неучтенной продукции этого предприятия, а кроме того занялись рэкетированием официантов, директоров похоронных агентств, директоров ресторанов, — то есть работников советской сферы обслуживания, у которых были огромные неучтенные доходы. Эта трансформация бойцовской молодежной группировки в агента теневой экономики потребовала и изменения всей структуры деятельности, возникновения лидерства, более четкой организации. В группировке появились возрастные когорты, различные ритуалы, практики и так называемые «понятия», которые пополнялись из воровского репертуара.
То есть совпало несколько факторов: быстрая урбанизация, куча молодежи на улице, у них мало легальных социальных лифтов, но большие возможности в теневой экономике. И при этом, как я понимаю, они изначально не были связаны с миром воров в законе?
В Казани в 1970–1980-х годах это была в основном рабочая молодежь, представители которой, конечно, иногда сталкивались с правоохранительной системой — в основном за драки. Небольшая их часть попадала в места лишения свободы, и эти люди привносили некоторые представления о воровских понятиях в дворовую среду. Когда молодежные группы стали превращаться в бандитские сообщества, они выработали собственные понятия, внешне немного похожие на воровские законы, но по своим основополагающим принципам сильно отличавшиеся. Конечно, мораль самого воровского сообщества на протяжении 1990-х в значительной степени разложилась, но прежде это было такое традиционное сообщество, которое требовало самоотречения во имя воровского братства. Если воры не имели права легально работать, обогащаться, заводить семью, то бандитам аскетизм был ни к чему — они были настроены как раз на обогащение. Бандиты не отрывались от общества, а пользовались контактами по школе, родственными связями, легальными структурами. Основная установка была на успех — его нужно было добиваться любыми путями. Для людей, которые разделяли эту установку, членство в группировке было как бы козырем, путем к успеху, потому что группировка давала деньги, связи, возможности. Но вместе с тем многие члены группировок не отказывались от того, чтобы учиться в университетах, иметь легальную работу. Они могли работать детскими врачами или вести легальный бизнес — и одновременно «делать делюгу» вместе со своими товарищами по группировке. Группировка культивировала связи, с одной стороны, с авторитетными фигурами криминального мира, а с другой стороны — с внешним миром. У
То есть группировки на пике своего развития не являлись монолитными структурами — скорее, в них было множество групп, где у каждой есть свои активы, свои способы заработка, и эти коллективы существуют автономно, но оказывают друг другу услуги. Если у члена группировки есть бизнес по ремонту квартир, то он, например, ремонтирует квартиры своим товарищам, а они взамен по своим каналам помогают ему уклоняться от налогов. И это, получается, не вполне коммерческая деятельность. Правильно ли я понимаю эту ситуацию?
Да, они могут ремонтировать квартиры кому угодно, но авторитеты периодически будут просить их отремонтировать квартиры или дачи каким-нибудь нужным людям. Здесь, с одной стороны, экономическая деятельность, с другой стороны — трансформация экономических услуг в социальный капитал.

Если учесть, что социальный состав группировок в это время выходит далеко за пределы «классической шпаны» и вспомнить слова Ваших информантов, что им хочется быть в семье и чтобы за них заступились, мне кажется, что это было удобным способом преодоления атомизации во время социальных катаклизмов.
Конечно, если в обществе кризис, то потребность в построении социальных связей резко возрастает. А в благополучном обществе, наоборот, такой потребности нет. Однако я не вижу в 1990-х годах ни атомизации, ни аномии, о которых многие писали. Наоборот, я считаю, что советское и постсоветское общество проявили невероятно сильную способность к социальной солидарности. Это была, правда, не гражданская солидарность, а узкогрупповая, и она была сильна во всех слоях общества, включая представителей наиболее уязвимых групп. Ориентация на неформальные связи, привычка к тому, что в Советском Союзе именовалось блатом, очень пригодились в 1990-х, когда советские структуры разрушались. Нужно было поддерживать связи как только можно и с кем только можно: с друзьями, соседями, родственниками. Это оказалось очень функционально в процессе перехода к капитализму. Кстати, вновь возникший российский капитализм многие называют «капитализмом для друзей», crony capitalism, когда создаются группировки, кланы, которые дальше начинают осваивать ресурсы.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как менялась структура группировок — от стаек шалопаев, которые могут охранять какую-то машину с неучтенным товаром или просто пьют пиво, до больших сетей с иерархией, филиалами, широкой сетью контактов и т. д.
В 1980-е годы «на земле» существовали территориальные объединения молодежи. В основном это были улицы или дворы, и все названия этих групп были территориальными — «Низы», «Жилка» (Жилплощадка, район Казани) и так далее. Затем улицы начали объединяться в союзы (в 1990-х некоторые группировки пытались подчинить вообще всю Казань, но из этого ничего не вышло). С усилением группировок усложняется их организация и меняется социальный состав — они становятся привлекательным социальным лифтом не только для «классической шпаны», но и для молодежи из интеллигентных семей. Группировки богатеют, теперь они содержат качалки для своих бойцов, оплачивают им лечение, развивают взаимопомощь. Вводятся регулярные «сходняки» два раза в неделю, на которых обязательно присутствовать и на которых обсуждаются «делюги». Появляются возрастные когорты — «возрастá». Самый младший возраст, 15–17 лет, называли «скорлупа», «шелуха», «пиздюки». Настоящее членство начиналось в 17–18 лет, а заканчивалось в 28–30. После этого люди либо отходили от деятельности, либо уже переходили в авторитеты и лидеры. За каждым возрастом назначался «смотрящий». Смотрящий следил за деятельностью младшей когорты, он же осуществлял разные дисциплинарные мероприятия — тех, кто совершал какие-то правонарушения в рамках понятий, избивали, заставляли платить деньги или изгоняли из группировки. Смотрящие были ответственны за организацию войн с другими группировками.
Я не вижу в 1990-х годах ни атомизации, ни аномии, о которых многие писали. Наоборот, я считаю, что советское и постсоветское общество проявили невероятно сильную способность к социальной солидарности
Войны, как правило, организовывались в ответ на насилие по отношению к члену группировки, зашедшему на вражескую территорию. Если группировка допускала ситуацию, когда ее членов могут избить пацаны из другой группировки, то она неизбежно слабела — этого нельзя было допустить. Вторая причина для войны — это когда одна из группировок пыталась крышевать киоски или другие бизнес-объекты на территории другой группировки. Когда война объявлялась, пацаны из одной группировки должны были захватывать в плен и избивать пацанов из другой группировки. Всё это подсчитывалось, и выигрывала та группировка, которая захватила в плен и избила больше пацанов. Тогда лидеры встречались, территория перераспределялась и заключался мир. Войны имели огромное значение в жизни группировки, потому что они поддерживали внутреннюю мобилизацию.

Отдельные члены и группы, составляющие большую группировку, делали свои «делюги», с которых платили в общак — то есть каждая группа должна была найти какие-то
Что происходит дальше? Лидеры этих группировок начинают предъявлять права на крупные предприятия в определенном районе. И если группировке удается затребовать 10% дохода одного или нескольких крупных предприятий, это значит, что она начинает распоряжаться огромными деньгами. Тогда — это уже вторая половина 1990-х — бизнес так называемых авторитетов отрывается от уличных корней, они создают собственные охранные агентства, начинают входить в советы директоров или создавать свой бизнес, а молодежные структуры продолжают рэкетировать палатки, кафе, рестораны, создают нелегальные уличные парковки. Старшие, авторитеты к тому моменту лишь используют молодых членов группировок для силовых акций, когда кого-то нужно запугать, наказать.
Вплоть до начала 2000-х молодежь еще верит, что, как сказал один опрошенный, у каждого солдата в ранце лежит маршальский жезл — то есть что они еще могут сами подняться и стать авторитетами. Но уже к середине 2000-х становится понятно, что все криминальные возможности исчерпаны, лидеры группировок окончательно оторвались от районов, с которыми когда-то были связаны. Группировки вступают в стадию разложения. Оставшиеся сообщества занимаются криминалом местного масштаба либо переходят к продаже наркотиков, что в 1990-х считалось не очень почетным. И состав группировок снова меняется: все, у кого есть другие возможности для социального роста, уходят, остаются молодежь из неблагополучной среды и люди, которые сознательно хотят посвятить себя чисто уголовной деятельности.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как эти группировки взаимодействовали с коммерческими, силовыми, административными структурами? В какой степени это была борьба и единство противоположностей?
Именно такой она и была. С одной стороны, группировки были вовлечены в разные коррупционные связи, и, например, на некоторых предприятиях, которые находились под контролем группировок, милиционеры работали в качестве охраны. С другой стороны, группировки предоставляли силовые услуги для бизнеса, которым владели, например, сотрудники милиции — так, в Казани МВД было вовлечено в алкогольный бизнес и активно сотрудничало с группировками. При этом было бы неверно сказать, что вся казанская милиция оказалась насквозь коррумпированной — там работали и честные сотрудники, которые пытались бороться с преступностью. Но в 1990-е годы точно было очень тесное взаимодействие, которое доходило до того, что у
В итоге к началу 2000-х всю собственность в основном поделили. Но привело ли это к возникновению того, что Вебер называл легально-рациональным господством? Вадим Волков в книге «Силовое предпринимательство» выдвигал гипотезу, что эта легально-рациональная власть станет преобладающей. Сейчас же становится понятно, что то, что мы относим к 1990-м — единство власти и собственности, использование и легальных, и криминальных способов устранения конкурентов, полное презрение к праву, — продолжается. Эти установки пронизывают российское общество снизу доверху. В этом смысле 1990-е никуда не ушли. Усилилась центральная власть, и тот хаос, который был связан с переделом собственности в 1990-х, закончился. Но что касается кланового характера управления, коррупции и насилия (осуществляемого как легальными, так и частными агентами в качестве основных инструментов власти) — мы наблюдаем это всё больше и больше.
Расскажите, пожалуйста, как происходило вливание криминальной элиты в управленческую? Насколько крупно представлен криминал в государственном управлении? Или сами люди не так важны, а важна культура, которая усвоилась чиновниками, типа досуга в саунах, неформальных практик и способов поиска связей?
Мое исследование в Татарстане показало, что многие бандиты, отсидев, пытались пристроиться в местные городские органы власти, а некоторые, ставшие успешными бизнесменами, становились также членами Государственного совета Республики Татарстан и Госдумы РФ. Неоднозначная репутация была, например, у Айрата Хайруллина, депутата Госдумы нескольких созывов и крупного предпринимателя, который, по ряду свидетельств, был в молодости лидером казанской ОПГ «Павлюхина». До недавнего времени ректором Уральского федерального университета был Ильшат Гафуров, в свое время связанный с группировкой из Набережных Челнов «29-й комплекс». Часть бандитов уже после того, как они заняли позиции в органах власти, тем не менее сняли и посадили, как сейчас арестован ректор УрФУ. Эти процессы происходили по всей стране.
Что касается мировоззрения российской элиты, которая сформировалась в 1990-х, — это тоже очень важная тема. Это люди, которые участвовали вместе с бандитами в переделе собственности, делили порты, банки, все советское наследие. Они представляют себя в качестве высшей касты, новой аристократии, победившей конкурентов в смертельных битвах 1990-х и имеющей безусловное право пожинать плоды этой победы. Чувство морального превосходства по отношению ко всем тем, кто не относится к правящей касте, представление о том, что всё решают власть и сила, допустимость обмана или даже убийства ради прагматической выгоды, — все эти черты характерны как для бандитов, так и для многих представителей легальной элиты.

Многие люди выдохнули после 1990-х, потому что меньше стало прямого, открытого насилия. Правильно ли я понимаю, что бандитские группировки, в сущности, характеризовало не столько насилие, сколько способность пользоваться любыми методами — насильственными, ненасильственными, связями, тем, что в широком смысле называется коррупцией, — для достижения экономического успеха и влияния?
Безусловно. Они считают себя в первую очередь предпринимателями. Они ориентируются на максимально широкий круг связей во всех возможных сферах. Кого-то из нужных людей подкупают, кому-то оказывают услугу, в том числе с помощью своего силового ресурса. Могут помочь местному губернатору убрать слишком назойливого журналиста, разогнать местных жителей, недовольных стройкой. Или наоборот — как говорили пацаны, «делают рекламную кампанию своему имени», занимаются добрыми делами, дают денег на стадион, спортивный комплекс, финансируют кинопроизводство, помогают церквям и мечетям. В конечном итоге выигрывает бизнес группировки.
Вы сказали, что 1990-е не характеризовались атомизацией, как об этом обычно говорят. Но когда об атомизации говорят применительно к сегодняшнему дню — что россияне вынужденно или добровольно озабочены небольшим кругом ближайших проблем и поэтому индифферентны к политике, — это звучит убедительно. Вы с этим не согласны? Или, если это так, то получается, что атомизация началась уже после того, как улеглась волна насилия и обнищания?
Тезис об атомизации действительно очень сильный, и его можно отнести и к дюркгеймовской и мертоновской аномии, и к тому, что писала Ханна Арендт о тоталитаризме. И
Мне сейчас пришло в голову, что в 1990-е приватизация затронула не только собственно экономику, но и преобразовала все связи, все сферы жизни — приватизироваться стала в том числе политика. Люди не лезут в политику, потому что они понимают, что акторами политического процесса являются частные структуры с частными интересами — поэтому средства публичной политики оказываются нерелевантными ситуации; а с другой стороны, те, кто входит в эти частные структуры, распоряжаются властью как частной собственностью. То есть приватизация стала тотальным процессом.
Это действительно так. Произошла приватизация жизни, люди разбились на шайки на разных уровнях, и всё больше и больше живут такими шайками. Но в крупных городах среди формирующегося среднего класса стал всё же возникать запрос на участие в публичной сфере и на представительство во власти, о чем говорит, например, успех оппозиции на выборах в местные органы власти в Москве. Появление этической повестки, связанной с недопустимостью домашнего насилия, абьюзивных отношений, появление многочисленных некоммерческих организаций, помогающих, например, больным детям или бездомным, — всё это уже выходит за рамки партикуляристской этики и обращено к представлениям о более гуманистических основаниях общественной жизни.
У Вас было несколько колонок — на «Холоде», «После», — где Вы цитировали Путина и
Мне кажется, что для Путина использование этой лексики органично. Это не просто риторика, а отражение того, как он видит устройство мира. Если ты не используешь насилие, то тебя унизят, опустят, замочат. За Путиным эту речевую стилистику воспроизводят его приближенные, журналисты, руководство МИДа и мастера отечественной культуры. Люди, поддерживающие Путина, не воспринимают эту лексику как свидетельство отката к 1990-м, скорее, они ассоциируют ее с готовностью отстаивать интересы страны в поединке с Западом. Но и они, наверное, не были готовы к тому, что риторические угрозы перейдут к реальным действиям. Кстати, здесь возникло неожиданное различие между авантюризмом российской власти, бросившей вызов всему миру, и более прагматичным поведением бандитов, которые предпочитают не связываться с более сильными противниками и всегда тщательно вычисляют баланс сил.
Чувство морального превосходства по отношению ко всем тем, кто не относится к правящей касте, представление о том, что всё решают власть и сила, допустимость обмана или даже убийства ради прагматической выгоды, — все эти черты характерны как для бандитов, так и для многих представителей легальной элиты
Вы как-то упомянули, что в России до сих пор школьники иногда собирают деньги на «грев зоны»;
Увлечение молодежи тюремной культурой — это явление, у которого есть давняя история. Еще в середине 1950-х годов, когда бывшие сталинские зэки стали покидать ГУЛАГ, молодежь стала активно осваивать тюремный фольклор, музыку и поэзию, созданную в лагерях. Но криминальное сообщество привлекало молодежь не только своей культурой. Оно казалось тем, кто лишен всяческих ресурсов, людям из бедных, маргинальных кругов, своего рода альтернативной семьей, в которой они могли найти заработок и поддержку. В случае же попадания в места лишения свободы (как говорится, от «тюрьмы и от сумы не зарекайся», особенно в их случае) они хотели, чтобы к ним отнеслись по-доброму, поскольку они знают понятия, да еще и имеют опыт «грева» зоны. Как я уже упоминала, в 1990-х мои информанты из числа бездомных подростков посылали заключенным чай или другие продукты, чтобы это помогло им в случае попадания в места лишения свободы. То же самое говорили и подростки, которых мы интервьюировали в 2006 году в московской спецшколе для несовершеннолетних правонарушителей, — так что, по крайней мере на тот момент, даже в Москве эта традиция не прекращалась. В депрессивных же регионах, таких как Забайкалье, где находится много исправительных учреждений, и контакты между местной молодежью (особенно выходцами из интернатов и детских домов) и представителями уголовного мира достаточно распространены: подростки активно инвестируют в «альтернативную» репутацию через грев зоны, осваивают понятия и ритуалы этой культуры. Таким образом происходит приобретение важного социального капитала, который, как представляется подросткам, может им помочь в дальнейшей жизни.
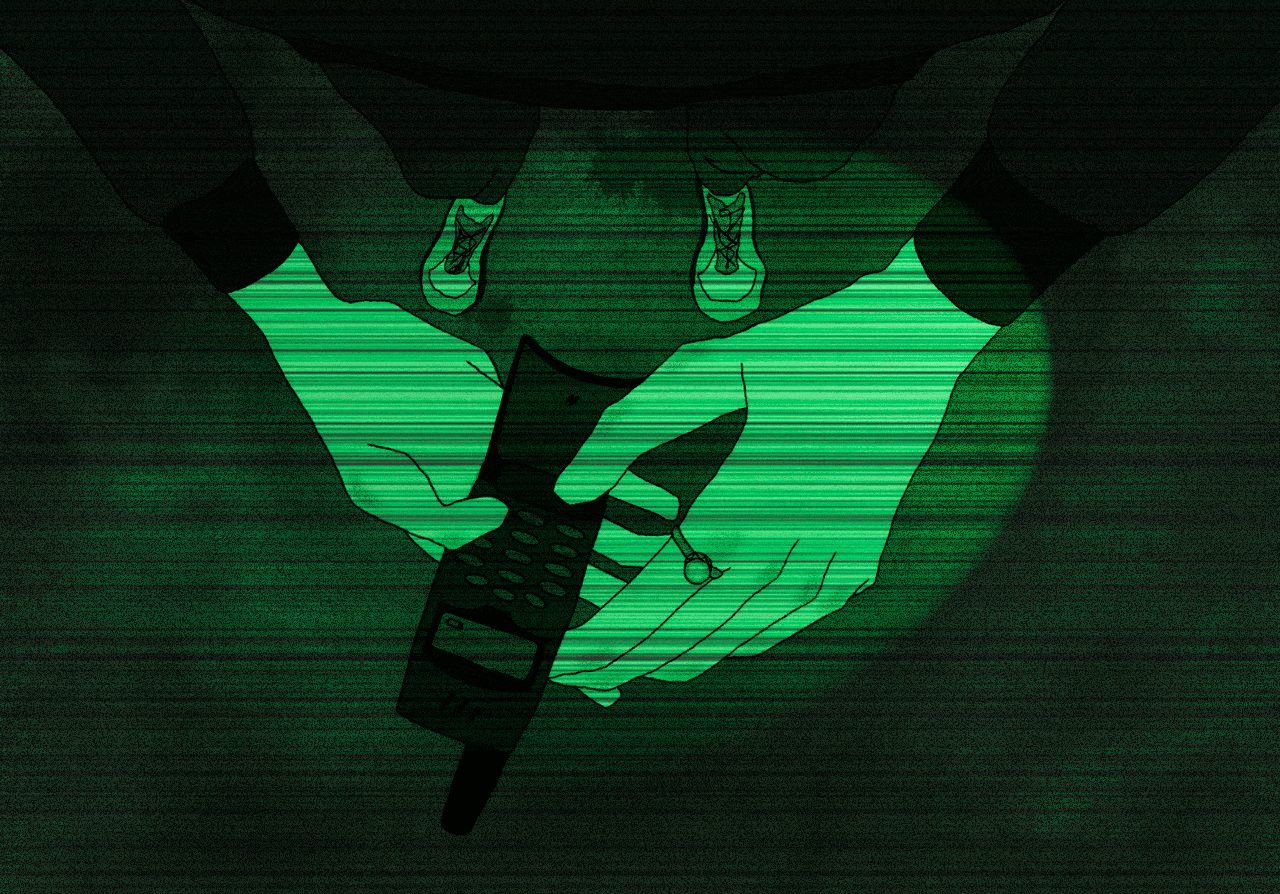
Расскажите, пожалуйста, про интервью и
В Казани нашей исследовательской группе удалось получить доступ к членам группировок через друзей, соседей, родственников и бывших одноклассников пацанов. Конечно, рассчитывать на полную откровенность участников исследования было трудно. Поэтому в нашем опроснике основной акцент делался на индивидуальных биографиях, историях вхождения в группировку, а также на традициях, ритуалах, понятиях группировки, а не на криминальной деятельности наших интервьюируемых. Но в процессе интервью многие всё же рассказывали о криминальных и полукриминальных «делюгах», которыми занимались они и их товарищи — или же члены других группировок. Кроме того, мы предлагали им заполнить таблицу с перечислением видов преступной деятельности, которые они могли совершить или сами, или в составе группы, и некоторые честно ставили галочки возле, скажем, «разбойных нападений» или «нанесения тяжких телесных повреждений». Для соблюдения конфиденциальности и анонимности мы не записывали ни настоящие имена и фамилии тех, кого мы интервьюировали, ни названия их группировок. Опрашивали мы и представителей местных органов внутренних дел. Здесь был полный разнобой. Одни люди категорически отказывались предоставлять любые данные, а другие отвечали с большой откровенностью. Сейчас, я думаю, провести такой опрос экспертов было бы невозможно.
Фокус-группы мы проводили среди учащихся специальной школы для несовершеннолетних правонарушителей в Москве. Сначала мы пытались провести с ними интервью, но они очень неохотно шли на контакт и лишь пара интервью содержали сколь-нибудь развернутые ответы на наши вопросы. А вот фокус-группы оказались очень хорошим исследовательским методом, поскольку стоило одному человеку начать говорить, как другие тоже включались с большим энтузиазмом. Особенно их увлекали разговоры о насилии, разборках, драках, — их просто было не остановить. Многие делились планами — стать бандитами или, наоборот, милиционерами.
Волновал ли Ваших собеседников тот факт, что их жизнь стала предметом научного исследования, хотели ли они быть услышанными? Интересовались ли они результатами вашего исследования?
Мне кажется, что в российском обществе еще не исчезли идущие еще с советских, а может быть и досоветских времен уважение к науке и ученым и вера в то, что научная деятельность может принести пользу людям (я могу быть неправа, но у английской публики это уважение, по-моему, уже исчезло, и здесь идут на контакт с исследователем гораздо более неохотно). Я видела желание поделиться своим видением мира, рассказать о своих представлениях о справедливости и среди бездомных, и у криминальной молодежи. Кроме того, в последнем исследовании помогло и то, что члены группировок верили, что их сообщество действительно построено на принципах братства, и они с большим энтузиазмом рассказывали о своих моральных понятиях. Некоторые взрослые бандиты активно занимаются благотворительностью, помогают больницам, детским домам, и об этом тоже хотят рассказать. Что касается того, что их собственная жизнь становится объектом научного исследования, недавно мы с Рустемом Сафиным в рамках международного исследования биографий гангстеров, которое проходит под руководством швейцарского антрополога Денниса Роджерса, еще раз опросили одного бывшего члена казанской группировки, с которым мы в последний раз общались в 2005 году. Он был рад поделиться историей своей жизни и с энтузиазмом отнесся к тому, что его биография войдет в сборник биографий гангстеров из разных стран. Написав статью, мы показали ее герою нашего исследования, и он одобрил свой «социологический портрет», что, конечно, было очень приятно. Вообще, многие члены казанских группировок — образованные люди, часто с высшим образованием, которые сами размышляют о том, как «историческое время», в котором они росли, повлияло на «биографическое время» их жизни, и их социологическому воображению мог бы позавидовать любой социолог.
***

Светлана Стивенсон — социолог, исследователь субкультуры молодежной организованной преступности советской и постсоветской России. Профессор Школы социальных наук и профессий университета Лондон Метрополитан. Ее книгу про российские уличные группировки можно прочитать здесь. Популярный текст про это исследование можно прочитать в «Неприкосновенном запасе». Книга про бродяжничество и бездомность в позднем СССР и в постсоветской России (на английском языке) доступна здесь.