Ирина и Сергей Жеребкины. Микстура дискурсов национализма и феминизма в УССР, или К вопросу о киборг-национализме
Четвертый текст «Космического бюллетеня» — о путях радикального переизобретения национальной идентичности: о феминизме, мотивах постчеловека и трансгуманизма в современном украинском национализме.

Согласно концепции морфологического анализа идеологий, разрабатываемой известным теоретиком идеологии Майклом Фриденом, особенность идеологии национализма — ее узкая семантическая и политическая повестка (по сравнению с идеологиями с более широкой повесткой, такими как либерализм, консерватизм, социализм и др.) обуславливает неспособность национальной идеологии поддерживать себя независимо от других идеологий как долгосрочный проект. С точки зрения Фридена, логика апроприации и другие основные компоненты концептуальной модели национальной идеологии («приоритезация определенной группы — относящихся к натурализованной нации — как ключевой конституирующей и идентификационной модели для людей и их практик», «позитивизация нации, предоставление ей права специфических требований к поведению своих членов», направленность на предоставление институционального признания двум предыдущим концептам и «чувство принадлежности и членства, в котором настроение и эмоции играют важнейшую роль» [1]) не являются достаточными для выражения комплексных аргументов и ответов на широкий круг социо-политических вопросов, начиная с культуры и заканчивая социальным обеспечением народонаселения. Поэтому Фриден идентифицирует национальную идеологию как идеологию с «разреженным центром», «ограниченную мыслительными амбициями и рамками» и «неспособную самостоятельно осуществить решение вопросам социальной справедливости, распределения ресурсов и решения конфликтов, которые решаются другими основными идеологиями» [2]. Более того, по его мнению, национальные идеологии и не стремятся к соревнованию с другими политическими языками и семантическими полями с целью достижения статуса «универсального организующего принципа политических идей», в большинстве случаев просто игнорируя их [3].
Именно эти характеристики идеологии национализма обуславливают, по мнению Фридена, ее фундаментальную неспособность поддерживать себя независимо от других идеологий в качестве долгосрочного, постоянно действующего политического проекта. В решающее время кризиса или угрозы (строительство нации, внутренние изменения, внешняя угроза и т.д.) идеология национализма может быть возведена до уровня основного языка и когнитивной карты, но когда ее цели достигнуты, «она, как реализованная утопия, теряет свою цель», достигая более продолжительного существования, только находясь в более крупных «сосудах» [4].
Но если, как доказывает Фриден, идеология национализма «не способна самостоятельно предоставить решение вопросам социальной справедливости, распределения ресурсов и решения конфликтов, которые решаются другими основными идеологиями» [5], что позволяло ей выступать мощным ресурсом массовой политической мобилизации в двух майданных революциях?
Исследователи идеологии Люблянской школы Славой Жижек и Рената Салецл считают, что политическая эффективность идеологии национализма в постсоветских странах достигается за счет того, что она образует идеологические микстуры с другими типами идеологий, компенсируя тем самым отмечаемую Фриденом узость ее семантической и политической повестки.
После революции 1917 года в России происходит радикальная трансформация украинского национализма, который становится решающим идеологическим ресурсом массовой политической мобилизации, лозунгом которой является создание независимого украинского государства буржуазного типа (в форме УНР, гетманщины Скоропадского и Директории). В свою очередь правительство большевиков в этот период также стремится задействовать идеологию украинского национализма как ресурс альтернативной, антибуржуазной политической мобилизации и установления гегемонии советской власти в Украине, проводя с этой целью в 20–30 годы политики так называемой «украинизации» или «коренизации» [6]. В ходе большевистской украинизации, провозглашенной на XII съезде РКП (б) в апреле 1923 года, одновременно с приданием украинскому языку статуса языка власти на территории Украины началась тотальная украинизация системы государственного управления и местных общественных организаций, армии и т.д. Согласно постановлениям советского правительства приоритетными сферами украинизации должны были стать: система партийного просвещения, академическая и популярная литература, периодические издания, делопроизводство, агитпроп, комсомол, пионерские организации, профсоюзы, газеты, советские учреждения, средние и высшие учебные заведения, а также дивизии красной армии в Украинском военном округе.
В целом методы и основные направления большевистской украинизации и украинизации, проводившейся в 1917–1919 годах правительствами УHP, гетманщины и Директории совпадали: это прежде всего перевод на украинский язык образования, государственного аппарата и армии, средств массовой информации и т.д. Принципиальные различия двух стратегий украинизации проявлялись, в частности, в сфере гендерной политики: если буржуазная украинизация осуществлялась в рамках патриархатной идеологии и конструкции женской субъективности в патриархатной культуре, характерной для традиционного национализма, то в большевистской украинизации делается акцент на женской эмансипации, вследствие которой возникает специфическая микстура дискурсов национализма и феминизма. На институциональном уровне её представлял созданный в 1919 году Женский отдел ЦК РКП (б) — знаменитый Женотдел, первой заведующей которого была Инесса Арманд, а после ее смерти в 1920 году — Александра Коллонтай, которая в 1919 году была комиссаром пропаганды в Украине, а в 1920–1923 годах возглавляла украинскую женскую секцию коммунистической партии.

Основу большевистской гендерной политики в Украине составляла стратегия женской политической субъективации — а именно, стратегия так называемой активизации — вплоть до трансформации — то есть задействования женщин в качестве новой, трансформированной рабочей силы: на фронте, на заводах, в деревне, на войне. Однако данная стратегия женской активизации/трансформации неизменно совпадала с их активизацией вне семейной сферы и сопутствующей этому активизацией их сексуальности вне семейной копулярности. Поскольку жившие по старым общественным нормам женщины были не готовы к новым стратегиям активизации в качестве новой рабочей силы, их необходимо было максимально «освободить» — «раскрепостить» там, где они были более всего закрепощены, то есть в семье. Больше всего этому мешало буржуазно-семейное законодательство и нравственные ограничения, связанные с религией. Поэтому при решении так называемого «женского вопроса» большевики с самого начала сделали ставку, во-первых, на борьбу с религией и, во-вторых, на отмену буржуазного семейного законодательства. В УССР была предельно упрощена процедура заключения/расторжения браков и провозглашена отмена различий в положении брачных и внебрачных детей. Кроме того, освобождённые украинки стремились как можно скорее заменить процедуру церковного венчания оформлением брака в гражданском учреждении. В результате в ситуации, к которой большинство населения бывшей Российской империи было не готово, в УССР началась сексуальная революция. Традиционные представления о любви подвергались решительной критике и переосмыслялись с самых различных точек зрения, включая материалистическую точку зрения гигиены. Отношение разводов к бракам в начале 20-х годов в крупных городах доходило до 4:5.
Трансформативный пафос новой советской украинской женской политической субъективации является настолько радикальным, что одной из наиболее распространенных литературных фабул новой советской украинской литературы, посвященной женщине, приходящей в Революцию и коммунистическое строительство, является рассказ о судьбе проститутки, которая, в отличие от несчастных, погубленных «падших женщин» прошлой эпохи, становится комсомольской активисткой. Катя в В імлі позолоченій (Во мгле позолоченной) (1929) Миколы Ледянко, — эта «последняя женщина среди шахтеров» вдруг ощущает в себе человеческое достоинство, когда подпольщик Трохим предлагает ей помочь заключенным шахтерам-революционерам. «А разве я могу? — спрашивает Катя. — Плохая такая…» «Почему плохая… — отвечает революционер. — Ты из рабочих, ты наша…» [7], неявно подтверждая при этом знаменитый тезис западной феминистской теории о приоритете социальных маркировок субъективности над биологическими.
Не смотря на то, что образ материнского продолжает в этот период украинской культуры преобладать над другими женскими образами («в немногочисленном ряду женских образов образ матери заслонил собою все другие образы» [8], — пишет классик украинского, советского и мирового кино Александр Довженко), однако при этом в теме материнского (в том числе «материнского языка», столь значимого в западной феминистской теории в философских концепциях Люс Иригарэй или Юлии Кристевой) акцент ставится на связь материнства с насилием. С одной стороны, в мужском советском украинском литературном дискурсе по-прежнему акцентируется традиционно тяжелая «материнская доля»; с другой — производится образ активной и насильственной матери, агрессия которой в первую очередь направлена не против государства и его новых социальных советских порядков, но — в духе радикально-феминистской теории — против мужчин.
В киносценариях Александра Довженко женский язык лишен традиционных женских жалоб, утешительных слез; в нем преобладают краткость, выразительный жест, а эффект языка подобен эффекту активного энергичного действия. Так, например, в сценарии к фильму Звенигора (1927) его героиня, молодая девушка дополняет свою страстную речь о решимости быть свободной жестами взмахивания ножом, а в следующем по времени сценарии к фильму Арсенал (1929) изображен не только солдат, безжалостно бьющий свою уставшую лошадь, но и мать, избивающая маленьких детей. Таким способом, по мысли Довженко, украинская советская женщина бросает вызов старому патриархатному миру и говорит зрителям о своей эмансипации.

Поистине симптоматично в этом контексте звучит название романа Евгена Кротевича Звільнення жінки (Освобождение женщины) (1930), который посвящен революционной любви бывших беспризорников мужа и жены Сани и Данько, которые во время революционных боев «вдвоем лежат рядом и молча посылают пулю за пулей врагу». Когда вражеская пуля настигает Данько, Саня «спокойно положила труп своего мужа, спокойно легла за ним, как за прикрытием» и начала отстреливаться. Кульминацией этой революционной женской любви становится смерть героини: «И припала, пробитая пулями Саня в последний раз к
Однако в новой советской украинской литературе, посвященной революционной любви, с сексуальным чувством связываются новые телесные ощущения и объекты, ранее не имевшие эротической коннотации. Поэтизация и эротизация трактора и тракторостроения, имевшего особое значение для развития аграрной Украины, наибольшей поэтической выразительности достигает, конечно, у одного из самых известных украинских советских поэтов — Павла Тычины в «Песнях трактористки» из сборника Партія веде (Партия ведет) (1934): «Я до трактора підходжу, / Сонце ясно! Світе мій!» [10]

Характерным приемом переоценки традиционной конструкции женской субъективности в новой мужской советской украинской литературе является — вполне в духе современной западной феминистской теории — не просто переоценка, но отказ от логики бинарных оппозиций в репрезентации женского. Женщин, которые в новой советской украинской литературе становятся активными героинями (например, пролетарских женщин-активисток, являющихся организаторами работы с массами в армии, на флоте, в деревне и т.п.), в новом мужском советском украинском романе в принципе нельзя квалифицировать в традиционных бинарных терминах, применявшихся по отношению к женщине в дореволюционной украинской культуре. Часто эта новая украинская советская женщина предстает вообще вне социальных кодификаций; о ней неизвестно, кто она и откуда. Другими словами, здесь репрезентирована такая структура женского, которую в современной феминистской теории обозначают через понятие «киборг», или «номадической субъективности» и чью принципиальную несводимость к одной единственной стабильной идентичности (когда в основе политической субъективности лежит, по словам Джудит Батлер, негативное основание) идентифицировать невозможно.
Такой мы видим Оксану — флотского комиссара в известной пьесе «Загибель ескадри» («Гибель эскадры») (1933) классика украинской советской литературы Александра Корнейчука. Кто такая Оксана, кем она была на берегу, до описываемых событий, мы не знаем — в пьесе Корнейчука об этом ничего не говорится. Здесь, на корабле, окруженная толпой матросов, готовых каждую минуту ее растерзать, она олицетворяет собой жест отказа от всего того, что традиционно относилось в украинской культуре к образу «женского». Возможно, её номадизм и позволяет в конечном итоге именно ей, единственной женщине среди мужского по составу матросского комитета совершить наиболее радикальное, ведущее к кульминации сюжета действие — сразу же принять правоту абсурдного с точки зрения мужчин-матросов приказа из Центра — потопить эскадру.

Когда женщины западной Украины, входившей в состав буржуазной Польши, выстраивавшие свою идентичность в соответствии с традиционным каноном женского, впервые увидели движущиеся с востока номадические потоки советских украинских женщин после оккупации их советскими войсками в 1939 году, они испытали идентификационный шок, столкнувшись с этой радикально трансформированной формой женского. Поэтому, когда деятельницам «Союза украинок» пришлось идти на советский женский митинг, они, по их воспоминаниям, испытали невероятное потрясение от «пролетарского вида» советских украинок и «страшно перепугались», ощутив свою неготовность пережить подобную трансформацию, нарушающую их буржуазную идентитарную логику [11].
Возможно, активистки западноукраинских женских общественных организаций не могли оценить антипатриархатный вызов советских украинских женщин и увидеть новое качество женской субъективности, к которой не применимы параметры женского, устанавливаемые в традиционной культуре, так как они не идентифицировали себя как феминистки и, в отличие от советских украинских женщин, мыслили в терминах дискурса традиционного национализма [12]. А поскольку в идеологии национализма женское партикулярное определяется исключительно через понятие нации, или, в терминах Ниры Юваль-Дейвис, является «натурализованным символом нации», то и западноукраинские женщины, как доказывает современная украинская писательница Мария Матиос в сборнике рассказов Нация, каждая «по-своему пытается спасти, отвоевать свой род, свою нацию, свою землю, себя у чужаков» [13]. Роман Марии Матиос — гимн гордым украинским женщинам, которые, в отличие от украинской литературной традиции, представляют собой не тип шевченковской Катерины, пассивно отдавшейся «москалю» и страдающей от этого, но новый тип активизма женского — сражающейся (за национальную независимость) женщины.
В то же время основным парадоксом, косвенно подтверждаемым во всех без исключения женских историях романа, оказывается старый структурный парадокс, когда трагическим следствием структуры «нация больше, чем мы сами» для женщин оказывается разбитая жизнь: обычные антропологические мужчины в романе, хотя и задействованы в пафосной национальной борьбе, никогда «не дотягивают» до той высоты чувств и страстей, на которой находится женское национальное, в результате обнаруживающее себя вне рамок дискурса антропоцентризма, а поэтому — в ситуации невозможности гетеросексуальной копулярности. Метафора женской внекопулярности воплощена в рассказе Матиос из сборника Нация «Просили тато-мамо…» в образе связной отряда УПА Корнелии, после счастливой ночи любви в лесу с соратником по борьбе буквально обнаружившей себя в абсолютном одиночестве.
Кажется, ее соратники-мужчины, одного из которых она, запрещая себе, столь долго любила — просто трусы, которые ничего не сказав, утром, пока она спала, бросили ее. Однако на самом деле за их бегством скрывается тот парадоксальный факт, что ординарный (мужской) субъект не может вынести своей антропологической ординарной любви к (женскому) неантропологическому субъекту «больше, чем она есть». И в этом смысле бегство мужчин из леса — это не предательство Корнелии как «просто женщины», а напротив, свидетельство антропологически невыносимой, трагической и неразделенной любви к женщине как к неантропологическому киборг-символу, то есть как к

В этой ситуации дислокации субъективности украинских женщин советского периода, когда, на первый взгляд, они делятся на два противоположных политических лагеря — советский и антисоветский, на уровне аффективного опыта обнаруживается динамическое единство, объединяющее неидентитарную женскую субъективность, которую традиционный женский субъект просто не может переносить, будучи неспособным выжить в этом потоке становления [14].
В современной феминисткой теории такая высокая степень трансформативности и неидентитарности женской субъективности характеризуется как состояние постчеловеческого — трансгуманистической формы жизни, осуществляющейся в феминизированном будущем, в котором идентичность — «не более чем обуза» вследствие ее неустанной склонности к мимикрии (Люс Иригарэ). Ведущей феминистской стратегией в постчеловеческой или трансчеловеческой ситуации становится киборг-феминизм, провозглашающий конец эпохи картезианского «я» как уникальной мыслящей субстанции (служащей инструментом хватки патриархатного закона) и стимулирующий изобретение новых социальных практик равенства и совместности [15].
Феминистский субъект мыслится в теории киборг-феминизма по аналогии с фигурой киборга — полу-органического, полу-кибернетического феминистского гибрида (Донна Харауэй) [16], функционирующего как «новый вид целостности», как «подвижный альянс», реализующий «способность конструировать свою собственную свободу, любовь, собственные желания, переизобретать их, киборгизировать» [17]. Киборг-феминистки призывают к новому — «безответственному феминизму», утверждающему случайность категории женского и множественность женских опытов. Цель этого нового феминизма — не становление субъектом, но становление монстром, вирусом, животным, слизью, аватаром. Как заявила Донна Харауэй: «Я скорее буду киборгом, чем богиней» [18].
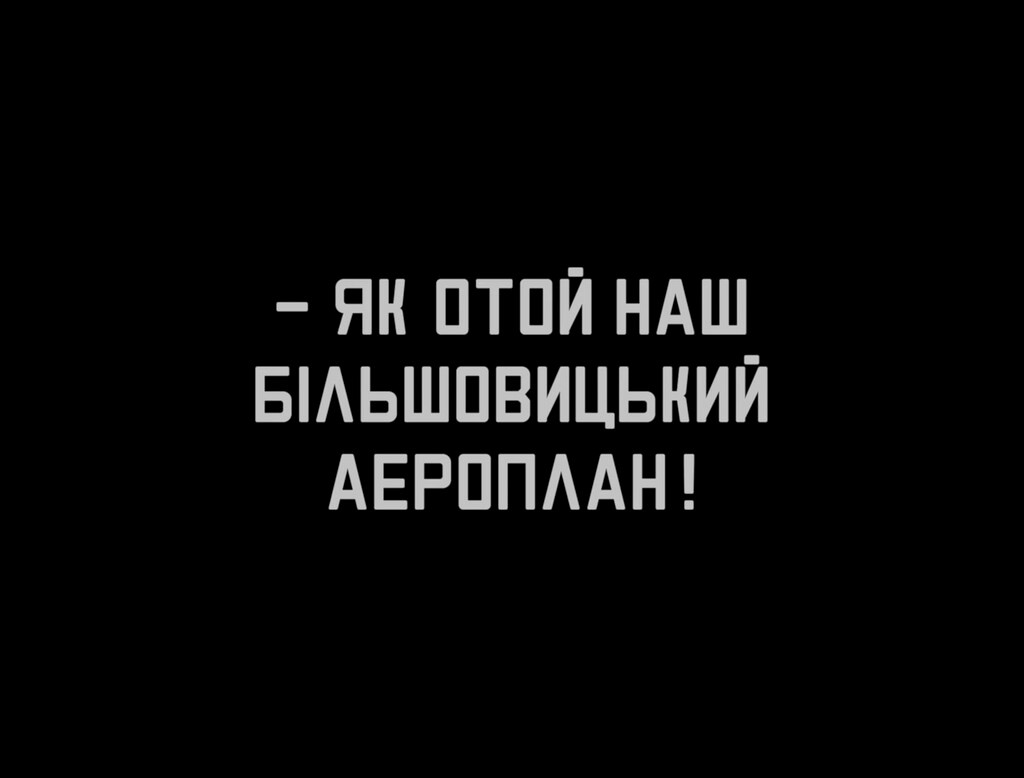
Если обратиться в этом контексте к опыту СССР, обнаруживается, что идентификационные стратегии трансгуманистического и постчеловеческого эффективнее всего реализовывали представители так называемой номенклатуры — функционерки партии, комсомола, деятельницы советской науки и культуры и т.д., идентичность которых парадоксальным образом являлась наиболее текучей, антиэссенциалистской и готовой к перформативным киборг-трансформациям [19]. В результате в постсоветский период именно они — представители советской партийной номенклатуры и различные партийные/комсомольские активисты/ки оказались самыми успешными и самыми антисоветскими (например, украинская советская филолог-коммунистка, легко ставшая радикальной националисткой Ирина Фарион, или писательница-коммунистка Оксана Забужко, легко пережившая такую же, как Фарион, постантропологическую трансформацию), проявив себя настоящими неантропологическими киборгами, с легкостью трансформировавшимися из состояния советскости в состояние антисоветскости и не переживающими эту трансформацию как кризис субъектности, ставший мучительным испытанием для большинства антропологически ориентированного украинского населения.
Можем ли мы в этом контексте также определить современный национализм как
Не в этом ли направлении продвигается сегодня украинский национализм, в котором всё сильнее звучат мотивы постчеловека и трансгуманизма, особенно усиливающиеся с началом войны РФ в Украине? Если в довоенный период в идеологии украинского национализма преобладали более традиционные микстуры, например, национализма и либерализма, и антропологические модели субъективации, то сегодня растет запрос на более гетерогенные идеологические микстуры и формы субъективации и политической идентичности, выходящие за пределы традиционного антропоцентризма. Симптоматический пример — проект украинской национальной идентификации в соответствии с так называемой «линией ноосферы» [21], который предлагает бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, делающий ставку на гетерогенный ассамбляж ценностей традиционной украинской культуры и производства украинской модели сверхчеловека на основе новейших западных технологий. Такой ассамбляж, по мнению Арестовича, позволит украинцам не только избежать опасности погружения в состояние расчеловечивания (происходящего с жителями России, вовлеченными в бесчеловечные формы насилия в ходе войны в Украине), но и сформировать новые формы постчеловеческого гуманизма — во-первых, вернуть этику в политику (что реализует сейчас Украина в ходе справедливой войны за независимость и лично президент Владимир Зеленский, совершивший радикальный этический жест отказа покинуть Киев в начале войны по приглашению западных правительств) [22], и, во-вторых, вступить в новую фазу развития человечества — Мир Полудня (прямая отсылка к фантастике братьев Стругацких), в котором произойдет «победа над злом, победа над смертью, победа над временем и пространством» и «цивилизация страха и подавления будет заменена на цивилизацию радости и любопытства» [23].

Действительно ли за этим национализмом будущее, которого нет у проектов традиционного национализма, как утверждает Арестович? Сегодня, в ситуации продолжающейся войны России в Украине трудно делать какие-либо прогнозы о будущем украинского национализма. Но уже сейчас можно констатировать, что массовая киборг-националистическая мобилизация, осуществляемая Арестовичем, значительно превосходит мобилизацию сторонников традиционного украинского национализма: число подписчиков на телеграмм канал Арестовича сегодня около полумиллиона, что на порядок выше числа подписчиков у украинских женщин-националисток Оксаны Забужко и Ирины Фарион.
Текст представляет собой чуть переработанный отрывок из книги Ирины и Сергея Жеребкиных «Киборг-национализм, или Украинский национализм в эпоху постнационализма» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2019).
Ирина Жеребкина
Профессор философии на Философском факультете Харьковского Национального университета им. В.Н. Каразина (Украина); директор Харьковского центра гендерных исследований (с 1994 года); главный редактор журнала «Гендерные исследования» (с 1998). Среди многих ее книг: «Страсть. Женская сексуальность в России в эпоху модернизма» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2001, 2018); «Гендерные 90-е или Фаллоса не существует» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2003); «Война и мир Джудит Батлер» (совместно с Сергеем Жеребкиным) (Санкт-Петербург: Алетейя, 2018); «Сталинские Антигоны. Феминистская интервенция в сталинизм» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2019); «Современная западная философия. Введение» (совместно с Сергеем Жеребкиным) (Санкт-Петербург: Алетейя, 2022).
Сергей Жеребкин
Профессор философии Центра гуманитарного образования Харьковского отделения Национальной Академии наук Украины. Среди его книг: «Нестабильные онтологии в современной философии» (Санкт-Петербург: Алетейя, 2014); «Война и мир Джудит Батлер» (совместно с Ириной Жеребкиной) (Санкт-Петербург: Алетейя, 2018); «Киборг-национализм, или Украинский национализм в эпоху постнационализма» (совместно с Ириной Жеребкиной)(Санкт-Петербург: Алетейя, 2019); «Современная западная философия. Введение» (совместно с Ириной Жеребкиной) (Санкт-Петербург: Алетейя, 2022).
Сноски:
[1] Michael Freeden, “Is Nationalism a Distinct Ideology?”, Political Studies, vol. 46, 1998, 751–752.
[2] Там же, 750–751.
[3] Там же, 758.
[4] Там же, 759.
[5] Ibid., 750–751.
[6] См.: Володимир Сергійчук, “Українізація Росії”. Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923–1932 роках (Київ: Українська Видавнича Спілка, 2000).
[7] Микола Ледянко, В імлі позолоченій (Харків, 1929), 49.
[8] Александр Довженко, “Автобиография”, в Собрание сочинений в 4 томах, том 1 (Москва: Искусство, 1968), 33–34.
[9] Евген Кротевич, Звільнення жінки (Київ, 1930), 97.
[10] Павло Тичина, “Пiсня трактористки”, в Зібрання Творів у 12-ти томах, том 1 (Київ: Наукова Думка, 1983), 136.
[11] Західна Україна під Большевиками IX.1939–VI.1941, за редакцією Мілени Рудницької (Нью-Йорк: Наукове товариство імені Шевченко в Америці, 1958), 85.
[12] Martha Bohachevsky-Chomiak, Feminists Despite Themselves: Women in Ukrainian Community Life, 1884–1939 (Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988).
[13] Наталия Блохина, “Марія Матіос. Нація”, Гендерные исследования, т. 7–8, 2002, 380–382.
[14] Анализ того, может ли субъект выжить в этом потоке и является ли точка зрения неидентитарного постчеловеческого актуальной угрозой для субъективности см.: Slavoj Zizek, Incontinence of the void: economico-philosophical spandrels (Cambridge, МА, London: The MIT Press, 2017), 133.
[15] Алла Митрофанова, «Киберфеминизм Sci-Hub: как открытый доступ к научным статьям осуществляет социальную и политическую революцию», Нож, 24.04.2018.
[16] Nina Lykke, “Between monsters, goddess and cyborgs: feminist confrontations with science”, in Between monsters, goddess and cyborgs: feminist confrontations with science, medicine and cyberspace, ed. Nina Lykke and Rosi Braidotti (London, New Jersey: Zed Books, 1996), 14.
[17] Cаша Пистолетова, Как практиковать Манифест Киборгов, cfz_02.
[18] Донна Харауэй, «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг.», в Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000, под ред. К. Дипвелл, Л. Бредихиной, перевод А.Гараджи (Москва: Росспэн, 2005), 325–331.
[19] См.: Дискуссия о новом «постиндустриальном классе» в интеллектуальном клубе «Красная площадь», 14.10. 2005.
[20] Катрин Бихар, «Введение в
[21] “Arestovich/Official”, Telegram, 11.07.2022.
[22] “Arestovich/Official”, Telegram, 11.07.2022.
[23] “Arestovich/Official”, Telegram, 11.07.2022.