Аленка Зупанчич: «Спасти половое различие или самим спастись от него?»
В конце февраля Петербург посетила Аленка Зупанчич — одна из ключевых теоретиков Люблянской школы психоанализа наряду со Славоем Жижеком и Младеном Доларом. Она выступила с лекциями в Музее сновидений Фрейда и Европейском Университете, по-прежнему остающемся без образовательной лицензии. Студенты ЕУ, вынужденно прекратившие свое обучение, пообщались с

На сегодняшний день Люблянская школа психоанализа — одно из наиболее влиятельных интеллектуальных движений. Расскажите, как все начиналось? Как вы к ней присоединились? Интересно узнать об интеллектуальной атмосфере Любляны того времени.
Стоит начать с того, что Люблянская школа — это фикция. Люди всё еще приезжают в Любляну в поисках ее физических стен, но школы как институции не существует. В действительности «Люблянская школа» — это всего лишь название группы людей, работающих над одними и теми же проблемами. Мы все были удивлены, когда лет 10 тому назад это название начало мелькать. Понадобилось время, чтобы принять его без иронии, ведь ни с того ни с сего появилось нечто, что превосходит тебя самого.
Все началось в конце 1970-х годов, когда я еще училась в старших классах. В Любляне образовалась группа людей, объединенных интересом к психоанализу и философии. Среди них были также социологи и теоретики искусства. Они читали лекции о философии, кино и многом другом. В 1980-х годах, поступив в университет, я стала свидетельницей невероятного интеллектуального подъёма в Любляне. Кругом царила свобода и казалось, что всё сказанное имеет значение и будет услышано. В самом деле, словам тогда было под силу оказывать воздействие на людей, пробуждать их, объединять. И это касалось не только Люблянской школы. Для всей Словении 1980-е годы стали особенным временем.
Ядро того, что было впоследствии названо Люблянской школой, сформировалось немного позднее. Я была студенткой Младена Долара и Славоя Жижека. Затем несколько лет училась в Париже у Бадью. И уже после моего возвращения образовалась наша «тройка». Мы стали ближайшими друзьями и одновременно единомышленниками, глубоко убеждёнными в значимости теории. Конечно, каждый из нас придерживается своего подхода, и зачастую мы делаем упор на разные вещи, но момент коллективности имеет для нас решающее значение. Вместе мы верим в своего рода святой дух, который возникает, когда нужные люди встречаются в нужное время и делают то, что хотят делать. Церкви нет, но святой дух присутствует.
Как вы обходитесь с общими идеями? Не возникает чувства, что один крадёт мысли у другого?
Стоит вспомнить о разнице в возрасте. Я начинала как ученица. Поначалу я сочла бы за комплимент, если бы кто-то вроде Жижека украл у меня что-нибудь! Да и знаете, Славой очень быстрый. Ты только успеешь о
Тот факт, что действительно важные мысли каким-то образом доходят до людей, гораздо существенней, чем спор о том, кому они принадлежат.
Вы занимаетесь философским переложением лакановской теории, при этом сам Лакан, как известно, был против создания онтологии из своего учения. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я думаю, что его возражения в отношении онтологии как определенной разновидности философского дискурса были вполне оправданы. Но, тем не менее, я не думаю, что его собственное учение является попросту анти-онтологией. На мой взгляд, теория Лакана — это серьезная критика, если угодно, определенного способа создания онтологии. Лакан отвергает способ мыслить или, вернее, забывать то в бытии, что, будучи само по себе не вполне бытием, является определяющим для бытия как такового. Именно об этом говорит психоанализ и именно этим для Лакана является бессознательное. Я думаю, его неприятие философии основано на том, что это непроницаемое и загадочное пространство всякий раз оказывается утраченным при появлении очередной «простой» онтологии. Теряется не просто нечто позитивное в бытии, но
Могут ли философские разработки лакановского психоанализа быть полезными для клиники? И не возникало ли у вас когда-либо желания стать психоаналитиком?
В первую очередь, я считаю, что клиника не должна становиться изолированной лабораторией. Это ведь точно такая же часть общественной жизни. Клиническая ситуация — уже маленький коллектив. Если у вас хороший философский слух, то вы сможете иначе расслышать, что люди говорят на кушетке. Мне кажется, именно в этом смысле философия может быть полезной для клиники.
Что касается меня, то я находилась в анализе пару лет, когда училась в Париже. Анализ был необходим мне по личным причинам, и я не планировала становиться аналитиком, так как на тот момент уже была заражена философией. В общем, границу я так и не пересекла. К тому же быть психоаналитиком в Любляне в то время означало сражаться на протяжении десяти лет за саму возможность начать практику — например, для начала получить медицинское образование. Да и сейчас в Словении нет психоанализа в строгом смысле слова. Кто-то делает попытки, но среди моих друзей нет практикующих аналитиков. Философская ситуация в Любляне также отличается от остального мира. Тот факт, что мы лаканисты, обращает против нас других философов. Они думают, что это несерьёзно.

Как вам кажется, должен ли аналитик быть отчасти философом?
Думаю, да. Поделюсь личным опытом. Когда я приехала в Париж в 1991 году, Жак-Ален Миллер вёл там свой знаменитый семинар. Только философы были в состоянии понять наиболее интересные моменты. Так обстояли дела на протяжении первого года моего обучения. Затем я уехала в Словению, а через два года вернулась в Париж и снова стала посещать семинары Миллера. Я не могла поверить своим ушам, когда он начал лекцию, уточнив, что Гегель был немецким философом. Неожиданно для меня Миллер почувствовал необходимость объяснять вещи, которые раньше казались всем очевидными. Вскоре я поняла, что изменилась аудитория. Прежде в семинарах участвовали не только аналитики, но и люди широкого интеллектуального кругозора, никак не связанные при этом с психоанализом. Своим присутствием они поддерживали атмосферу обмена идеями, которые черпались из самых разных областей знания, не только аналитической. Это был сложносоставленный дискурс, который точно нельзя было назвать университетским. По отношению к университету он был, в определенном смысле, подрывным.
Если у вас хороший философский слух, то вы сможете иначе расслышать, что люди говорят на кушетке.
Я подозреваю, что здесь не обошлось без стратегического решения со стороны Миллера, даже политического. Тогда лакановское движение было занято отвоёвыванием своих позиций, и многим авторам начали строго отказывать в публикациях. На мой взгляд, это были изменения к худшему. В тот период я будто бы наблюдала возникновение аналитической секты: Миллер сделал свой ход, и это было в определенном смысле предсказуемо. Он просто-напросто знал, что теперь обращается к совсем другой аудитории. Все это произошло в середине 1990-х. Посмотрите на книги и статьи, которые публиковались в 1980-х, и затем на те, что вышли после, — вы точно заметите разницу. Как в качестве, так и в количестве.
В это же время начала расти популярность Жижека. Желающие изучать Лакана, причём не только в клинической перспективе, больше не читали тексты Миллера, они принимались за книги Славоя. И я уверена, что его вклад в циркуляцию лакановской мысли огромен. Благодаря нему для многих стало возможным взять книгу Лакана в руки, даже если они и не помышляют о практике.
Что касается академии, то здесь наблюдается интересное разделение между философией и психоанализом. Например, в США лакановский психоанализ так и не прижился практически ни на одной философской кафедре. Ему обычно отводят место на французской или литературной кафедре, изредка на кафедре континентальной философии. Во многом по этой причине лакановское учение ассоциируется теперь с дерридианскими и
Раз уж речь зашла про академию, напрашивается следующий вопрос. Как известно, Лакан ввёл понятие «университетского дискурса», представив университетский способ обхождения со знанием далеко не в самом выгодном свете. Теперь же мы с упоением читаем Лакана в университетах. Как, по-вашему, подобная «интеллектуализация» психоанализа соотносится с собственной позицией Лакана? И каково было его отношение к интеллектуалам как представителями этого самого университетского дискурса?
Нужно сразу сказать, что вопрос интеллектуализации не сводится целиком к вопросу об университетском дискурсе. Тогдашние психоаналитики не раз обвиняли самого Лакана в излишней интеллектуальности. В сущности, это касалось того, что Лакан привнёс в аналитический дискурс отсылки к обширной области знания. В дискуссиях по поводу клинических концептов он ссылался, к примеру, на Декарта. Что же, аналитикам следовало теперь изучать Гегеля и Декарта, прежде чем начинать практику? Для многих именно это стало причиной серьезного недовольства. Но всё же нашлись и те, кого привлекла оригинальность его мысли. Его семинары вызывали интерес не только у аналитиков, они притягивали к себе все сливки интеллектуального сообщества, кстати, вовсе не обязательно представителей академии. То была особого рода интеллектуальная среда, в которой по умолчанию предполагалась знакомство с определенными источниками. И мне кажется, что подобного публичного пространства, которое, безусловно, имело место во времена Лакана, теперь уже не существует.
Настало время университета. Всё расставлено по своим местам, у студентов есть чёткие инструкции. Университет стал пристанищем предполагаемых интеллектуалов. А за его пределами осталось то публичное пространство, которое интеллектуальным в строгом смысле слова считаться уже не может. Формулируя теорию четырех дискурсов, Лакан, не в последнюю очередь, возражал против того, что некогда открытая дискуссия оказалась полностью нейтрализована университетом. Но это только часть проблемы. Университет скрывает идеи внутри своих стен. Выдающиеся или нелепые, их обсудят между собой, чтобы затем распределить звания и награды. Интеллектуальная жизнь и сам способ мышления трансформировались в производство бессмысленного и бесполезного знания на службе капиталистической системы. Поэтому проблема заключается не просто в интеллектуализации чего-либо, а в том, что само интеллектуальное производство заключено в стенах университета. И важно понимать, что противостоит этому не только аналитический дискурс, но и публичное пространство как некоторая нестабильная формация, где могут произойти непредвиденные и даже революционные сдвиги. Долгое время мы были его лишены, но есть вероятность, что сейчас в этом положении дел намечаются изменения.
Университет скрывает идеи внутри своих стен. Выдающиеся или нелепые, их обсудят между собой, чтобы затем распределить звания и награды.
При этом я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы преподавать Лакана в университетах. Конечно, его можно сделать стерильным и скучным, повторяя заезженный набор фраз. Но в конце концов то же самое может произойти и при изучении любой другой фигуры. Лакан прекрасно понимал это, когда говорил о том, что быть аналитиком и иметь доступ к эмпирическому полю клиники — еще не гарантия того, что теория не начнет рано или поздно выхолащиваться. При этом есть аналитики и философы по совместительству, которых прикосновение к Святому Граалю клинической практики сделало непоколебимо уверенными в собственной правоте. И я ненавижу, когда вместо выработки содержательного аргумента, начинают прятаться за практикой.
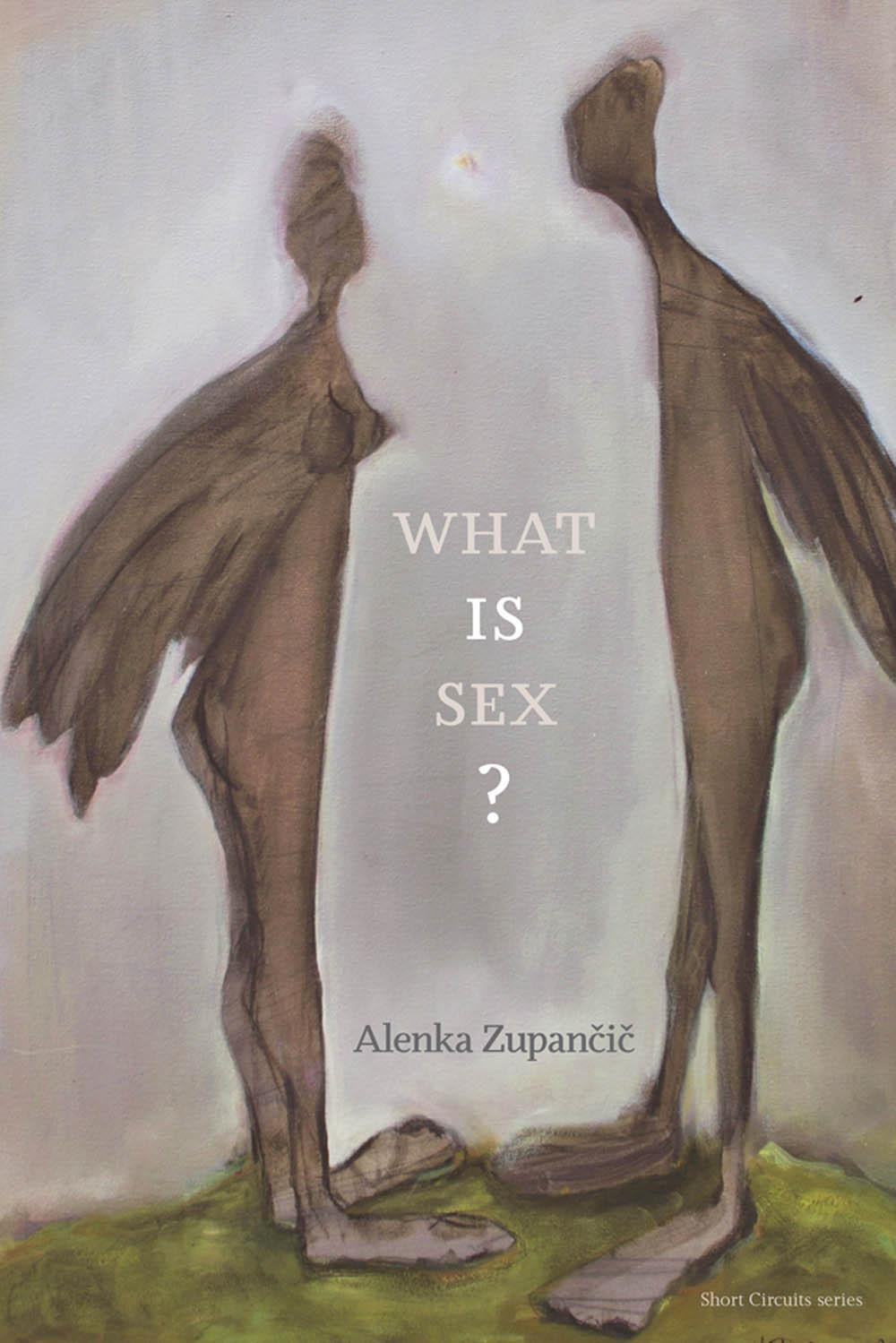
Давайте переместим нашу беседу в политический и социальный контекст, который напрямую связан с вашей последней книгой. Вкратце перескажем ее основной тезис: лакановская теория утверждает, что сексуальных отношений не существует. Мужской пол обладает символом, тогда как женский — нет, и эта фундаментальная асимметрия в символизации полов ведет к определенным не-отношениям между ними, которые парадоксальным образом обуславливают различные социальные связи. Вы подробно развиваете понятие «не-отношения». Что можно сказать по поводу его политических импликаций? И что, в этом контексте, вы думаете о так называемой новой волне либерального феминизма, а именно о движении #MeToo и движении простив харассмента?
Это очень большой вопрос, и чтобы ответить на него я попробую начать с конца. На мой взгляд, все это движение вскрывает нечто подлинное и при этом бьет совершенно мимо цели. Не нужно пытаться сгладить это противоречие, потому что оно симптоматично. Да, зачастую в рамках подобных предприятий все делается буквально вопиющим образом, но это не отменяет того факта, что нечто действительно происходит. Это определенный тектонический сдвиг, который — несмотря на то, что он временами принимает такие непривлекательные формы — нельзя игнорировать. Слишком просто было бы сказать: «это полный провал, давайте не будем вдаваться в подробности».
Одна из главных проблем либеральных движений заключается в том, что все они останавливаются именно в точке виктимизации. Появился целый способ социальной демонстрации, уже успевший стать для нас привычным: теперь, когда вы публично сообщаете о своей травме, ставки ваших чувств автоматически повышаются. Получается, что капитализм, задействуя таким образом ваши эмоции, помещает вас в пределы собственного порочного круга. Всегда приятно быть жертвой, потому что найдется кто-то, кто о тебе позаботится и накажет обидчика. Однако настоящая освободительная борьба начинается только тогда, когда вы отказываетесь быть жертвой. Серьезные социальные движения возникают там, где вещи начинают восприниматься несколько иначе, опять же в определенной политической перспективе. Необходимо понимание того, как все это связано с другими проблемами общества, с существующими социальными антагонизмами.
Теперь я медленно приближаюсь к первой части вашего вопроса. Психоаналитический способ мыслить не-отношения позволяет увидеть, что все это не просто борьба женщин против мужчин. Если мы думаем, что проблема заключается в ужасных мужчинах, которые делают жуткие вещи в отношении невинных женщин, мы теряем фундаментальную политическую подоплеку полового различия. Это неизбежное следствие, поскольку дело не только в мужчинах и женщинах, дело в том, что все социальное и дискурсивное пространство уже асимметрично само по себе и не только в том смысле, что оно несправедливо. Сама эта асимметрия кристаллизуется в различных точках идеологической эксплуатации, пропаганды и так далее. Я думаю, главный урок Лакана заключается в том, что это не асимметрия мужчин и женщин; в своей основе это определенная дискурсивная асимметрия. Это не просто асимметрия тех или иных человеческих существ, она действует внутри всех социальных противостояний, начиная с классового антагонизма.
Зачастую вопросы классовой борьбы и полового различия исторически возникали одновременно, и я не думаю, что это просто совпадение. К примеру, большие революции ХХ века в определенный момент ставили на повестку вопрос пола в качестве способа разрешения социального антагонизма.
Если мы думаем, что проблема заключается в ужасных мужчинах, которые делают жуткие вещи в отношении невинных женщин, мы теряем фундаментальную политическую подоплеку полового различия.
Должны ли мы спасти половое различие или же сами спастись от него? Это представлялось серьезным и отнюдь не поверхностным вопросом. И я думаю, что психоанализ важен, поскольку он обратил внимание именно на это.
У Альтюссера есть интересная мысль: он говорит, что марксизм и психоанализ объединяет то, что они являются непосредственно частью того антагонизма, о котором говорят. Они не находятся где-то вне его, взирая на все с высоты метапозиции, нет, они располагаются непосредственно внутри. Есть лишь некоторые точки социальной конфигурации, дающие доступ к антагонизму, тогда как с других позиций он становится невидим. И я утверждаю, что сексуальность и есть именно такая точка для психоанализа. Марксизм же обнаруживает ее в классовой борьбе.
То есть нужно занять определенную позицию. Я думаю, что именно это было открыто Фрейдом и Лаканом через сексуальность, потому что она является точкой противоречия самого дискурсивного пространства, а не просто одним из его элементов. Все это не просто про секс и психологию. Это Реальное всей конфигурации, обнаружение которого проливает свет на антагонизмы, обыкновенно сглаженные идеологией и скрытые от взгляда. Так что в определенном смысле у психоанализа есть весомые политические импликации, даже если он и не говорит о политике напрямую. На мой взгляд, существует способ использования психоанализа, который может стать эмансипаторным. Но, разумеется, можно прочитывать и использовать его исключительно в академическом ключе, что неизбежно фальсифицирует все предприятие.
Возьмем, к примеру, такое явление как агендерность. Можно ли в этом контексте назвать попытку избежать однозначного решения в пользу женской или мужской позиции реакционным феноменом, избегающим подлинного антагонизма полового различия?
Да, я думаю, что здесь определенно есть проблема, которая неизбежно сопровождает все то, что привносится вместе с политикой идентичности. Конечно, мы можем сказать, что все идентичности имеют право на существование, но это было бы слишком просто. Ведь если вы предполагаете множественность различных гендеров, вы автоматически отказываетесь от примата полового различия, и наоборот. На мой взгляд, половое различие — это не просто различие между сексуальными идентичностями, то есть между некими позитивными сущностями, в виде которых гендер обычно представляется. Якобы есть очень много разных гендеров, есть их определения — отсюда все эти аббревиатуры вроде «ЛГБТ+» и так далее, которые, к тому же, постоянно множатся. И я не думаю, что открытие все новых и новых идентичностей в итоге способно привести к эмансипации. Я рассматриваю это как симптом, который можно описать следующим образом.
Все начинается с некоторого беспокойства, а именно «гендерного беспокойства» [gender trouble], если использовать термин Джудит Батлер. Однако когда на повестку выдвигается определенная идентичность, она автоматически скрывает собой половое различие, в котором как раз и лежат истоки гендерного беспокойства. То есть с онтологической точки зрения выходит, что некая позитивная сущность маскирует исконную негативность различия. Другими словами, минус, соответствующий половому различию, предъявляется в виде плюса, то есть, если угодно, очередной сексуальной идентичности. Таким образом неотъемлемое затруднение, внутренне различие, запускающее гендерное беспокойство, отодвигается все дальше, и это повторяется всякий раз при формировании новой идентичности. Скрадывается половое различие как таковое, не только между мужчинами и женщинами.
Именно в этом для меня и состоит разница между половым различием и множественностью гендеров. Разумеется, я вполне либеральна: пусть все идентичности имеют место. Однако с теоретической и политической точек зрения не следует забывать, что субверсивный потенциал гендерного беспокойства заключается лишь в одном единственном различии.

В общем, я не думаю, что если мы вдруг признаем все существующие гендеры, мы автоматически окажемся в пространстве свободы. Проблема все равно останется. Есть, к примеру, очень наивная идея, о которой часто пишут в некоторых интернет-источниках: якобы можно и нужно подобрать правильные слова для описания чистой сексуальной идентичности. Как если бы язык был полностью в нашем распоряжении, и нам оставалось лишь найти верные слова для описания того, чем мы являемся. А если мы достаточно в этом преуспеем, всем нашим сексуальным проблемам будет положен конец. Я не думаю, что это может когда-либо произойти, поскольку у нас нет подобного доступа к языку. Язык уже в нас, как раз это и вызывает беспокойство. Да, я согласна с тем, что существуют проблемы с признанием и дискриминацией, начиная, разумеется, с гомосексуальной повестки. Но для меня, как и для Лакана, гомосексуальность также является частью полового различия: в рамках однополой пары половое различие не упраздняется.
Язык уже в нас, как раз это и вызывает беспокойство.
Разумеется, если полностью посвятить себя подобной инициативе, то возможности называния различных идентичностей никогда себя не исчерпают, всегда появится еще и еще один нюанс. Однако, как я уже говорила, нечто принципиальное скрадывается при таком взгляде на вещи, половое различие растворяется в пользу гендерных различий. Мы думаем, что это единственный способ оставаться подлинно демократичными, однако, на мой взгляд, мы теряем очень мощное концептуальное оружие, которое могло бы помочь в борьбе с дискриминацией. Для Лакана половое различие — это не просто различие между мужчиной и женщиной как между существами, обитающими в некотором социальном пространстве. С этого момента все становится гораздо сложнее, но мне было важно обозначить сам тезис.
Остается заключительный вопрос. Есть расхожее представление о том, что философия и секс исторически противостоят друг другу. Будь мы греками, то сказали бы, что сексуальная активность приносит телесное удовольствие, тогда как философия в качестве умственной активности приносит удовольствие духовное. Этот конфликт между философией и сексом проходит через всю историю философии. Но психоанализ ставит его под вопрос и отводит сексуальности центральное место. Более того, сексуальность становится предметом интеллектуального усилия, благодаря чему сама граница между интеллектуальным и телесным претерпевает внушительную трансформацию. Как меняются, на ваш взгляд, отношения между сексом и философией благодаря этому сдвигу?
Вы начали свой вопрос с Древней Греции. Мы привыкли думать, что они-то уж точно знали, как жить. Взять, к примеру, Фуко и его теорию о том, как мы потеряли саму способность испытывать удовольствие в качестве удовольствия. Мне всегда казалось, что это скользкая перспектива — узнавать в далёких культурах якобы утраченную нами способность к полноте существования. Вспомните Платоновский «Пир». Симпозиум фактически был оргией, где обсуждали философию. Древние не разделяли интеллектуальные и телесные удовольствия. Но затем появляется идея о том, что если заниматься сексом слишком часто, то ваш мозг перестаёт мыслить философски. Это смешно.
В 11-м семинаре Лакан говорит, что прямо сейчас он не трахается, а разговаривает с нами, но его удовлетворение сопоставимо с тем, как если бы он сейчас трахался. Так что вероятно философское и сексуальное удовольствие соперничают друг с другом только потому, что на
Интервью: Константин Корягин, Наталья Шапкина
Перевод: Галина Кукенко, Валерия Левчук
Благодарим Творческое пространство "0+" за помощь в организации интервью.
