«Мне снилось, что у меня есть машина времени и как-нибудь, но я спасу Анну Франк». Интервью с Джеффом Мэнгамом

В начале 1998-го года увидела свет пластинка «In The Aeroplane Over The Sea» американской лоу-фай-группы Neutral Milk Hotel. Работа сразу полюбилась критикам, и команда, десять лет игравшая по квартирам друзей и маленьким клубам, отправилась в долгий тур в поддержку альбома. В каждом новом городе людей в залах становилось все больше, и после полугода, проведенных в дороге, Neutral Milk Hotel добрались до границы между андеграундом и мейнстримом. Однако создатель группы Джефф Мэнгам, истощенный от нарастающего внимания и к концу тура отказывавшийся отвечать на звонки, вряд ли хотел пересекать эту границу. Не делая официальных заявлений, он развалил группу и пустился в творческие и духовные эксперименты.
Ведомый давней любовью к хоровой музыке, Мэнгам едет в Европу, где создает полевые записи болгарских песнопений. В 2001-м, вернувшись в Америку, он выпускает их под названием «Orange Twin Field Works (Vol. 1)» на лейбле своей подруги Лоры Картер. Там же Мэнгам издает сборник песен, сыгранных под акустику в кафе Jittery Joe’s в Атенсе (Джорджия) в 1997-м. Одновременно с тем он собирает психоделические музыкальные коллажи в анонимной супергруппе своих друзей Major Organ and the Adding Machine, а в другой — Circulatory System — играет на барабанах. Сэллинджер от

Тем временем музыка Neutral Milk Hotel становится все популярнее. В 2003 году Pitchfork помещает «Aeroplane» на 4-е место в списке 100 лучших альбомов 1990-х. В любви к группе по очереди признаются Franz Ferdinand, Arcade Fire, Beirut. Когда в 2013-м Neutral Milk Hotel воссоединятся для живых выступлений, любовь к некогда камерному коллективу будут разделять уже миллионы слушателей по всему миру, а журналисты буду говорить о группе как о культовой и важнейшей для инди-музыки.
Погружение в глубины лоу-фай Мэнгам начал в Растоне (Луизиана) в конце 80-х, подписываясь сначала просто Milk. Позднее к нему присоединились Джулиан Костер, Джереми Барнс и Скотт Спиллейн. Все они были участниками поселившейся в американских Афинах музыкальной коммуны из 25 человек Elephant 6. Свои домашние пьесы музыканты записывали на четырехдорожечный магнитофон, помещая чувственные, обнаженные и захлебывающиеся стихи, принесенные потоком сознания Мэнгама, в рамки печально-праздничных поп-песен, сыгранных нарочито небрежно и шероховато. Свое комнатное, или скорее чердачное звучание, в котором, как в шкатулке с тайнами, перемешались дисторшн на акустической гитаре, мистическое пение изогнутой пилы, эуфониумов гул и пронзительный голос Мэнгама, музыканты перенесли и в студийные записи.

В этом (одном из очень редких) интервью, полный текст которого был опубликован 11 февраля 2008 года в журнале Pitchfork, Джефф Мэнгам рассказывает о том, как приходят песни, о своем ужасе перед ними и жуткой необходимости спеть их, о трепете перед болгарской хоровой музыкой и французской musique concrète, о своей музыкальной философии и юности, проведенной в христианских лагерях, об атеизме и Христе, о сексуальности и сексизме, о наркотических приходах и галлюцинациях наяву, о жизни в коммуне, о страхе быть в своем теле и быть вообще. Об Анне Франк.
Это интервью было проведено 21 декабря 1997 года — за два месяца до выхода «Aeroplane» — изначально для музыкального зина Puncture.
Беседовал: Майк Макгонигал
Перевел: Степан Ботарёв

За неделю до Рождества 1997-го я и моя бывшая жена проехались от
Во вступлении к оригинальной статье для Puncture я написал, что «Aeroplane» можно положить “на одну полку с «Rock Bottom» Роберта Уайатта, «Yip/ Jump Music» Дэниэла Джонстона, «Oar» Скипа Спенса, «Wee Tam» группы Incredible String Band, «Madcap Laughs» Сида Барретта и «Could Have Been Bigger Than the Beatles» группы Television Personalities. Не хуже, а может, лучше — эта музыка, эта пластинка. И в отличие от многих вещей, что я слушаю и которыми по-настоящему наслаждался на этой неделе/в этом году, «Aeroplane» не утратит для меня важности еще долго после того, как затихнет эхо моего необычайного потрясения”.

Pitchfork: Экспериментируешь ли ты с тем, как много слов можно сказать в одной песне, на одном дыхании?
Джефф Мэнгам: Ха-ха. Песни приходят как бы неожиданно, и мне требуется время, чтобы разобраться, что именно происходит на уровне текста, что за историю я рассказываю. Затем я начинаю складывать кирпичики — кирпичи из слов — чтобы двигать песню от одной точки к другой, и к другой, пока не дойду до конца. Слова продолжают прибывать в непрерывном потоке, как маленькие капли, обычно в
Песня «Song Against Sex» появилась именно так?
Честно говоря, «Song Against Sex» получилась совершенно спонтанно.
Тогда какой пример более удачный?
«Two-Headed Boy», например. Разные части появились в разные моменты, и их было так много, что сейчас большинство из них я уже и не припомню.
Neutral Milk Hotel — Two-Headed Boy (1998)
Значит, ты часто редактируешь сам себя?
На бумаге я тексты никогда не редактирую — все правки в голове сохраняю.
Как часто ты пишешь песни?
Все время. Песен накопилось, по крайней мере, на четыре альбома, но мы их не выпускаем и, может быть, никогда не выпустим, — в общем, много разного.
Записанные?
Да нет.
Потому что они не сочетаются с концепциями «On Avery Island» и «In the Aeroplane Over The Sea»? Просто твои пластинки правда концептуальные.
Нет. Это истории. Хотя, кажется, [история] это и есть концепция, да?
(Вернувшись с кухни, куда кое-зачем уходил) Ого, сколько у тебя тут мелодик!
Ага.
Сколько частей песни ты слышишь в голове, когда она впервые приходит?
Я слышу многое, но песни похожи на вспышки в моем мозгу. Они — некое целое, но странно — я пишу их, пою их, представляю, о чем они, и записи никогда слишком сильно не расходятся с этим представлением, но в то же время, когда песни все же становятся записями, они уже совершенно другие. И мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к музыке, звучащей из колонок, а не внутри моей головы. Очень здорово слышать их, как и когда мы играем вживую, но и очень странно.

Когда ты просто занимаешься чем-нибудь, слышишь мелодии в голове?
Все время. Мои песни крутятся в голове почти всегда — а потом уже обычно что-то рождается. Ну, прямо сейчас, например, у меня в голове много гавайской музыки.
Какого-нибудь Дона Хо слушаешь или слэк-ки Роя Смека, или еще что-то? М?
Это не настоящая гавайская музыка, но никаких более близких сравнений не нахожу. На самом деле она не звучит по-гавайски. Просто я — сам не знаю, почему — слышу в голове укулеле в последнее время. Все, чем я занимаюсь, я всегда делал просто по наитию.
Помимо песен, пишешь что-то?
Не-а. Все слова — только, когда играю, пою, открываю рот и выпускаю их наружу.
Neutral Milk Hotel репетируют?
Не совсем. Мы не репетируем так, как это обычно делают. Мы месяц репетировали на
Бывает, ты говоришь Джулиану [Костеру]: «Сыграй на пиле эту партию вот здесь»?
Многие из партий для пилы — Джулиан сочиняет их по ночам, каждую ночь тура, пока мы в дороге, и в конце концов у него получается что-то, что ему по душе. Духовые аранжировки как-то так же.

Значит, многое в песнях приобретает форму, когда вы просто играете вживую?
Типа того, но это все равно еще довольно примитивные вещи, которые расцветают, когда мы уже записываемся.
Что имеешь в виду?
Основная тональность, общая идея — Джулиан берет то, что играл в лайвах, и развивает. Типа того. Он начинает с одной небольшой части, которую он уже играл раньше, и потом три часа сидит в ванной, играет ее снова и снова, пока у него не получится партия пилы на три голоса, похожая на гавайское пение или голоса маленьких ангелов.

Насколько я понимаю, вы работаете с
Что, дисторшн? Ну да. Да и все на записи осознанно. Мы за те годы, что писались на четырехдорожечный магнитофон, привыкли, что вещи должны звучать определенным образом, и есть определенные звуки, которые мы полюбили. Весь тяжелый дисторшн мы всегда добавляли намеренно. Как можно больше древнего оборудования использовали. Но, когда мы занимались «On Avery Island» и последней пластинкой тоже, мы пытались добиться наилучшего звучания, на которое были способны. Сегодняшние hi-fi-стандарты иногда совершенно отвратны. Есть всего пара по-настоящему значительных продюсеров.
Например?
Ну, например, Джим О’Рурк. Он умеет сделать так, чтобы песня звучала так же, как она звучит в обычной комнате. У меня очень ограниченные познания в звукозаписи, но магическая возможность запечатлевать звуки на аудиопленке, и чудо электричества, и эти крохотные магнитные частицы поражают меня.
С кем ты предпочитаешь записываться?
Роберт Шнайдер. Мне очень уютно с ним. Он — мой старый друг, с которым я работаю всю жизнь. Знаю, что он понимает меня. Энергия и любовь, которые он вкладывает в запись, то, насколько лично он относится к этому, и то, что с ним всегда есть время сделать именно то, что ты хочешь сделать. Все равно что записываться дома, но вместе с этим человеком, который толкает тебя открывать новые пространства. Роберт позволяет тебе найти самые лучшие, самые интересные звуки как бы внутри тебя самого. Глупо звучит, да?

Вовсе нет. Окей, я знаю, что ты серьезно увлекаешься композиторами musique concrète, вроде Люка Феррари или Пьера Анри, и отчасти именно поэтому NMH так замечательны —
Да нет, я делаю такое! Просто я в написании песен достиг такой точки, когда мне комфортнее выражаться напрямую. И прямо сейчас я работаю над более… игрушечной музыкой. Музыку, которую делают Феррари и Анри, я считаю частью того же ангельского, потустороннего музыкального пространства в моей голове, в котором, кажется, и многие из
Luc Ferrari — Petite symphonie intuitive pour une paysage de printemps (1973 — 1974)
Ты многое записываешь на магнитофон — просто в одиночку?
Да.
И многое ты выпустил?
Три песни, может.
Почему ты не выпускаешь их?
Здесь, вот в этих коробках (ходит по комнате, по которой разбросано оборудование, пластинки и книги), и еще вон та коробка наверху.
Почему ты не выпускаешь их? (Тут нас прерывают ребята — принесли нам вкусной сдобы с корицей.) Насколько сильно на тебя повлияла цирковая музыка?
Цирк очень сильно на меня влияет. Во многих снах, что я вижу, я — в цирке. У меня есть песня «Ferris Wheel on Fire», и часто во сне я бреду куда-то и вижу это горящее чертово колесо, а я внизу, иду через толпу — меня сны на многие песни вдохновили. А откуда берутся эти сны, вообще не понимаю. Когда я был маленьким, кровать всегда была, как бетон, и мне постоянно снился сон, где за мной катится бомба и все движется прям невероятно быстро, но она никогда не настигает меня. И я просыпался, и мои руки казались мне огроменными, а кровать — бетонной.

Ты думаешь о разных песнях как о разных местах в твоей голове — существующих на самом деле, но которые только ты можешь видеть или слышать?
Да, так.
И, значит, запись — это своего рода документ такого места или что-то вроде?
Ты прав. Есть какое-то чувство, с которым приходят песни, и песни не могут воплотиться, пока оно не придет ко мне. Это такое неуютное, одинокое чувство в животе. Когда оно появляется и мне становится совсем не по себе, тогда я должен идти, играть и петь, и иногда рождается песня, а иногда нет. Песни — все как бы в одном и том же месте на самом деле.
В «Song Against Sex» и в той песне на новом альбоме ты поешь, что „Your father made fetuses with flesh-licking ladies“ («Твой отец делал зародышей с дамами, лизавшими плоть» [здесь и далее, после цитат из песен, в скобках — буквальный перевод]). Похоже на сильное, внутреннее неприятие спаривающихся тел. Тебе противен секс?
Секс противен мне как средство власти, противны люди, которым по херу, в кого там они засовывают член. По-моему, это очень печально. Я знал кучу людей, которые были серьезно травмированы
Такие особые, личные отсылки?
Ага.
Neutral Milk Hotel — Oh Comely (1998)
В твоих работах есть какая-то подлинная радость и изумление. Что-то от мировоззрения шестилетнего ребенка, который смотрит на проезжающую мимо машину и удивляется, что такое вообще существует. Мне это стало ясно на строке из «Aeroplane», в которой ты поешь: “How strange it is to be anything at all” («Как странно быть чем-либо вообще»). В этом суть твоей философии, да?
Это был довольно странный процесс — я был очень религиозным, пока взрослел. Церковь объяснила мне, как мир устроен, я это принял, и это была очень простая картина мира. Вот я стал старше, и теперь, чем меньше я понимаю, тем больше изумляюсь. По утрам я обычно просыпаюсь с жутким чувством от того, что я в своем теле. Да и, что бы мне ни снилось, я всегда испытываю полный ужас от того, что я в моем теле, и просыпаюсь потрясенный. А потом успокаиваюсь, забываю об этом и иду делать кофе. И хотел бы я объяснить, насколько мне жутко даже от того, что я здесь, и не выглядеть при этом глупо.

Еще в придачу снится всякое ужасное, когда начинаю лунатить.
Ты лунатишь?
О, еще как! У меня каких только галлюцинаций не было, и это очень странно.
Ты имеешь в виду, когда спишь…
Ну, я открываю глаза и вижу всякое. Видел призраков, проходящих сквозь стены. Видел воронку, проходящую через стену. Видел в окне бесформенные шарики света, прыгающие по двору. Видел гигантских жуков на цветке. Я был как-то в отеле в Амарильо, в Техасе, и все, что я помню, — как я стоял на кровати и смотрел, как передо мной вся стена заполняется огнями, которые (изображает хлопки) лопаются, как попкорн, и отскакивают от стены. Потом я просыпаюсь и такой: «Офигеть. Я стоял на кровати и пялился в стену».

Ха, не удивительно, что ты не употребляешь наркотики! И к слову о галлюцинациях, и видениях, и всяком таком, мне нравится, как звучит в твоих песнях слово «трезвый», насколько вразрез оно идет с хипповской «андеграундной» ментальностью, которая так сильна еще во многих музыкальных сообществах. В некоторых журналах статьи не найдешь, в которой что-нибудь интересное не сравнивалось бы с тем или этим наркотиком. Что меня и удивляет, потому что, когда ты часто употребляешь наркотики, тебе гораздо сложнее создавать интересное искусство. Если у тебя получается, ладно. Но подумай о том, насколько было бы лучше, если б ты не был так обдолбан. Если вещества делают за тебя всю работу, тогда кто ж ты есть — без них ничего не получается?
Согласен с тобой. В школе я был типичным наркоманом — постоянно обкуривался, ел кислоту — но сейчас ничего такого не делаю. Правда хочу добавить, что другие могут делать, что хочется, ты понял. Я не проповедую. И многие рок-музыканты создавали крутые вещи под веществами!
Когда я начал писать «Ghost», это вроде 10-й трек, песня, в которой поется (поет): “Ghost, ghost I know you live within me” («Призрак, призрак, я знаю, ты живешь внутри меня»), потому что мы думали, что у нас дома, у нас в ванной, живет привидение. Так вот, я закрыл дверь и стал напевать призраку в ванной. Но потом я уже пел скорее о другом призраке из другой комнаты, которое постоянно будило меня своим свистом, и о привидении, которое, может быть, а может и нет, живет внутри меня самого. А в итоге все это стало походить скорее на отсылку к Анне Франк. Да и многие песни на альбоме об Анне Франк.
Neutral Milk Hotel — Ghost (1998)
Заниматься творчеством, отсылающим ко Второй мировой и холокосту — это было всего поколение или два назад — но я не часто слышу такие пластинки в 1998-м. Что тебя побудило? Ты читал или перечитывал «Дневник Анны Франк»?
Да. Знаю, это может прозвучать слегка слащаво.
Нет, ты чего.
Прямо перед записью «On Avery Island» я бродил по Растону [Луизиана], дожидаясь, когда поеду в Денвер на запись. Я не считаю себя слишком образованным, потому что много времени провел в мечтах… И вот я ходил туда-сюда, размышляя: «Если бы я знал историю всего мира, во всем для меня было бы больше смысла или я просто сошел бы с ума?» И я пришел к выводу, что, наверное, сошел бы с ума. На следующий день я пошел в книжный, прошел в закуток у стены, и там лежал «Дневник Анны Франк». Я никогда в жизни ни о чем таком не задумывался. Два дня провел, читая его, и потом просто свихнулся.
Свой тезис доказал.
Ага. Я дня три плакал и просто свихнулся. Когда я читал дневник, она была для меня живой. Я прекрасно знал, что с ней произойдет.
Но в чем дело: ты любишь людей, когда знаешь их историю. И они тебе симпатичны, даже когда делают тупые вещи, потому что ты знаешь, откуда в них это, понимаешь, что у них в голове происходит. И здесь я могу погрузиться настолько глубоко, насколько вообще можно залезть в чужую голову, в

Если бы речь шла о том, чтобы вернуться в прошлое и спасти Фродо Бэггинса — да, было бы глупо. Но так сильно сопереживать, читая дошедшие до нас через холокост строки, — это, пожалуй, другое.
События альбома не обязательно в ту эпоху происходят. Это отражение того, как я вижу то время. Во всяком случае, я даже не уверен, что время линейно, что оно движется в одном направлении. Мир — невероятный, туманный и безумный сон, через который я спотыкаясь бреду. Наука ведь довольно доступно объяснила нам, что действительность, в которой мы живем, — это не обязательно настоящая действительность. Я читаю много книжек по физике и метафизике; чаще всего голова от них болит, раскалывается, но я все равно возвращаюсь к ним, чтобы попытаться понять.
Многие песни с «Aeroplane» напугали меня, и ребятам пришлось помогать мне привыкнуть к ним и понять, что петь о многих из этих вещей — нормально, что не надо запирать их внутри. Просто они получились слишком глубокими. Я спрашивал друга: «Что, блядь, я делаю?» Нужно было время, чтобы я понял, что эти песни светлые, что это не те ебаные кошмары, которыми я блевался.
Думаешь, некоторые тексты на альбоме заставят людей офигеть?
Блин, я тебе говорил уже, чтó в инди или другой музыке может заставить людей офигеть — но и хер с ними! Мне вот правда очень интересно, что, когда ты поешь “I love you Jesus Christ” («Я люблю тебя, Иисус Христос»), а не “I love you Linda Sue” («Я люблю тебя, Линда Сью»), многие слушатели начинают смотреть на твою музыку совершенно иначе. Ясно, что значат эти строки совсем другое, но люди могут приписать тебе целый набор характеристик, начнут думать о тебе совсем по-другому всего-то
Я, честно, не могу сказать, что на сто процентов знаю, о чем та песня. У тебя есть минута? Просто мне нужно какое-то время, чтобы объяснить по-нормальному.
Конечно.
С большинством из этих песен было так, что я мог запереться в комнате и позволить моему сознанию просто высвободить все, что ему захочется, и я не слишком переживал о том, кто что подумает. И, думаю, песня о Боге была неизбежной —
Сколько вам тогда было?
От 11 до 17.
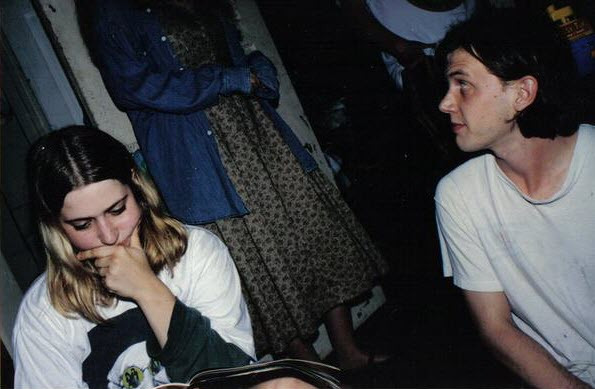
А где лагеря находились?
В центральной Луизиане, в самой глуши.
Это влияние хиппи-культуры на христианство?
Да это даже не было хиппово, это было просто странно — там ты мог делиться, чем захочешь, и люди валялись повсюду или носились туда-сюда, дурачились. И не то чтобы прям это был какой-то религиозный опыт, а скорее — эмоциональный, человечный. Даже если ты был атеистом и твои родители сбагрили тебя сюда, ты мог говорить об этом. Ты мог открыто говорить о своем атеизме, и люди начинали спорить с тобой. И быть атеистом было так же здорово, как

По поводу моей песни о Христе, я же не говорю: «Я люблю тебя, христианство». Я не говорю «Я люблю все гребаное ужасное дерьмо, которое люди сделали во имя Бога». И я не проповедую веру в Христа. Это просто самовыражение. Я просто выражаю что-то, что могу даже и не понимать. Это песня растерянности, это песня надежды, это песня о том, что весь мир это большой сон — и кто знает, что произойдет дальше.
Мы играли концерт с Виком Чеснаттом в Атенсе две недели назад, и он сел на сцену, и играл 30 минут, и не останавливался. И он пел о том, что, типа, действие и противодействие — самые близкие к правде вещи во Вселенной, и о том, как он находился вне своего тела, и что в этом не было ничего сверхъестественного. И я подумал, что это самое красивое, что я

Для меня это, как будто я выражаю что-то, что есть во мне, но что я не могу объяснить, что на самом деле не имеет ничего общего с религией. Моя любовь к Христу больше связана с тем, что он говорил, и тем, во что верил. А потом церковь навалила вокруг этой идеи своего дерьма, и теперь она порой кажется настоящим злом. Что человеку ни доверь, он все умудрится испортить, так или иначе. Думаешь, это слишком цинично? (смеется)
Нет, мы все всё портим. Я лично в Христа не верю, но нагорная проповедь и все эти штуки в духе «любите врагов ваших» — это классная философия. И я верю в Бога, но не очень много об этом говорю. И это ново для меня, и странно. Но я всегда считал музыку по-настоящему духовной вещью. Не важно, что это за музыка, но, если она чиста и хороша, она для меня — вещь абсолютно духовная.
Точно. Для меня эта пластинка разве что очень духовна, но религиозной я ее не считаю. И я, в общем, надеюсь, что, когда люди послушают песню про Христа в начале, они поймут мой посыл и смогут насладиться духовной стороной пластинки.
Это не проповедь.
Нет. Я простой человек. И меня не крестили в баптистской церкви!
А насчет духовности в чужой музыке, ты чувствуешь с этим какую-то связь?
Что-то подобное чувствую, когда слушаю болгарскую музыку. Болгарский хор, например. Это самая красивая музыка, что я слышал, и она уносит меня в такие дали, которые я никогда не смог бы описать.
Ты слышал о песенной традиции Sacred Harp?
Это что?
Пение Sacred Harp в исполнении участников сообщества FaSoLa Philadelphia
Для меня это самая близкая к восточноевропейской хоровой музыке вещь из того, что делают у нас. Те же чувства вызывает. И еще это единственное, за что я прямо горжусь — по-американски горжусь — это искусство, которое создали мы сами.
А! Понимаю, о чем ты.
В общем, у вас, ребят, в музыке явно есть заимствования из других культур, и ты вот болгарский хор упомянул. Как вы осваиваете или встраиваете такие мелодии в свою музыку и при этом не становитесь одной из этих «world beat»-групп?
Не знаю! В моем музыкальном мире, я двигаюсь, знаешь, как бы вслепую?
Весь секрет?
Да! Ничего больше!

А каверы на что делаете?
Только один был.
Та песня Liberation Quartet Чарли Хейдена? [«Song for Che» — прим. ред. Pitchfork]
Да, это единственный кавер, который мы делали.
Ну, вот Чарли Хейден много южноамериканской музыки использует; как он это делает, по-твоему?
Не знаю! Ты так много world music в моих песнях слышишь?
Не много, но я в некоторых моментах слышу заметное влияние…
Мне кажется, есть в этой музыке какая-то чистота, которая мне и дорога, — она чуть более нетронута, что ли.
Тяжело о таком говорить, да?
Конечно. Моя музыкальная философия и моя личная философия — это вещи, которые я понимаю без
В общем, твое творчество в большей степени внутреннее и интуитивное?
Ну да.
Кто входит в
The Minutemen. The Minutemen были типа одной из самых великих групп в истории, и the Soft Machine. Еще Дэниэл Джонстон — я слушал его ранние кассетные записи, и они были просто… ну очень красивые.
На одном из сольных концертов Мэнгама девушка из зала попросила дать слушателям совет о любви. В ответ Мэнгам заиграл кавер на “True Love Will Find You In The End” Дэниэла Джонстона
Успел на the Minutemen сходить?
Нет. Я наткнулся на the Minutemen сразу после того, как умер Ди Бун. Единственная песня, которую я у них слышал до этого, была «Paranoid Chant», по радио. Помню, когда мне было 14 и я услышал ее, я подумал: «Это самый безумный, самый, на хер, сумасшедший крик, который я слышал в своей жизни!» Я тогда охренел просто. Многое из музыки, которую я открывал в 14, пугало меня, но нравилось. Я не до конца понимал ее, и она вся была такая на грани. Но потом начинаешь понимать…
Когда я купил альбом «Double Nickels on the Dime», я думал, это будет двусторонняя пластинка из одних «Paranoid Chant’s», и я подумал: «Меня хоть на одну сторону диска хватит?!» Я включил — и они для меня звучали просто, как the Meters, только в наше время — и я тогда просто офигел. Я поверить не мог. И эта пластинка стала саундтреком к четырем годам моей жизни, в старших классах. Они же были просто счастливы быть в одной группе, быть вместе и петь о том, о чем они пели. И у них все так красиво получалось. До сих пор включаю эту пластинку и люблю все, что они делали; для меня это что-то прям волшебное. Я видел их
Minutemen — #1 Hit Song (1984)
Ты выражаешь благодарность целому городу Растону, где ты вырос, на своем первом диске.
Я так поблагодарил весь город и местную тусовку, но это еще и место, где я взрослел, так что с ним связано много сильных переживаний.

Особо не скажешь, что у тебя южный акцент. В чем дело?
В школе вокруг были одни качки — конченные расисты, сексисты. С самой юности все мы чувствовали, что как будто мы не там, где должны быть. Мы все, ну, типа спаслись оттуда. Мир, который мы себе там построили, был очень красивым. Но, думаю, мы видели, как мимо проходит какой-нибудь чувак (с грубым акцентом): «Эй, брата-а-ан, че, давай бухнем, бля? И той шлюхе потом присунем, епта», и нам хотелось быть настолько не похожими на таких ребят, насколько это возможно. Когда я был младше, мне пришлось сознательно избавиться от этой манеры говорить, потому что так разговаривали мудаки, которых я ненавижу. То, что у меня акцента нет, — это был мой юношеский бунт, во всех смыслах.
Elephant 6 — это что-то вроде коммуны, в Атенсе, но это тот случай, когда все получилось.
Ну, мы типа записываемся друг для друга, пишем песни друг для друга. И типа все время, что я записываюсь здесь, я открываю для себя что-то, чего вообще не понимаю, но знаю, что мой друг Уилл послушает. Я дам ему кассету, и он сто пудов заценит. Так что для меня это такое вознаграждение — записать что-нибудь, пройтись до его дома и вручить ему кассету.

Как его группа называется?
(Смеется.) Это Уилл Уэстбрук, он играет в The Gerbils, и еще у него сольный проект Wet Host. Он на саксофоне играет. Здесь сейчас живет где-то человек 25, приехавших из Растона. Это правда забавно; нас всех притянуло друг к другу. Мы всегда играли вместе всю нашу жизнь, но это вообще не закрытый клуб какой-нибудь или что-то подобное. Все время кто-нибудь появляется и такой: «Блин, я на этой штуке сыграл смычком типа, и она стала издавать такой писклявый звук!» И мы такие: «Огооо! Офигенно, чувак! Тащи ее сюда, покажешь!» Если кто-то хочет сыграть, им достаточно просто прийти и захотеть сыграть.
Немного пугает, что вам, ребят, удается так ладить друг с другом. Вы говорили о том, чтобы купить землю, построить дома прямо в лесу и жить вместе, было такое?
Да. Ну, Пит [Эрчик] из Olivia Tremor Control всерьез увлекается всякими геодезическими куполами, а у Скотта и Лоры куча идей о том, как обеспечивать комьюнити, используя гигантские водяные колеса, которые вырабатывали бы электричество, ну и всякое такое.
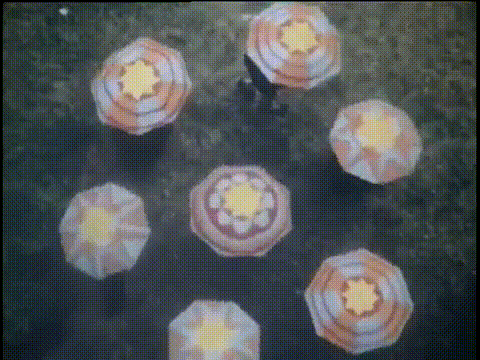
Почему Атенс так подходит для ваших целей?
Ну, просто здесь все собрались! Мне, в отличие от других, не то чтобы так уж прям нравится тут, но и сказать, что не нравится, не могу. Афины — спокойный, приятный для жизни городок. Но, послушай, я никогда не жил где-то, где мне было бы очень уж хорошо.
