Ландшафт, в котором встречаются самые разные маршруты
Редакция Стенограммы решила узнать у разных женщин*, занимающихся искусством, литературой, теорией и активизмом, что они думают о женской и феминистской литературе.

В опросе приняли участие: философ Алла Митрофанова, активистка Дарья Апахончич, исследовательница Марина Исраилова, поэтесса и исследовательница Анна Родионова, художница и поэтесса Ольга Русакова, писательница и поэтесса Елена Ревунова, поэтесса и исследовательница Елена Фофанова.
Мы задали ряд вопросов. Некоторые респондентки отвечали отдельно на каждый вопрос, некоторые выбрали несколько вопросов на свое усмотрение. Анна Родионова составила собственный текст в диалоге с нашими вопросами. Ее вариант ответа мы поместили в конце материала.
1) Что делать с каноном? Нужно ли создавать альтернативные каноны (например, канон женской литературы), или женщины просто постепенно займут свое место внутри большого канона?
Алла Митрофанова: Канон имеет свои исторические границы с невидимыми правилами, которые трактуются как естественные. Нарушение канона связано с изменением правил и фильтров доступа, когда невидимое «подает аппеляции». Классический канон строится на отрицании многих тем как недостойных (низкое, профанное телесное, грязное, иррациональное), и неважно, что они составляют жизнь многих. Есть и гендерные особенности: герой действует, а героиня им восхищается. Толпы восхищенных девушек на страницах Генри Миллера, Хемингуэя, Керуака. Современная литература открыла ценность полилога и в целом сдвинулась от героического к «повседневному», от
Елена Ревунова: Проблему канона можно назвать проклятой, и здесь больше вопросов, чем ответов с готовыми решениями. Какие (политические) изменения должны произойти, чтобы в учебнике по литературе рядом со Львом Толстым появилась, например, Надежда Хвощинская? Среди современников она пользовалась довольно большой популярностью, а критики хвалили её в том числе за то, что женские характеры удаются ей лучше, чем авторам-мужчинам, которые не могут иметь непосредственного доступа к «женской душе». Почему многие — почти все — даже известные при жизни, как упомянутая выше Хвощинская, после смерти оказались забыты этим пресловутым каноном, не закрепились в нём? Почему даже будучи восстановленной, генеалогия внутри «женского канона» утрачивается повторно? И это лишь базовый набор вопросов, ответы на которые очевидно лежат не только в области непосредственно_литературы.
Этой теме был посвящен литературно-исследовательский модуль под руководством Ильи Данишевского, недавно состоявшийся в
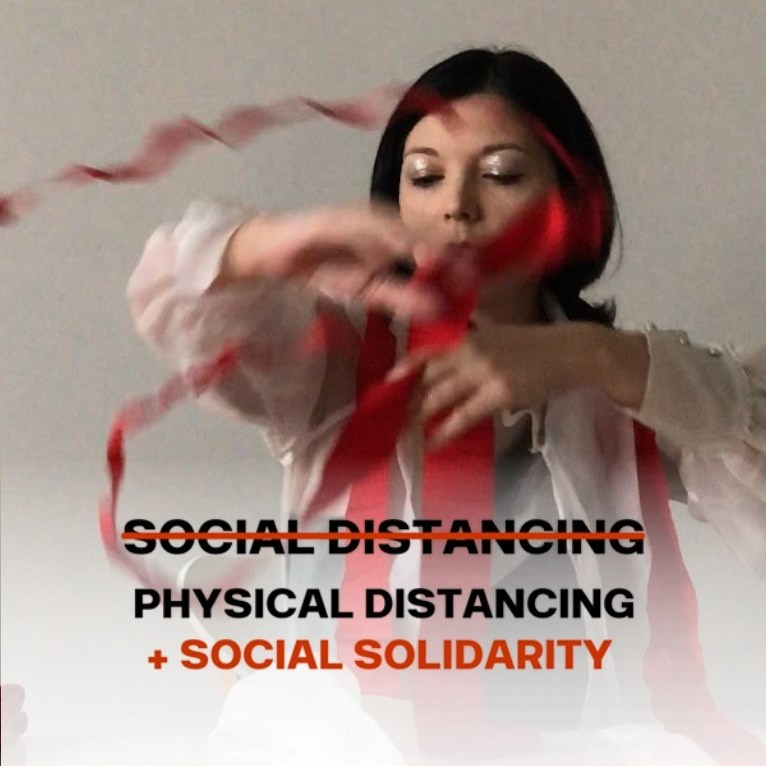
Дарья Апахончич: Мне хочется ответить на этот вопрос на примере нашего проекта «Сказки для девочек». Мы задумывали его как проект низовой и хотели собрать сюжеты про девочек с активными ролевыми моделями, без романтизации, без сексизма. И сначала к нам приходили сказки вполне канонические, с узнаваемыми сюжетными ходами, только девочки были в центре повествования. Но потом появлялись другие сказки, в центре которых уже не было соперничества, жертвы, подвига, а вместо них — сотрудничество, самопознание, созидание. И я поняла, что феминистская рефлексия влияет и на сюжеты, и на стиль, и на язык. Феминистские сказки всё ещё сказки, но в них есть стремление отойти от сказок с умными взрослыми и весёлыми мальчиками, которых поучают, чтобы вырастить себе смену. Только процесс появления этих новых феминистских сказок очень долгий и неоднородный, пока я не знаю, в какой мы точке.
Марина Исраилова: Думаю, что существование канона — проблема, которая не решается созданием другого канона. Хочется думать, что литературу станет возможно мыслить пространственно как-то иначе — не через «первые», «вторые» и т. д. ряды, а как ландшафт, в котором встречаются самые разные места и маршруты.
Ольга Русакова:Играть, как хочется. Создавать канон? Камон. Вопрос, конечно, прямо-таки провокационный (здесь будет моё женское «хих»). Нужно ли создавать — кому? — мужчинам со/з/а/дать женщинам; женщинам со/з/а/дать женщинам; всем [да не
>> женщины
>> займут своё место
внутри БОЛЬШ
-ОГО
КАН
-ОНА!
(здесь будет моё женское «мяу»)
Понятно, что на эти вопросы можно отвечать с позиции автор (ки/а)-[1] / читател (ьницы/я)-[2] редактор (ки/а)-[3]. В отношениях [текст][1]<—>[2] проводни (цей/ком) / медиатор (кой/ом) между может выступать и [3] [через подсвечивание, редакторское комментирование], и сам (а) [1] [через формирование авторского канала или системы каналов, автокомментирование], и сам (а) [2] [через выстраивание опыта прочтения в меньшей мере под влиянием комментариев]. И, конечно, это скорее будут более сложные сплетения [еще множества] позиций, отношений и «комментариев», не сводимые к [текст][1]<—>[2]. Эти сплетения, диверсификация, децентрализация […] [замечание]
Мне не хотелось бы, чтобы те женщины [и не только женщины], которые не прошиты «каноно-чувствительным восприятием» текста, отказывались от культивации своей тексто-чувствительности (в том числе инструментализируя какие-то из конвенциональностей; обращение к канону как возможность), отказывали себе в удовольствии от
Именно это и может представлять особый интерес: какая [в первую очередь внутренняя] [контр-]дисциплина и какой опыт / запрос стоит за написанием конкретных [текста и текстов], с чем «вовне» это синхронизируется / коррелирует / сверяется; и что именно отзывается «во мне».
Елена Фофанова: Очень сложно выражаться в такой терминологии, сложно, потому что постоянно думаешь о том, что никакого большого канона уже нет, да, нас учат ему в школе, но настаивание на нём, даже в рамках «разрушения», лишь консервирует возможность нахождения других голосов. Альтернативные каноны есть уже сейчас, их очень много, нужно постоянно улавливать множество, а не выстраивать четкие линии.
Современная литература в целом сдвинулась от героического к повседневному напряжению внимания, эмпатии, собственной пластичности.
2) Исчезнет ли вообще необходимость использования таких маркеров, как «женская литература», «квир-литература», «гей-литература» и т.д. в идеальном мире? Стремится ли к этому малая литература и, в частности, женская литература, есть ли у неё такая задача?
АМ: Мне кажется, что нет женской литературы, есть литература, написанная женщинами. Способ чтения, вероятно, изменится: при чтении мы учимся перемещаться не только территориально, этнически, но и гендерно. Это способность чтения не по принципу отождествления, но как эмпатическое проникновение в иной опыт. Вроде это и есть самое интересное — из какого опыта написана книга, особенно когда это радикально другая жизнь, какой у меня никогда не будет.

ЕР: Этот вопрос напомнил мне о кейсе с «black lives matter» и «all lives matter». Исчезнет ли в будущем необходимость обозначать цвет жизней, имеющих значение? Произойдет ли в идеальном мире некое чудесное слияние всех в all? Сомневаюсь.
Другое дело, что маркеры со временем, вероятно, изменят свою смысловую нагрузку. То есть, говоря языком психоанализа, будут отсылать уже к другим означающим.
ДА: Думаю, этот вопрос всем читательницам-феминисткам напоминает многочисленные вопросы о феминитивах, о женских пространствах, о премиях и вообще любых пометках «женское». Я бы сказала: да, это необходимо сейчас, потому что мы всё ещё в патриархате, который присваивает наши достижения, стирает нас. А ещё потому, что такие маркеры помогают читательницам найти свои книги. Что будет в будущем? Возможно, случится глобальная смена фокуса, и такая литература перестанет считаться «малой».
МИ: Надеюсь, что да. Такие маркеры видятся, скорее, как упрощающие ловушки. Очень хочется не попадаться ни в одну. Но мне сложно судить о реальном положении вещей: вероятно, у тех, кто делает малую литературу, есть причины утвердить определенные идентичности, и эту задачу — активистскую, в сущности, — я понимаю.
Мне интереснее другое измерение политического, которое я вижу в искусстве и письме — предъявление «внутренней политики», процессов субъективации, обещающих становление «вообще другими».
ОР: Мне важнее [«общих задач женской литературы»] агентность каждой из
Идеальный мир — мир свободного времени, экстатичности, множественности человеческой проявленности; мир, где фантазматическое / мифологическое / символическое не предопределяется полом / гендером / сексуальностью (то есть внутри опыта представителей одной конфигурации пол+гендер+сексуальность возможна сверх-вариативность и
3) Чем, по вашему мнению, отличается женское и феминистское письмо от той литературы, которая была сформирована в основном мужчинами? Можно ли выделить какие-либо характерные особенности такой литературы — на уровне формы, тем, образов?
АМ: Мне кажется, женская литература предлагает другую мерность в смысле «разрешения экрана», пикселей больше. В экспериментальном письме я вижу влияние феминистского письма на всех. Это своего рода феминизация письма, и это ожидаемо: если вся парадигма смещается в область «метафизически женского», удаляется от волевого субъекта, который знает, как надо, то феминизация как появление новых тем и приемов неизбежна.
ДА: Не скажу ничего оригинального: наверное, властью. Тяжело читать тексты, которые участвуют в укреплении патриархата, госпатриархата, империализма и т.д. Тяжело — и чувствуешь давление, втыкающее тебя в иерархию, усаживающееся на тебе сверху. В женских текстах это, увы, тоже бывает, но глобальный проект уходит от этого.
МИ: Я думала недавно об этом, перечитывая в очередной раз книжку Барта «Как жить вместе» — для меня это женское письмо абсолютно. То ли у меня нет компетенций, чтобы мыслить такими общностями, то ли гомосексуальность Барта его феминизирует, то ли я не могу увидеть общности, но я не могу определить, что такое женское/фем письмо в целом. Когда встречаю отдельные тексты, это случается.

ОР:Сначала хотела свести эти вопросы к вопросу об отличии «женского» (и феминистского — не приравнивая их) опыта от «мужского» (и фалологоцентричного — не приравнивая их) опыта.
какие эффекты обнаруживает в себе конкретн (ая/ый) автор (-ка)
компенсаторное
настаивание на
терапевтическое
проработка травмы
процессуальное
развертывание
владелица сетей из точки видимости
и ~отсутствие:
ЕФ: Мне часто кажется, что многое из того, что называется «феминисткой литературой» крутится вокруг темы секса, сексуальности, и это, собственно, логично, ведь авторки пытаются переприсвоить себе дискурс сексуальности, в котором у женщин, скажем так, не было дискурсивности. Однако мне нравится думать о том, что там есть и другие темы, которые не воспринимаются автоматически как «женские».
4) Интересно услышать подробнее о политической функции фем-литературы — тексты и вечера в поддержку сестер Хачатурян, Юлии Цветковой, другие акции и тексты — как в конечном счете это работает и какие изменения, которые можно связать с эффектом от тех или иных литературных практик, вы наблюдаете вокруг?
АМ: С делом Хачатурян удалось, на мой взгляд, осмыслить и продемонстрировать прямую связь семейного насилия с полицейским и с государственным насилием. Удалось сделать видимым недемонстрируемое раскручивание повседневных ситуаций агрессии. Очень много сказано, продумано и написано в жанрах права, статистики, психологии. Феминистская группа в парламенте и активистки научились работать вместе, и это пока уникальный случай такой организации. У Юли Цветковой красивый паблик, и его посмотрели множество людей. Можно надеяться, что женская сексуальность стала более осознанной, и впереди у наших соотечественниц и соотечественников более интересная сексуальная жизнь. Ну и сломалась граница между центром и периферией, Комсомольск стал центром внимания многих. Тут «не москва» состоялась.
ДА: Мне сложно ответить на этот вопрос, у меня есть ощущение, что я нахожусь внутри активистского пузыря, и сложно понять, насколько такие тексты влияют на мир. Но хочу рассказать одну небольшую историю. Этим летом участвовала в перформансе в поддержку сестёр Хачатурян. Тогда на набережной мы раскатали семнадцатиметровый рулон с моим стихотворением «Это дорожка, ведущая к океану крови». Меня арестовали и судили за этот перформанс, на суде помощница судьи включила видео с акции и зачитала текст вслух. И пока она читала, все молчали, и после чтения повисла тишина. Мне показалось, что это было здорово. Не знаю, изменилось ли отношение этой помощницы к сёстрам Хачатурян и к современному искусству, но эту маленькую тишину я запомню.

МИ: Для меня это связано с более широким контекстом, который можно описать как политизацию художественной сферы в целом, когда различные территории искусства (театр, поэзия, совриск) оказываются чувствительными к политическим процессам. Выставки в поддержку политзаключенных, документальные спектакли, читки писем и т. д. И также это связано с вниманием к материальной стороне письма (и прагматикой художественного дискурса, которую пристально изучает круг авторов журнала Транслит уже достаточно давно). Сращение политики, этики и эстетики в таких практиках мне кажется симптомом нашего времени, хотя мне интереснее другое измерение политического, которое я вижу в искусстве и письме — предъявление «внутренней политики», процессов субъективации, обещающих становление «вообще другими».
ОР: вовне: повышение уровня осведомленности [в тч об этих делах], формулировка и артикуляция политических требований (не-свободное от магического настаивание на способах осмысления этих событий)
внутри: дискурсивно-аффективное наращивание протестного / контр-культурного потенциала (через эмпатическое присоединение [и солидаризацию], обмен протоколами и взаимное поглаживание)
Могу ли я «наблюдать эффекты вокруг»? Точнее, что это такое, «наблюдать эффекты вокруг»? И «вокруг» — это где именно?
На что я обращаю внимание и куда я смотрю?
Из чего вылеплен и вылепляется мой оптический аппарат?
ЕФ: Для меня это очень сложный вопрос, ведь мы сразу начинаем говорить об активисткой литературе (и да, вы перечисляете политические кейсы, связанные не только с феминизмом). Почему сложно? Потому что кажется, что это всегда скучно, всё выстроено из лозунгов, каких-то ультимативных фраз, особом акценте на насилии. Всё это имеет место быть, и я ни в коем случае не хочу сказать, что это не литература, просто кажется, что это упрощение, которое мне неинтересно.
5) Литература, написанная женщинами, традиционно связывалась с различными (малыми) жанровыми формами — например, эпистолярной или дневниковой. Это было во многом, кажется, обусловлено тем, что женщинам был закрыт доступ в большую литературу. Развиваются ли эти жанры сегодня? Как вообще женская литература может мыслить свою генеалогию на уровне литературных форм?
АМ: Литературные формы в целом сдвинулись к «интимным» видам письма. Выработанные в дневниках формы вышли в разные жанры. Женщины были вынуждены заниматься интроспекцией, изобретать ненасильственные способы общения, тренироваться в понимании, сейчас это литературный мэйнстрим.
ДА: Мне хочется поднять вопрос не только о доступе к большой литературе, не только о клубе, в который не пускали женщин, но и о временном ресурсе. Чтобы написать большой роман, нужно много времени, нужно разрешить себе провести это время в творчестве, не занимаясь обслуживанием, не испытывая вины за то, что не обслуживаешь. Кажется, маленьким женским текстам проще появиться на свет (я часто вспоминаю Астрид Линдгрен, которая записала историю Пеппи, когда сломала ногу и лежала в постели. Хотя Астрид занималась литературой, редактурой, у неё был и язык, и навыки, но вот времени для собственного творчества не было). Кажется, в России мы все ещё на этом этапе: огромное количество женщин не имеет собственного письменного стола, у них нет своего времени и нет уверенности в том, что они имеют право на творчество. Так что пока, я думаю, малые формы будут важны, будут активно развиваться, потому что большая форма всё ещё широко не доступна.
Меня арестовали и судили за этот перформанс, на суде помощница судьи включила видео с акции и зачитала текст вслух. И пока она читала, все молчали и после чтения повисла тишина.
МИ: Мемуары, дневники и письма — едва ли не самые интересные формы для меня. И визионерские и интимные, и исследовательские и документальные, и художественные… Мне кажется, тут такие жанровые и дисциплинарные перекрестья, такие возможности для переизобретения всего, что я только за. Про генеалогию мне сложно ответить — понятно только, что она принципиально гетерогенна.
ЕФ: Я уже сказала о том, что женская, феминисткая литература пытается переприсвоить тему сексуальности, и ведь это не единственная тема, через которую происходит эмансипация. Есть вообще огромный пласт «женских» тем, которые сейчас рассматриваются не как
ОР:/ фан фэкт: большинству мужчин был закрыт доступ в большую литературу /
// и это важно в данном контексте с точки зрения как минимум интерсекционального и классового подхода и [как максимум?] //
Внимательность к повседневности,
и поскольку
но что такое не-[только]объективирующая внимательность? Это не только признание [на деле проявляющееся в сложноустроенной и «чувствительной к» микро-политике] субъектности участни (ц/ков), разделяющих с тобой пространство-время-процессы, это и вовлеченность [не-пренебрежение]
адресное-индивидуальное эпистолярное
обращенное-внутрь-себя дневниковое
как отражение тенденции результат —> процесс

6) Говоря о малой литературе, мы часто касаемся вопроса об ускользании и противостоянии «большому языку», о его подрыве — есть ли какой-то интересный пример такой работы из вашей личной практики или из приемов других авторок, которым могли бы поделиться?
АМ: Я не вижу ускользания, но вижу скорее перекраивание поля таким самоочевидным предъявлением другого видения. Галя Рымбу и весь круг ф-письма не ускользает. В философии тоже приходят другие типы мышления, которые в своем генезисе были феминистскими. Сейчас это философия практик (Сачман, Харауэй, Барад, Мол), экология, теория аффекта и эмоций.
ЕР: Тексты художественного дуэта «Добро пожаловать в кукольный дом» (Ульяна Быченкова и Жанна Долгова). Наиболее выразительный пример из собственной практики — «Марсель».
МИ: Так как я чаще читаю критические и теоретические тексты, чем художественные, то у меня и пример всплывает из области такого письма — тексты Леси Пропокенко (стоит оговорить, что в ее случае эта граница — теоретического и художественного — тоже размыта, но функционируют ее тексты все же в исследовательском контексте). Ее письмо важно тем, что отменяет само деление на «большое» и «малое», «иерархичные отношения с миром», уходит от логики противостояния чему бы то ни было, освобождает от необходимости борьбы.
https://intermodalterminal.info/exit-colony
https://syg.ma/@lesia-prokopenko/vnie-izma
ОР: Противостою ли я «большому языку», отвечая на эти вопросы?
7) Если женское письмо и литература — это другое письмо и другая литература, то что вообще можно назвать литературой? Известный консервативный литературовед Гарольд Блум, определяя литературу, предлагает ориентироваться на некое основание в виде классических текстов — Данте, Шекспир и так далее. Если мы убираем это основание, то как отличить литературу от
АМ: Ложная постановка вопроса, наверное, охранительная.
ДА: Литература (для меня) — это то, что написано словами, что проговаривает чужую историю, чтобы мы могли увидеть её как свою, удивиться, обрадоваться или разозлиться
МИ: Может быть, от этих цеховых/дисциплинарных рамок и стоит отказаться, просто различать разное письмо внутри письма вообще? Мне нравится такой вариант.
ОР: Очень интересный вопрос.
ЕФ: Тут у меня ответ, наоборот, очень простой: литературой может быть, что угодно, что угодно, что мы считаем ей, не вижу тут особой проблемы.

8) Часто возникает проблема соотнесения себя с субъектом письма, за спиной у которого есть опыт угнетения, принадлежности к той или иной малой группе. Есть, например, недавний кейс спора Дмитрия Кузьмина с Рамилем Ниязовым по поводу дилеммы «иракского интеллектуала» после публикации эссе Рамиля на «Стенограмме» — кажется, в этом споре практически невозможно принять чью-то точку зрения, не имея соответствующего опыта, так же как не всегда понятно, как критически подходить к женскому письму, не являясь женщиной — что вы думаете об этом?
АМ: Если культуру не травмировать, то она вырастает во множество критических и кретивных подходов, интеллектуалы получают возможность «качать лодку» культурного кода. Для внутренней критики и самоосознавания должен быть ресурс. На постсоветских территориях еще нет ресурса перепродумать советское, видят только бинарные оппозиции Засталина и ГУЛАГ. Интеллектуал — не про поиск правильной стороны оппозиции, а скорее про различение в неосознаваемом. В феминизме такой ресурс был в США с 70-х после ряда побед. В России он тоже уже есть, но не все готовы через это проходить, скандалы пугают. Скандалы и полемика внутри движения появляются, только когда оно активно и массово. У Кузьмина моральная позиция, и ее, секретно, хочется разделить, но она опирается на традиционный субъектоцентризм, типа «давай, должен». Это игнорирование действительной сложности работы изменения культурного кода вообще, но особенно в условиях закрытых и репрессивных культурных зон.
МИ: Я не определяю себя женщиной, просто не знаю, как это, но могу подключиться к переживанию женского. Оставляя границу значимой. Вероятно, это может работать и с другими идентичностными опытами. Универсализация «женского» мне кажется проблематичной, как и универсализация «феминистского», кстати.
ОР:«Женская тайна».
ЕФ: Если выражаться языком данного опросника, то мне всегда как будто было немного смешно, когда я читала о субъектном опыте девушек, написанном мужчинами из большого канона, классической литературы. И тут, конечно, очень влияет то, что тогда опыт гендерной социализации, чувственный опыт, прорастающий на этом, был очень разный и закрытый для других групп. Поэтому хочется не то чтобы выкинуть это из литературы, но точно критически прочитывать. Как именно? Вопрос очень широкий. Думаю, тут особенно важны исторические работы.
9) Последний вопрос связан с визуальным в литературе — новые медиа, соцсети и другие цифровые площадки для онлайн-публикаций открывают широкие возможности для иллюстрирования текстов, их интеграции в визуальные материалы, создания интерактивного контента, инфографики и т.д. (как пример — недавняя подборка Софии Амировой на
АМ: Мультимедийность — это особенность нашего времени, и мы видим, как визуальность, сонорность, тактильность и даже 3D-моделирование входят в литературу. И еще это важно для осознанности и убедительности культурных практик. Поэты не слушают музыкантов, музыканты не ходят на выставки. Но именно диалог с теми, кто занят поиском современных культурных форм, несколько в другой (но того же времени и тех же задач) сфере, делает возможным перевод, обмен и утрамбовывание, тестирование.
ЕФ: Я не думаю, что это действительно является новым для литературы. Нарративность живописи и иконы вообще заменяла историю тем, кто не мог читать, иллюстрация занимала важное место в оформлении книг, порой художник был «важнее», чем писатель. А чего стоит возникновение комикса. И это только первое, что приходит в голову. Да, некоторые методы в связи с дигитализацией меняются, однако я не чувствую осязаемого видоизменения литературного процесса сейчас.
МИ: Да, это очень увлекательно. Такие визуализации настаивают на том, что любой текст — это театр, спектакль (одна из моих любимых мыслей), это спектакль мышления. Разворачивается мысль, выстраиваются мизансцены, строчки оперсонаживаются, классические драматические структуры делегируются различным местам в тексте. Я так читаю с детства, и сейчас мне стало проще это делать в некоторых случаях. Экран монитора, в отличие от книжной страницы, конечно, не плоский, он глубокий, как сценическая коробка. И вот теперь у нас все больше возможностей для ее декора.
ОР:
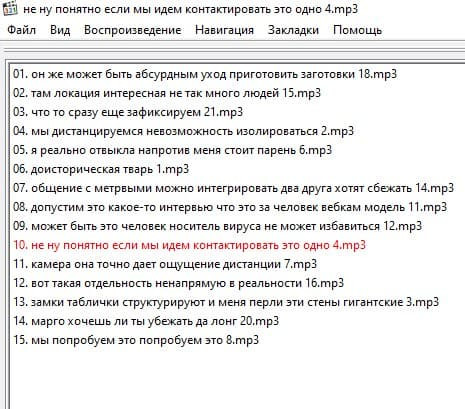
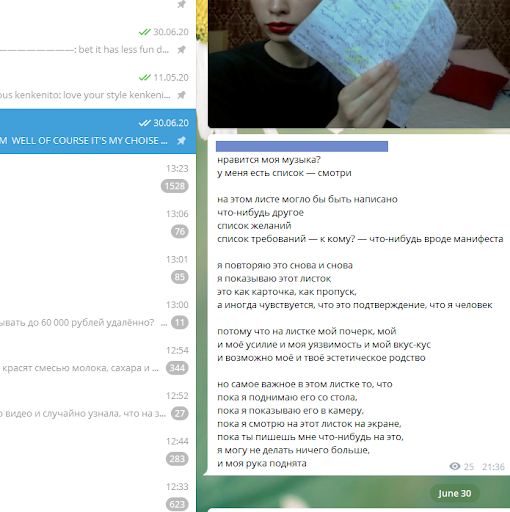
Анна Родионова: Мне интересен потенциал альтернативных ходов, который есть у женского письма, — как эстетических, так и эпистемологических или политических. Если мы говорим о письме, которое создавалось чаще всего вне большой литературы или в виде исключения — на ее маргиналиях, то это прежде всего совершенно другой подход к тому, как
Может быть,
Еще я думаю, что в так называемой малой литературе и женском письме есть имплицитно заложенная критика самой литературы как сконструированной, кондициональной литературности (термин Женетта). Рядом с невписывающимися в канон примерами такой литературы становится отчетливо видно, как именно собран сам канон и где расположены его пустоты. Это может помочь изменить отношение к нему, в том числе — расширить или придумать заново.
Но и канон, и женское письмо не универсальны: на мой взгляд, здесь есть историческая относительность. Понятие écriture féminine, которое сформулировала Элен Сиксу, имеет
Например, понятие «морфо-логики», которое в 1990-х вводит Люс Иригарей, тоже предлагает связь с практиками и особенно с практиками тела, которое, как она считает, можно писать и которым можно мыслить наравне со словами. Отчасти близкий взгляд у Карен Барад, которая тоже говорит о практиках «материально-дискурсивных», в которых эмансипаторный потенциал письма закономерно расширен в область современного понимания материальности. Письмо становится «нерепрезентационалистским», нелингвистически перформативным. Это ответ Барад на критику репрезентации в современной мысли. Дискурсивные практики здесь воспринимаются не как способ описания мира, но как часть мира, которая не может претендовать на репрезентацию предсуществующих вещей и всегда включена в ряд других процессов.

В современном русскоязычном контексте мне кажутся интересными в этой связи тексты (и аудиозаписи) Инны Краснопер, письмо которой настолько процессуально и перформативно, насколько же внимательно к материальности самого языка. У нее конкретность «соседних» относительно письма практик (таких, как танец или декламация) состыковывается с конкретностью фонетико-морфологической поверхности языка.
Что касается меня, то я с интересом отношусь к тенденциям, о которых написала выше, но, когда говорю о своем методе, имею в виду скорее запись, чем письмо. Запись, как мне кажется, не претендует на особый языковой доступ к вещам, но работает с материальностью выражения, будучи способом регистрации сенсорных и концептуальных данных посредством языка, что для меня тоже вид практики.
В шапке статьи фотография Анастасии Малыгиной.
