Маркс/Штирнер: анархеология стихий упразднения
Автор: Евгений Кучинов
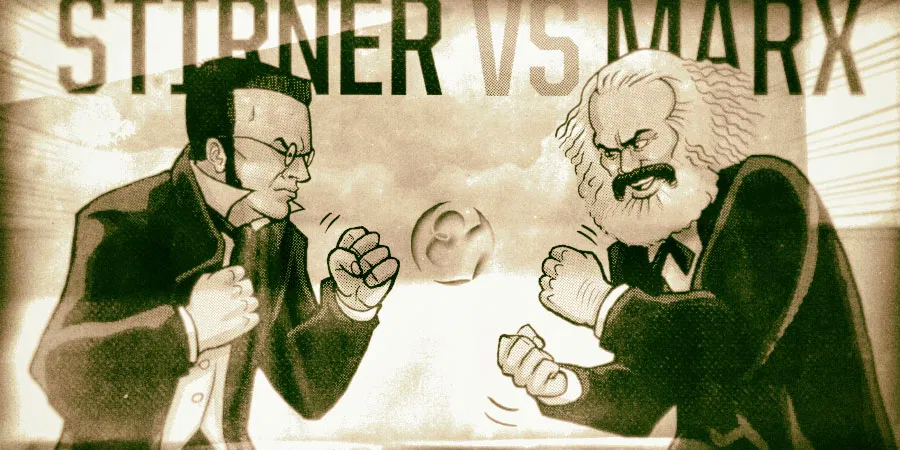
Аннотация
Место политики, на котором она расположилась благодаря (Аристотелю, Гоббсу и) Марксу, становится локусом тщательных анархеологических раскопок с целью высвобождения стихий и утопий, отмеченных именем «Штирнер». Их, по меньшей мере, три: анархия (восстание), безродность (эгоизм), беззаконие (союз). С этой целью между «Штирнером» и Марксом проводится линия одностороннего различения, позволяющая совершить раскавычивание Штирнера. Смысл этой процедуры — в выявлении условий складывания исторического материализма и обнаружении дремлющих сил, которыми он оказывается населен, но с которыми нет возможности совладать.
В продолжение жеста онтологической анархии, произведенного Райнером Шюрманом, разворачиваются контуры онтологических программ материализма стихий и утопического материализма, находящихся по ту сторону материализма исторического и составляющих для него ряд нерешаемых проблем. Материализм стихий предполагает концептуализацию начал без начальства (без повеления), тогда как утопический материализм обращен к изменениям без закона (концам без учреждений). В превратном виде два эти материализма представлены в историческом материализме (стихийный материализм и утопический социализм).
Наконец, производится анархеологическое смещение исходного места политики и его концептуальный захват силами упразднения.
0. В генезисе марксистской мысли присутствует курьез (ein Kuriosum, так уже после смерти Маркса назовет интересующую нас загвоздку Энгельс), в стремлении справиться и свести счеты с которым задействуется непомерный арсенал инструментов и сил — либо потрясающе обширный, либо пренебрежительно скупой. Если довериться Альтюссеру, нужно будет расположить эту курьезную встречу на пути к континенту Истории, который Маркс «открыл в результате “эпистемологического разрыва”, первая фаза которого, заявленная в XI Тезисе, потом запечатлелась в “Немецкой идеологии”» (Альтюссер 2005: 33). Именно на пути, а не на самóм континенте. Это обстоятельство делает встречу двусмысленной: с одной стороны, она (равно как и встречаемое в ней) еще не принадлежит Истории, с другой — неотступно преследует первопроходцев и идущих вослед, влияя на траекторию их движения — уже на самóм открытом континенте. Такова двойственность любого курьеза, он повторяется дважды: первый раз как (вызывающая непомерное любопытство) аномалия, второй — как несуразность (которой можно, но не получается пренебречь).
Имя этого курьеза — «Штирнер» (так — в кавычках — он фигурирует в «Немецкой идеологии»). Именно «Штирнера» мы рассмотрим как элемент, который включается в качестве исключенного в работу исторического материализма, производя свои собственные эффекты, ставящие, в свою очередь, кавычки под вопрос и вынуждающие говорить уже о Штирнере.
Не преувеличение ли это? Что именует «Штирнер»? Чем обязана «Штирнеру» марксистская мысль и можно ли «Штирнера» из нее вытравить?
Помимо указания на «ложность» имени, за которым скрывается Иоганн Каспар Шмидт, «Штирнер» именует ситуацию в философии, о которой Энгельс 19 ноября 1844 года (то есть через считанные дни после поступления «Der Einzige und sein Eigentum» в продажу) пишет Марксу: «Этот эгоизм есть только осознавшая себя сущность современного общества и современного человека, последний аргумент современного общества против нас, кульминационный пункт всякой теории в пределах существующей нелепости» (Энгельс 1962а: 11; курсив мой — Е.К.). Ее можно было бы истолковать как поспешную, если бы эта весьма высокая оценка не подтверждалась местом, уготованным «Штирнеру» в «Немецкой идеологии», произведении, которое «по большей части направлено против Штирнера и представляет собой самую ожесточенную полемику по мельчайшим вопросам — такую полемику, в которую Маркс и Энгельс больше не вступали ни с кем из мыслителей» (Слотердайк 2009: 166–167). В том же письме, называя «Штирнера» штукой, имеющей большое значение (das Ding aber wichtig), Энгельс продолжает:
Мы не должны отбрасывать ее в сторону, а наоборот, скорее использовать как наиболее полное выражение существующей нелепости и, перевернув ее, строить на этой основе дальше. Этот эгоизм доведен до такой крайности, до того нелеп и в то же время столь осознан, что в своей односторонности он не может удержаться ни одного мгновения и должен тотчас же превратиться в коммунизм. Во-первых, нет ничего легче, как доказать Шт[ирнеру], что его эгоистические люди просто из эгоистических побуждений неизбежно должны стать коммунистами. Вот что надо ему возразить. Во-вторых, нужно ему сказать, что человеческое сердце прежде всего, непосредственно является, именно в силу своего эгоизма, бескорыстным и способным на жертвы и что он, таким образом, возвращается к тому, на что нападает. С помощью таких тривиальностей можно опровергнуть его односторонность. Но мы должны воспринять и то, что в этом принципе является верным. А верно в нем во всяком случае то, что если мы хотим чем-то помочь какому-нибудь делу, оно должно сперва стать нашим собственным, эгоистическим делом, — что, следовательно, мы в этом смысле, даже помимо каких-либо материальных чаяний, просто из эгоистических побуждений, являемся коммунистами и именно из эгоистических побуждений хотим быть людьми, а не только индивидами (Энгельс 1962а: 11–12).
К этому важному фрагменту мы еще будем возвращаться. Пока же предварительно расставим акценты: «Штирнер» объявлен основой, которая, будучи перевернута, должна стать фундаментом для дальнейшего строительства теории исторического материализма и борьбы за коммунизм; эгоизм не только неизбежно станет коммунизмом, но этот последний уже является эгоистическим побуждением. Иными словами, «Штирнер» обозначен как то, от чего отталкивается, но что в переработанном виде должна нести в себе будущая теория и практика, «Штирнер» должен быть отброшен как образец «существующей нелепости», но вместе с тем слеплен заново за ее пределами. Можно сказать, что в этих акцентах в сжатом виде заявлена программа «Немецкой идеологии»: перевернуть «Штирнера» с головы на ноги и преодолеть его односторонность — в этом и состоит первая фаза «эпистемологического разрыва», в результате которого (только и) будет, согласно Альтюссеру, открыт континент Истории.
Этот разрыв, состоявшись, правда, по более позднему вердикту Маркса, лишь с тем, чтобы «в сущности свести счеты с <…> прежней философской совестью» и достигнуть цели «уяснения дела самим себе» (Маркс 1959: 8), вызвал, согласно Альтюссеру же, эффект «длительного философского вакуума», «долгого философского молчания» (Альтюссер 2005: 27–28), нарушенного лишь в философских главах «Анти-Дюринга» (1877). Для нас, однако, важен другой текст Энгельса времен прерванного философского молчания, написанный уже после смерти Маркса, «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» (1888), где, перечисляя скудные плоды «философской почвы» в лице Штрауса и Бауэра, Энгельс выносит приговор, ставший для нас отправной точкой: «Штирнер остался простым курьезом даже после того, как Бакунин перемешал его с Прудоном и окрестил эту смесь “анархизмом”. Один Фейербах был выдающимся философом» (Энгельс 1961а: 300). Отметим, прежде всего, головокружительную перемену в характеристике Штирнера, произошедшую за 44 года — от «Шт[ирнер] прав, когда он отвергает “человека” Ф[ейербаха]» (Энгельс 1962а: 12) — к «простому курьезу» на фоне «выдающегося философа» [1]. В «Конце» важно также и то, что здесь Энгельс включает Штирнера в «анархистскую смесь» — тезис, который через несколько лет повторит, например, Плеханов в брошюре 1894 года «Анархизм и социализм»: «Макс Штирнер имеет <…> достаточно обоснованное право на титул “отца анархии” <…> именно он впервые “изложил” эту теорию» (Плеханов 1924: 24), тезис, который получит впоследствии чрезмерно широкое распространение. Наряду с архивными поисками Джона Маккея и его популяризацией идей Штирнера (на волне интереса к Ницше), а также обращением к Штирнеру со стороны таких американских анархистов как Джеймс Уокер и Бенджамин Такер, Энгельс инициировал внимание к Штирнеру как (прото)анархисту, включил его в историю анархизма (о трех путях (Такер, Маккей, Энгельс) «возвращения» Штирнера см.: Lobkowicz 1969; Riley 1972: 78). Эта попытка ретроактивного исключения Штирнера из генезиса марксистской и включения его в генезис другой мысли в качестве ее «пророка» (Энгельс 1961а: 280) представляет собой жест, удваивающий сам себя. С одной стороны, это окончательное сведение счетов со «Штирнером», но с другой — сведение счетов с тем сведением счетов, которое уже имело место в «Немецкой идеологии». Здесь происходит не только отказ от восприятия того, что в «Штирнере» является верным (отныне пусть это воспринимает анархизм), но и отказ, или по крайней мере ослабление того, что с избыточной страстью претендует на верное восприятие «Штирнера» в «Немецкой идеологии», объявленной (всего лишь) внутренним делом «философской совести» (уже в 1859 году, в предисловии «К критике политической экономии», см. выше).
Наше подозрение состоит в том, что этот расслаивающийся и удваивающий себя жест, во-первых, выражает внутреннюю неудачу самой марксистской теории, в рамках которой оказалось невозможным перевернуть и опровергнуть односторонность «Штирнера» [2]. Во-вторых, это сведение счетов (со сведением счетов) свидетельствует о деформации, половинчатости жеста, лежащего в основе эпистемологического разрыва и рывка к континенту Истории, ставя под вопрос его радикальность. Пусть перевернуто и в терминах едва ли уместной психологизации, рисунок этой деформации точно набросан Слотердайком: «уничтожая Штирнера и Бакунина, он [Маркс] в
Именно задачу раскавычивания мы попытаемся здесь решить, высвободив те силы, те стихии, которые блокированы или лучше сказать спят в марксизме [4]. Эта задача предполагает археологию (или, скорее, анархеологию) того жеста включающего исключения (заключения в кавычки), который лежит в начале, у истока марксистской мысли, на подступах к континенту Истории (да, нам придется, по рекомендации Беньямина, чесать историю против шерсти, расчесывая ее (в)плоть до костей и кишок). Мы намеренно используем слово «начало» вместе с «анархеологией», хотя может показаться, что это соседство неуместно (разве не должна анархеология искать безначалия, а начало устранять анархию и учреждать начальство?). Возможность «анархеологии начала» заключена в концепции онтологической анархии, которую разработал в 1982 году Райнер Шюрман, совершивший попытку разделения начала и повеления (начала и начальства) и достижения истока как простого прихода в присутствие — по ту сторону властной команды, без призыва и даже без зова (Schürmann 2013); анархеология ведет раскопки начала без повеления, начала без начал (ьств)а. Контуры такового намечаются уже в разбираемом курьезе, который функционирует как избыточествующее ничто, не схватываемое, с одной стороны, невоздержанным арсеналом «Немецкой идеологии», но и неуничтожаемое, с другой стороны, пренебрежением «Конца немецкой классической философии».
«Без Маркса — ничего, никакого будущего… [и тем не менее] …не станем скрывать — даже в совершенно неподходящий момент — мы принимаем всерьез оригинальность, отвагу и именно философско-политическую серьезность Штирнера, которого следовало бы прочесть и без Маркса или против Маркса…»
— Жак Деррида
1. Односторонний Штирнер
Задача, которую мы перед собой поставили, не может быть решена путем простого противопоставления Штирнера Марксу (или наоборот). Противопоставляя Маркса и Штирнера, часто совершают ошибку, заключающуюся в том, что исход этого противостояния видится в победе одной из сторон, а следовательно, необходимо принять сторону, сделать ставку — и победить. Так в заключении своей докторской диссертации «Индивидуальность и социальный организм: спор (Controversy) между Максом Штирнером и Карлом Марксом» (1972) Филип Б. Дематеис пишет: «В споре между Штирнером и Марксом победа обычно отдается Марксу <…> марксизм главенствует в современном мире, а штирнеризм — нет <…> Победа марксизма на практике, однако, находится в стороне от того, что в этих теориях есть истинного или ложного» (Dematteis 1976: 136). Далее, разумеется, он пробует развернуть теоретический реванш Штирнера. В совсем недавнем переиздании этой работы, летом 2019 года у нее характерным образом сменился заголовок: «Max Stirner Versus Karl Marx: Individuality and the Social Organism», а обложку украсили Штирнер и Маркс, стоящие друг напротив друга в боевых позах, готовые в драке выяснить, кто прав.
Презумпцией, стоящей за таким видением ситуации в философии, обозначенной выше как «Штирнер», является предположение о войне, историческом конфликте Маркса и Штирнера, об общем поле битвы. Однако, если справедливо то, что Маркс воевал со Штирнером, обратное — неверно. (Если у нас имеются причудливые ответы Штирнера на критику Гесса, Фейербаха, Фишера и Шелиги (Stirner 2012), то о Марксе и Энгельсе он, по понятным причинам, не говорит ни слова). Это обстоятельство нельзя недооценивать или оценивать образом, который предполагал бы необходимость защиты Штирнера, разыгрываемой, конечно, как самозащита в сослагательном наклонении, как (возможный) ответ Штирнера Марксу. Нам кажется, что в этом одностороннем конфликте нужно сохранить как раз его односторонность — и право Штирнера вообще ничего не отвечать Марксу, оставаясь безразличным к его требованиям. Это безразличие есть глухота к таким обвинениям «Немецкой идеологии», которые, согласно Делезу и Гваттари, «одни лишь профессора могут писать на полях» [5], к распоряжениям, главным из которых является императив: встань с головы на ноги; встань на твердую почву эмпирической истории, на реальную базу отношений промышленности и общения, связанных «с определенной формой общества и, тем самым, определенной формой государства, а стало быть, и с определенной формой религиозного сознания» (Маркс, Энгельс 1955: 140 — и почти на каждой странице). В конечном счете, односторонность Штирнера — это глухота к историческим закономерностям и взаимосвязям в их повелительном наклонении, и в этой глуши как раз может обнаружиться то, что мы ищем: начало без императива.
Итак, мы проводим линию одностороннего ((до)исторического) различения [6] между Марксом и Штирнером: Маркс отличает себя от Штирнера (начинает там, где заканчивает Штирнер), но Штирнер себя от Маркса не отличает (не заканчивается там, где начинает Маркс). Что это значит?
Забегая вперед (а только так в дальнейшем может двигаться наша мысль), скажем, что это означает неуместность штирнеровских идей в истории материализма, однако нельзя сказать и того, что Штирнер идеалист (как утверждают Маркс и Энгельс). Данная неуместность указывает на то, что Штирнер не вписывается лишь в историю материализма, которая провозглашена историческим материализмом. Поясним. Маркс и Энгельс начинают генеалогию своего материализма от атомизма Демокрита, объявляя предшествующие (и находящиеся в стороне) формы материализма стихийными. Этому разделению есть точный аналог в их исторической и политической мысли: все предшествующие формы социализма (которые не следуют по лекалам XI Тезиса) они объявляют утопическими. Таким образом, материализм Маркса и Энгельса противопоставлен, с одной стороны, стихийному материализму (предметом которого могут быть только стихии / элементы, но не атомы / индивиды [7]), а с другой — социальной утопии (в которой тоже видится недостаточно строгий, наивный материализм). Коротко: исторический материализм держится на отказе от стихии и утопии (точнее, он включает их в себя в качестве исключения). Раскавычивая «Штирнера» в порядке одностороннего различения между Штирнером и Марксом, мы указываем на возможность выявить материализмы, которые превратно вписываются в исторический материализм лишь как формы идеализма, — материализм стихий и утопический материализм. (Следует отметить, что для выявления этих материализмов необходимо будет не только раскавычить «Штирнера», но и присвоить Штирнера).
Сделаем несколько утверждений без подтверждения (в дальнейшем, следуя требованию академической основательности (как бы кто не прочитал наш текст как «одни лишь профессора могут»), мы постараемся подтверждения предоставить). Материализм стихий говорит о начале без начальства. Тогда как утопический материализм говорит об изменении без закона. Для того, чтобы развить две эти формы неисторического материализма, мы обратимся к концептуальной асимметрии «Единственного и его собственности» и «Немецкой идеологии».
Необходимо отметить также следующее. Есть еще одно важное основание для того, чтобы проводить между «Штирнером» и Марксом дикую линию одностороннего различения и рассматривать Штирнера в его односторонности. Дело в том, что сама логика занятия одной из сторон и победоносного переворачивания картины (с головы на ноги, с ног на голову и так далее) — это революционная логика, с которой Штирнер не может быть согласован, которой он противопоставляет логику восстания. Слова Энгельса о том, что Штирнера необходимо перевернуть (indem wir es umkehren), и опровергнуть его односторонность (die Einseitigkeit zurückweisen), намекают на концептуальную операцию, в которой односторонность преодолевается через переворот, революцию [8], то есть через смену места, в котором находится голова / глава (см. замечания Деррида относительно довольно навязчивого «вопроса о голове» у Маркса; Деррида 2006: 198) [9]. Однако, эта перестановка, постановка человека на ноги, головой кверху, предполагает не только правильное анатомическое положение головы (сверху), но и то, что только стоя на ногах, можно правильно мыслить, то есть только в таком положении голова впервые начинает действительно главенствовать. С этой точки зрения, ключевой вопрос марксизма — это вопрос (не об изменении, а) о том, кто возглавит изменение, и на что он будет опираться (точнее: в самой постановке вопроса изменение неотличимо от переворачивания, изменение возможно лишь как переворачивание) [10]. Это чревато массой двусмысленностей в истории пролетарских революций. Пролетариат, который ставится во главе, является также и ногами, на которых стоит революционное изменение, но это значит, что разделение между головой и ногами должно произойти уже внутри пролетариата, в нем должен выделиться авангард, партия, с одной стороны (со стороны головы), и «чернорабочий», босяк, масса — с другой (со стороны ног) [11]. Это разделение по-своему выводит на авансцену стихию массового восстания, которая описывается неизменно как начало, нуждающееся в повелении — в руководящей роли партии, в сознательности руководителей и т.д. [12]. Требования Маркса и Энгельса к Штирнеру, их императив «встань с головы на ноги!» держится на примечательной презумпции, согласно которой нельзя изменить мир, стоя на голове. Ниже мы покажем, что материализм Штирнера — это материализм, в котором эти требования бессмысленны, так как сама презумпция сомнительна. Здесь мы только приведем пример рассуждения Штирнера о революции.
Революция не была направлена против существующего вообще, а против существующего в данном случае, против чего-то определенного. Она уничтожала этого властелина, а не властелина вообще <…> До наших дней еще принцип революции остался при той же борьбе против того или иного существующего, то есть при реформаторстве. Но как бы много ни исправляли, как бы далеко ни шел «трезвый прогресс», всякий раз на место старого господина ставится новый господин, и ниспровержение — только перестройка (Штирнер 1994: 103).
Штирнер не только указывает на некоторые апофатические начала своего материализма, направленного «против существующего вообще», но и на место материализма исторического, который, как и его ставка, революция, в действительности ничего не меняет, кроме перестановки существующих элементов «чего-то определенного» (кроме постановки головы на место, во главе). Для Маркса и Энгельса уничтожение «властелина вообще» (то есть повеления как такового) есть сердцевина штирнеровского идеализма (см. ниже), которому они противопоставляют свой революционный материализм, изменение существующих отношений, изменение мира так, чтобы властелин в нем стал невозможен (XI Тезис). Для Штирнера, повторим, изменение возможно и тогда, когда голова не на месте [13] — и более того, изменение не может быть осуществлено через перестановку (насколько бы революционной она ни была), через перемену места главы, когда «на место старого господина ставится новый господин, и ниспровержение — только перестройка».
Революции Штирнер противопоставляет восстание:
Нельзя рассматривать революцию и восстание как однозначащие понятия. Революция заключается в разрушении порядков существующей организации или status’a, государства или общества, а поэтому она — политическое и социальное деяние; восстание же, хотя и ведет неотвратимо к разрушению современного строя, но исходит не из него, а из недовольства людей собою; оно — не открытое сопротивление, а восстание единичных личностей, возвышение, не считающееся с учреждениями, которые возникнут как его результат. Революция имела целью новые учреждения, восстание приводит нас к тому, чтобы мы не позволяли больше «устраивать» нас, а сами себя устраивали, и не возлагает блестящих надежд на «институты» (Штирнер 1994: 304).
Запомним это: восстание, в отличие от революции не только не учреждает новые институты, но и вообще «не считается с учреждениями»; разрушая строй, восстание не столько учреждает, сколько разучреждает. Мы должны предположить, что концепты Штирнера создаются как раз в логике восстания, то есть они не возникают в результате перемещения головы с места на место (что делают Маркс и Энгельс, производя материалистическую ревизию гегелевского идеализма), но являют собой «возвышение, не считающееся с учреждениями», не считающееся с результатом. Поэтому нельзя, перевернув Штирнера, опровергнуть его односторонность; его концепты непереворачиваемы, односторонни «по природе». В этом смысл одностороннего различения между Штирнером и Марксом: концепты первого не могут быть перевернуты и стать частью системы второго, не могут быть вписаны в (институциональное) революционное изменение; восстание не может быть учреждено, восстание нельзя возглавить.
Кроме того, для переворачивания противоположностей требуется контур, в котором переворот может быть осуществлен, требуется то третье, которое должно противоположности объединить. В этом смысле Энгельс пишет Марксу об «основе» для дальнейшего строительства, на которой обращаются друг в друга, сообщаются эгоизм и коммунизм, на которой переход одного в другое представляется как необходимый и неизбежный, на которой только и можно, перевернув его, поставить «Штирнера» с головы на ноги. Однако сам Штирнер упорно противится синтетической логике объединения и общения, противопоставляя ей нечто иное, а именно необходимость противоположности обострить (verschärft), чтобы третье (то есть любое учреждение) полностью растворилось, уступив место (то есть саму разметку мест) тому, что описывается как «конечная и самая резкая противоположность — противопоставление Единственного Единственному, [которое,] по существу, выходит за пределы того, что называется противоположностью, хотя и не возвращается назад к “единству” и “единению”» (Штирнер 1994: 196). В этом противопоставлении, обостренном по ту сторону противоположности, нет общества, невозможен (конструктивный, учреждающий) диалог, а значит, и диалектика. Здесь находится нерв первого пункта нашего подозрения: Маркс и Энгельс, оставаясь диалектическими, слишком диалектическими, стремясь использовать штуку по имени «Штирнер», не могут преуспеть именно в том, чтобы перевернуть и преодолеть ее односторонность, вернуть ее в диалектику, так как, с точки зрения односторонности этой штуки, требуется не обращение Штирнера в марксизм, а обострение противопоставления между ними (может показаться, что в «Немецкой идеологии» происходит именно обострение, однако, как точно отмечает Альфредо М. Бонанно, Марксу и Энгельсу совершенно неинтересен Штирнер, они озабочены лишь разработкой собственного диалектико-материалистического тезиса, повторяющегося на каждой странице: необходимо поставить Штирнера с головы на ноги, то есть правильно его «устроить», правильно им распорядиться (Bonanno 2004)).
Мы можем подытожить так: одностороннее обострение противоположности между Штирнером и Марксом будет иметь своим концептуальным следствием не включение первого в Историю, где только и может вестись тяжба о победе одной из сторон, не истолкование его в контексте исторического материализма и не разметка возможной истории восстаний или истории беззаконий. Однако следствием не станет также и исключение Штирнера из Истории в качестве «простого курьеза». Концептуальным следствием такого обострения станет одностороннее присвоение Истории Штирнером (такое присвоение превращает «Штирнера» в кошмар Маркса), станет обнаружение или даже, используем термин «Единственного и его собственности», возбуждение беззаконной истории, у которой голова не на месте. Эта история, в которой не действуют законы, в которой начало отделено от повеления, предполагает иной, также не включаемый в Историю и не исключаемый из нее, материализм, материализм стихий.
2. Начала без начальства: к материализму стихий
В «Единственном и его собственности» Штирнер только один раз говорит о диалектике, да и то лишь о «диалектической изворотливости» (dialektische Gewandtheit) исторически свойственной софистам, решившим, вопреки «отцам», «чувствовать себя» (sich zu fühlen) и вырваться
Саму диалектику можно перехитрить. Можно сделать это с помощью диалектики же.
В этом пункте нужно быть внимательным. Очень легко записать Штирнера в «невоздержанные гегельянцы», которые, даже преодолевая Гегеля, остаются, в сущности, диалектиками. Даже такой проницательный ум, как Жиль Делез, здесь оступается, слишком доверяя «Немецкой идеологии» и соглашаясь с Марксом в том, что «я» Штирнера — всего лишь абстракция, проекция буржуазного эгоизма. Открыв вопрос «кто?», открыв нигилизм как истину диалектики, «Штирнер — слишком диалектик, чтобы мыслить не в терминах собственности, отчуждения и реаппроприации. Но он слишком взыскателен, чтобы не видеть, куда ведет эта мысль — к “я”, которое есть ничто» (Делез 2003: 321). Однако, если даже согласиться с Делезом, то речь идет о ничто не в смысле пустоты (Leerheit), но о творческом ничто (Штирнер 1994: 9), если и говорится «я», то это никак не человеческое (и уж тем более не буржуазное) «я». И если Штирнер «слишком» взыскателен, то как понимать это излишествующее лихо, этот лихой излишек?
В центре внимания Штирнера проблема, которую, действительно, оставил после себя Гегель: можно ли превзойти саму диалектику, выйти за ее пределы, уничтожить ее? Эта проблема легко становится ловушкой, так как, кажется, все силы отрицания стянуты в диалектическом движении, и как любая попытка выйти и превзойти, так и любая форма согласия оставляют нас его заложниками. Однако, становясь такой ловушкой, диалектика ловит сама себя, ведь оказывается, что она не диалектична, ибо не может действительно стать недиалектикой (первая хитрость Штирнера: направить диалектику против ее собственного синтетического миролюбия, совпадения с самой собой). Вторая хитрость: противопоставление диалектике великана недиалектического Внешнего, которое целиком находится по ту сторону мысли, которое находится ниже уровня схватывания. Третья хитрость: остановка диалектики через абсолютное присвоение, которое не дает ничему ускользнуть вовне, встать выше собственника. Джейкоб Блюменфельд в своей недавней книге о Штирнере сосредотачивается именно на этой хитрости: «Я как собственник потребляю диалектику как свою собственность, растворяя все идеи и объекты в себе, до того, как они снова сбегут. Это растворение происходит в Я как Я. Но даже Я должно соотноситься со мной как чистое ничто, чтобы оно не могло сбежать во
Упоминание Фуко играет нам на руку еще и потому, что есть существенное сходство не только между этикой стоиков, которой занят автор «Герменевтики субъекта», и эгоистической этикой Штирнера [15], но и между онтологиями Стои и Единственного. Их можно соединить в «панпсихистской» [16] рубрике таких онтологий, у которых голова не на месте, то есть не (только) на (человеческих) плечах [17]. Вспомним,
Зенон говорит, что солнце, луна и все прочие звезды — это мыслящие и наделенные разумом существа. Они обладают огненной природой, так как содержат творческий огонь (πῦρ τεχνικόν). Ведь есть два вида огня: нетворческий (’άτεχνον), который превращает в себя свою пищу, и творческий, который умножает и сберегает все, присутствует в растениях и животных и, таким образом, является природой и душой (Столяров 1998: 61; курсив мой — Е.К.).
Творческий (буквально: технический) огонь стоиков, сдается нам, составляет рифму творческому ничто Штирнера, которое, однако, являет собой не столько мысль и разум, сколько стихию восстания. Для того, чтобы найти вход в онтологию Единственного, важно со всей серьезностью отнестись ко штирнеровской проблематизации не-человеческого, чудовищного (Unmensch) — того, что не укладывается в понятие человек, не может быть символизировано, и силы чего непрестанно разрушаются во имя Человека (Штирнер 1994: 122). Штирнер располагает на этом уровне как индивидуальное тело (свое тело он ласково называет «шкурой» (Haut), которую необходимо оберегать от мыслей, от любой символизации (Там же: 142) и которую он ставит в один ряд с животными), так и массы. Нечеловеческое не определяется им через отрицание человечности, но, скорее, через возможность восстать против Человека, против всего священного, всего именующего и обобщающего. В одном месте он пишет поразительные вещи про взрывные опасности, дремлющие в «нечеловечной массе, или толпе, противоположной человеку, — толпе нелюдей», которая, повернувшись сама к себе спиной (!), нашептывает себе о себе в среднем роде:
…Я было презренно, ибо искало мое «лучшее я» вне меня; я было нечеловеческим, ибо грезило о «человеческом»; я было подобно благочестивому, который жаждет найти свое истинное «я» и остается жалким «грешником»; я мыслило себя только по сравнению с
Нужно читать эти строки со всей возможной панпсихистской радикальностью. Говоря о толпах нелюдей, Штирнер не имеет в виду одни лишь массы «человеческой» черни (хотя, конечно, и их тоже), но вообще все живое, все недовольное и восстающее, all the way down. Нужно, вспомнив о необходимости обострять противоположности для вскрытия противопоставления Единственного Единственному, со всем возможным трепетом прочитать слова Штирнера о том, что
Цветок не следует призванию усовершенствовать себя, а между тем он употребляет все свои силы, чтобы как можно больше насладиться миром и использовать его, то есть он впитывает в себя столько соков из земли, столько лучей солнца, столько воздуха из эфира, сколько может получить и вместить в себя. Птица не живет согласно какому-нибудь призванию, но она пользуется, насколько может, своими силами: она ловит жуков и поет, сколько ей хочется (Там же: 314).
— И для нас не станут неожиданными слова, которые предпослал своему недавнему переводу «Der Einzige und sein Eigentum» на английский язык Волфи Ландстрайхер: «в “Единственном” нет ничего человеческого. Каждое животное, дерево, скала и т. д. для самих себя также Единственные — со своей особенной собственностью, особенным миром, который расширяется настолько, насколько возможно» (Landstreicher, 2017: 17–18). Именно здесь располагается исток хитрости природы, подрывающей диалектику, хитрости, состоящей, прежде всего, в том, что в качестве обобщения и фиксированного закона природы не существует (прямо эту мысль в последствии выскажут внимательно изучившие и изобретательно присвоившие Штирнера пананархисты Братья Гордины, к которым мы еще обратимся). Вместо природы Штирнер видит массы, стихии, которые ничего не желают признавать над собой, и которые могут восстать. Однако почему не восстают? Короткий ответ Штирнера гласит: «с тех пор, как появился в мире дух, с тех пор, как “слово стало плотью”, с тех пор мир преобразился в дух, с тех пор он заколдован и сделался призраком» (Штирнер 1994: 34). Но что такое призрак и как с ним бороться? Через эти вопросы мы продвигаемся к асимметрии (панпсихического) материализма стихий и исторического материализма.
Для Маркса и Энгельса импульс (недиалектического) присвоения диалектики остался и нераспознанным, и чуждым [19]. В «Немецкой идеологии» они постоянно выставляют «Штирнера» «плохим диалектиком», который бегло и слепо списывает у Гегеля, шьет из обрывков его мысли свое рассуждение, использует его как всеобщую шпаргалку, а «эгоист» у них «превращается в “беспомощного” копировщика Гегеля», «и всё его ничтожное творчество ограничивается тем, что в своей копии гегелевской идеологии он обнаруживает незнание даже копируемого оригинала» (Маркс, Энгельс 1955: 157, 172). Иными словами, Штирнер извращает Гегеля, тогда как задача состоит в том, чтобы его перевернуть. Маркс и Энгельс совершают эту революцию, но, оставаясь хорошими учениками Гегеля, не восстают и остаются диалектиками. Диалектика не сходит с рельсов, напротив, всё встаёт на диалектические рельсы (что особенно заметно в поздних работах Энгельса). Всё, включая «Штирнера», беспощадное уничтожение которого в «Немецкой идеологии», позволило, в числе прочего, состояться историческому материализму. Ведь процедура, которую предлагает и проделывает Штирнер, борьба с призраками, потребление и растворение абстракций, критика идеологии, является лишь преддверием реальных преобразований, которые представляют собой уже не борьбу с призраками, но изменение самих материальных условий — так, что призракам уже не находится места. Образ тела императора плотнее и лаконичнее всего предъявляет предварительный характер штирнеровской критики и ее значение для исторического материализма:
Муж, который в бытность свою юношей набил себе голову всяким вздором о господствующих силах и отношениях, какими, например, являются император, отечество, государство и т. п., — причём он знал о них только в форме своих представлений, как свои собственные «бредовые фантазии», — этот муж, согласно мнению святого Макса, действительно разрушает все эти силы тем, что выбрасывает из головы своё ложное мнение о них. Дело обстоит как раз наоборот: именно теперь, когда он уже не смотрит на мир сквозь очки своей фантазии, он должен подумать о практических взаимоотношениях этого мира, должен изучить их и сообразоваться с ними. Разрушив фантастическую телесность, которой он наделял мир, он найдёт действительную телесность мира вне своей фантазии. С исчезновением призрачной телесности императора для него исчезла не телесность императора, а его призрачность — действительная власть императора может быть только теперь оценена во всём её объёме (Там же: 111).
Чтобы обнаружить «действительную телесность мира», необходимо разрушить телесность призрачную, только так можно начать думать о практических взаимоотношениях мира, изучать их и сообразовываться с ними, то есть изменять их. Недостаточно просто выбросить фантазии из головы (!), нужно поставить на место саму голову. С замечательной лаконичностью существо этих нападок подытожил Деррида: «Маркс весьма непреклонен: когда уничтожают призрачное тело, остается тело реальное» (Деррида 2006: 189).
Однако насколько это согласуется с мнением самого (не
Отвечая на первый вопрос, следовало бы сказать, что согласно Штирнеру «бредовые фантазии» должны быть выброшены отовсюду, из всех голов, из всех вещей, из животных, деревьев, планет и звездных систем. Это важная мысль. Дело в том, что, если выражаться в терминах спекулятивного поворота, корреляционизм «бредовых фантазий» не только закрывает для нас доступ к «миру без нас» (такой мир Штирнеру был бы не очень интересен, в него следовало бы вторгнуться, присвоить его), но и буквально оседает в вещах, ослабляя их, производя эффект, который можно было бы назвать реализмом подчинения. Так, животных, детей и собственно тело Штирнер описывает на уровне такого реализма: здесь не производится призрачного удвоения мира и поэтому они — реалисты, однако, все эти трое находятся в подчиненном положении (животное — у человека, ребенок — у взрослого, а тело — у самого разума), и их реализм (в том числе относительно самих себя) это реализм подчинения. Подчинения реальных беспризрачных тел телам, одержимым призраками! На этом уровне происходят свои ограниченные восстания, но здесь не может развернуться главная для Штирнера борьба: борьба против самого разума (Штирнер 1994: 11). Однако даже восстание цветка или птицы не может быть объяснено условиями его существования, телесной организацией восставших или тем, как они чувствуют: «анализ исторических, эмпирических условий способен лишь рассказать нам об одеждах, в которые облачается единственность» (Blumenfeld 2018: 11). В этом состоит важное (одностороннее) расхождение с Марксом, для которого ответ на вопрос, как вещь стала такой, а не иной, предполагает анализ эмпирических условий ее появления, за отсутствие которого Штирнер постоянно побивается камнями (напр.: Маркс, Энгельс 1955: 138). Иными словами, для Маркса нет начал без начальства, без подчиняющей причины, которая вынуждает начать. Это обстоятельство позволяет обострить расхождение онтологий Маркса и Штирнера. «Действительная телесность мира», которая обнаруживается в «Немецкой идеологии» путем постановки головы на место, это реактивная телесность, располагающаяся преимущественно на уровне реализма подчинения. Главной презумпцией исторического материализма являются два утверждения: 1) ничто не может измениться, если не изменились условия возникновения; 2) условия не могут измениться сами, без начальствующего вмешательства других условий. (Есть еще третье утверждение, касающееся развития, созревания и изменения условий, но его мы коснемся позже). Такой материализм можно описать словами Жиля Делеза, сказанными относительно вопроса «Ницше и наука»: «здесь вещи всегда рассматриваются с малозначительной стороны, со стороны реакций <…> реактивная физика есть физика злопамятности» (Делез 2003: 113–114). Отсекая от «действительной телесности мира» те головы, которые не на месте, то есть изымая из него процесс, названный у Штирнера непереводимым es spukt [20] (переведено как «нечисто» в: Штирнер 1994: 41), — и ставя во главе голову исторического материалиста, диалектика, марксиста [21], Маркс и Энгельс приходят к «эмпирическим условиям», скрадывающим различие между Единственным и Единственным. На развилке современного спекулятивного поворота в онтологии мы должны были бы поместить Маркса и Энгельса скорее на стороне элиминативистов, чем на стороне панпсихистов (см. прим. выше).
Для Маркса нет начал без начальства, без подчиняющей причины, которая вынуждает начать.
Необходимо однако, последовательно проводя дикую линию одностороннего различения между «Немецкой идеологией» и «Единственным и его собственностью», указать на то, что Штирнер вовсе не заканчивается там, где обрывают его Маркс и Энгельс, «продолжая состоять в браке с тем, что с ним разводится» (Делез 1998: 45). И дело даже не в том, что es spukt возвращается в анализ товарного фетишизма, как «если бы стол пустился по собственному почину танцевать» (Маркс 1960: 81; а также прекрасный разбор темы призрачности в товарном фетишизме у: Деррида 2006: 211 и далее). Дело в том, что в действительности Штирнер не считает анализ эмпирических условий бесполезным или ненужным. У него можно найти весьма остроумные замечания о функциях денег, происхождении религии, закона, полиции. Правда, что анализ практических взаимоотношений не ставится им во главу, но это потому, что он является лишь предварительным условием для охоты за призраками, для их развоплощения, для потребления и растворения навязчивых идей. Иными словами, исторически предшествуя Марксу, логически Штирнер начинает после него. Для объяснения этого аномального (не)места, откуда начинает Штирнер, воспользуемся тем же образом, с помощью которого Маркс и Энгельс его опровергают, образом монаршего тела: «Только как носитель и вместитель человека я не умираю, так же как “не умирает король”. Людовик умирает, но король остается; я умираю, но мой дух, человек, остается» (Штирнер 1994: 163; курсив мой. — Е.К.). Лаконичная формула Деррида выворачивается Штирнером наизнанку — когда уничтожают реальное тело, остается тело призрачное — и направляется против Маркса не столько из прошлого, сколько из будущего, которого Маркс не застал, в виде вопроса: что останется от государства, властных учреждений, системы угнетения и эксплуатации после того, как они будут уничтожены в качестве тел? История революций, заклинателем которой был Маркс, пока доказывает, скорее, правоту Штирнера, который насмешливо описывал ее как смену властителей и появление все новых и новых учреждений, но никак не полное «разрушение современного строя».
История революций, заклинателем которой был Маркс, пока доказывает, скорее, правоту Штирнера, который насмешливо описывал ее как смену властителей и появление все новых и новых учреждений, но никак не полное «разрушение современного строя».
Джейкоб Блюменфельд, замечая эту особенность штирнеровоского материализма, приходит к выводу, что он не может быть объявлен протоматериализмом, который готовит пути для последующего прорыва Маркса и Энгельса, также он не является историческим материализмом, ограниченным анализом социально-экономических отношений в их, сколь угодно решительно подчеркнутой, динамике. Скорее, Штирнер является постматериалистом, начинающим там, где заканчивает исторический материалист (Blumenfeld 2018: 103), начинающим с конца истории (в сущности, так же, как Деррида в «Призраках Маркса»). Мы предпочитаем термин утопический материализм, так как он более точно указывает на то отторгаемое, но не отторгнутое в марксизме, что можно было бы назвать концами без учреждений (утопии), составляющее пару началам без повелений (стихиям).
3. Свершения (концы) без учреждений: к утопическому материализму
Жест отделения начал от повеления, который развернул Райнер Шюрман в своем проекте онтологической анархии, был лишь начат — и, в буквальном смысле, не доведен до конца, до отделения концов от повеления, концов от учреждений. Без этого завершения жеста, онтологическая анархия остается в плену не проведенных различий, в котором конец слипается с повелением, обрыванием начала (полицейский окрик: стоять! документы!), а начало обрекается на бесконечное начинание (бегство от полицейского, от документирования — но куда?). Самое же опасное слипание — это слипание самих начал и концов, в котором одно всегда выступает в качестве повеления над другим.
В 1843 году Маркс пишет Арнольду Руге:
Хотя не существует сомнений насчёт вопроса — «откуда?», но зато господствует большая путаница относительно вопроса: «куда?». Не говоря уже о всеобщей анархии [22] в воззрениях различных реформаторов, каждый из них вынужден признаться себе самому, что он не имеет точного представления о том, каково должно быть будущее (Маркс 1855 б: 379).
В этом поразительном письме молодого Маркса, затрагивается вопрос, проходящий красной нитью через бóльшую часть его произведений, вопрос о будущем, которое нужно не предвосхищать, а «посредством критики старого мира найти новый мир», при этом Маркс подчеркивает, что речь идет о «беспощадной критике всего существующего». Здесь он чудовищно близок к «Штирнеру», которого через два года будет уничтожать за аргументацию, принадлежащую не столько главному антагонисту «Немецкой идеологии», сколько ему самому: «наш девиз должен гласить: реформа сознания не посредством догм, а посредством анализа мистического, самому себе неясного сознания, выступает ли оно в религиозной или же в политической форме». Намечая далее ориентир для «критики всего существующего», Маркс подчеркивает: не следует противопоставлять мистическому сознанию «какую-нибудь готовую систему вроде, например, “Путешествия в Икарию”» (Там же: 379–381).
Маркс никогда не доверял утопии. После сведения счетов со «Штирнером» и поворота к историческому материализму, он разовьет критику утопизма, в которой произойдет окончательный отказ от попыток провести «реформу сознания», и которая станет следующим шагом в борьбе против «бредовых фантазий», связанных с вопросом, как и в каком виде возможна теория построения нового мира. В «Нищете философии» он напишет:
Пока пролетариат не настолько еще развит, чтобы конституироваться как класс, пока самая борьба пролетариата с буржуазией не имеет еще, следовательно, политического характера и пока производительные силы еще не до такой степени развились в недрах самой буржуазии, чтобы можно было обнаружить материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для построения нового общества, — до тех пор эти теоретики [социалисты и коммунисты] являются лишь утопистами (Маркс 1955в: 146; курсив мой — Е.К.).
Научная теория нового мира, научный социализм (к слову, начинающий играть роль вещи из письма Руге, «которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет» (Маркс 1955в: 381; курсив мой — Е.К.)), противопоставляется воззрениям, которые в силу социальных и экономических условий, могли быть лишь утопиями, то есть незрелыми теориями, соответствующими «незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям», теориями, которые «приходилось выдумывать из головы» (Энгельс 1961 б: 194). Однако, для того, чтобы отличить зрелые состояния и отношения от незрелых так, чтобы это отличие не было «фантастическим отражением в головах», необходимо было открыть объективный закон «созревания», что и сделал Маркс, одаривший нас «двумя великими открытиями — материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости», которые позволили перейти от утопии к науке (Там же: 209). В контексте проблемы начал и концов эти открытия означали лишь то, что начала и концы слипаются посредством располагающегося между ними анонимного повеления самого Закона (подробнее: Кучинов 2019). Впоследствии, когда стало ясно, что с научностью научного социализма «что-то не так», ряд авторов, разбиравших наследие Маркса (в начале прошлого века Беньямин и Блох, а в начале нынешнего Джеймисон и Деррида), попытались вернуться к анализу утопии и отделить утопическое начало от утопического завершения, говоря о калитке для Мессии, незавершенности из которой вырастает утопический импульс, принципиальной неполноте лучших утопий и о вывихнутом времени, вынуждающем противопоставить будущему грядущее. Однако меланхоличный тон этих возвращений подсказывает: с ними самими «что-то не так».
В «Анархизме и социализме» Плеханов, воспроизводя схему Маркса-Энгельса об отличии научного социализма от утопического и переходя ко «Штирнеру», хотя и записывает ему в заслугу то, что он выступил против утопической сентиментальности, все же оставляет его на почве утопии: «Я есмь Я — это его исходный пункт. Не-я не = Я — это его результат. Я + Я + Я + и т.д. — это его социальная утопия <…> Его “союз эгоистов”» (Плеханов 1924: 33–34; курсив мой — Е.К.). Можно сказать даже, что, по Плеханову, Штирнер демонстрирует переход от утопии к антиутопии, так как, когда им производится вычитание из утопии сентиментальности, «тогда нач[и]н[а]ется “война всех против всех” (это точное выражение Штирнера)» (Там же: 35). Этот вывод (до сих пор) является пунктом стандартной критики анархизма: анархия — это утопия, попытки воплотить которую ведут к войне всех против всех — и неизбежному возвращению государства; анархизм = волюнтаризм «немедленной анархии».
Действительно, «союз эгоистов» — наиболее утопичная часть «Штирнера», и правда, что союз (Verein) связан с войной,
Однако войну следует объявить самому сущему, то есть государству (status), и не
Штирнер не мыслит государство политически, экономически или социально; он мыслит его онтологически: государство — это само сущее (Bestehen selbst — само сохраняющееся, длящееся, устойчивое, состояние), сам (за)фиксированный порядок и связность существующего. Что значит фиксированный? Это значит, что начавшись он не может закончиться, что начало сохраняется в нем «до конца»; что он живой мертвец, призрак, который должен был закончиться сразу как начался, но тем не менее не заканчивается. Необходимо отличать государство от конкретных государств, заключенных в те или иные географические границы, представляющих собой определенный институт, форму правления, аппараты, людей, технику и т. д. Государство — это не тело, не вещь. По Штирнеру, можно было бы спросить, подражая провокативности Лакана: государство — это где? И очень наивно было бы дать ответ: в голове. Такое решение содержит глитчующую (es spukt) недосказанность, так как если и в голове, то не просто в ней, но в голове, стоящей во главе, то есть в некоем правильном положении головы. Ведь государство соткано из отношений «зависимости и связанности, оно — своего рода сопринадлежность, взаимоподчинение, причем соподчиненные или соединенные зависят друг от друга. Оно — порядок этой зависимости» (Там же: 210). Более того, государство нужно отличать не только от «тела», но и от призрака. Государство — это не одна из
Как же бороться с государством? Как будто соглашаясь с антиутопическим вердиктом Плеханова, еще раз подчеркивая свою постматериалистическую максиму, Штирнер пишет: «предположим, что исчез король, авторитет которого довлел над всеми, вплоть до полицейского сыщика, тогда, несмотря на это, все, в ком сохранился инстинкт порядка, стали бы поддерживать порядок против беспорядка зверских инстинктов. Если бы победил беспорядок, государство погибло бы» (Там же: 210; курсив мой — Е.К.). Значит ли это, что для поражения государства беспорядок должен победить в голове? Сейчас нам уже ясно, что и в голове тоже, однако не в форме мысли, не в форме осознания истины государства (как об этом мог бы сказать Маркс в 1843-м году, и в чем он обвинял Штирнера в 1845-м). Коль скоро любая фиксированная мысль в голове — это государство в государстве, то победить можно лишь посредством рассеянности (die Gedankenlosigkeit), позволяющей оберегать свою «шкуру» от мыслей, а голову от главенства. Это значит, что Штирнер мог бы восприниматься сегодня как апологет кухонной политики, допускающий, что положить конец государству можно и на кухне: коль скоро государство где угодно, поймать и прикончить его тоже можно где угодно. Важно не мешкать: в этом смысл «немедленной анархии». Но и не тольков голове: как следует из штирнеровского открытия реализма подчинения, государство находится и в вещах тоже (не совпадая с ними) — оно присутствует в них как закон самосохранения (начала, сохраняемого до конца).
Положить конец государству можно и на кухне: коль скоро государство где угодно, поймать и прикончить его тоже можно где угодно. Важно не мешкать: в этом смысл «немедленной анархии».
Именно поэтому союз единственных, в котором, к слову, только и может утвердиться Единственное, — утопия. Ведь «подвижное соединение всего и всех» (flüssige Vereinigung allen Bestandes) предполагает полное расплавление — не тела, но — инстинкта самосохранения. А по чрезвычайно радикальному и тонкому замечанию Джеймисона, утопия как раз и «характеризуется спадом мощного стремления к самосохранению, которое <…> становится излишним» (Jameson 2004: 51).
Маркс и Энгельс были правы, считая, что в любой утопии есть момент игнорирования закона (исторического, социального и подчас даже природного) развития. Однако это не означает концептуальной и практической наивности утопизма, утопического материализма. В начале ХХ века онтологические (не фиксированные) идеи Макса Штирнера развили в этом направлении Братья Гордины, хорошо знакомые с «Der Einzige und sein Eigentum». Подхватывая жест отклонения призрака и развоплощения всех фиксированных идей, которые у них получают название «морфизмов», они делают следующий после атеизма шаг и приходят к провозглашению несуществования природы — афизизму. «Простой внешний мир» нельзя зафиксировать ни в образе, ни в идее, ни в научном понятии или системе таковых (а понятие «природа» предполагает лишь совокупность законов), потому что все они соотносят мир с некоторым повелением, приказом начать существовать или сохраняться в существующей форме. Такое повеление Гордины считают магическим. Магия не только дает представление о мире, в котором ничто невозможно без распоряжения и приказа (это все та же «физика злопамятности», в которой ничто не происходит само по себе, без некоторого претерпевания насилия), не только соблазняет этим представлением сознание, но и ослабляет или уничтожает своими декретами сами вещи, сами тела. Утопическое восстание прокладывает путь освобождения вещей и тел через немагическую практику технического изобретения. Вместо меланхоличной тоски по утопии, Братья Гордины решительно противопоставляют утопию науке — и прежде всего научному социализму — и разрабатывают концепцию утопии как техники, а техники как онтологической категории — вроде технического огня стоиков, который вносит «творческий беспорядок» в саму материю (точнее, материя и есть не что иное, как технический огонь утопии). Кроме того, они создают утопии — как литературные («Страна Анархия»), так и технические («Первый центральный социотехникум», «Всеизобретальня»).
В «Стране Анархии» (1919) они дают короткое, но доходчивое описание утопического мира, помысленного по ту сторону злопамятности:
— Присмотритесь, вот здесь же целые сооружения.
— Но я тут ничего не вижу, — сказал рабочий.
— Да, эти сооружения нисколько не напоминают ваши машины с колесами, винтами, тут все по-иному.
— Кто приводит у вас все в движение?
— Здесь движение считается чем-то обыкновенным, естественным, у нас все двигается, у нас вечное движение. У нас здесь требуются силы для того, чтобы вывести предмет из его естественного состояния движения и привести его в покой.
— Я вас не понимаю! — сказал рабочий.
— И нет ничего удивительного. Вы воспитаны на науке, на ваших законах механики. Вы считаете покой чем-то естественным, а для того, чтобы привести что-нибудь в движение, вы ищите «силы», двигатели, а мы, наоборот, ищем, покоителя, удерживателя. Поэтому и наши сооружения совершенно другие (Братья Гордины 2019: 111).
Пожалуй, это один из хороших примеров того, как начала могут начинать без повеления, изменения происходить без законов, а концы «приводят в покой» так, что получившиеся сооружения, нисколько не напоминая наши учреждения, просто не распознаваемы для взгляда.
4. Винтовка
Термин «poderes destituyentes», перевод которого мы отложим до конца этого текста, впервые появился в текстах группы Colectivo Situaciones, посвященных анализу восстания против неолиберального капитализма в Аргентине 2001 года, лозунгом которого стало «Que se vayan todos!» («Все они должны уйти!») — выражение недоверия всем существующим формам институциональной власти, всем учреждениям (Colectivo Situaciones 2002: 42, 12 и далее). В то же время восстание в Аргентине отличалось от революции, так как восставшие не намеревались насильственно свергать одну власть и ставить вместо нее другую.
Позже этот термин (destituent power) использовал для анализа ряда событий на Ближнем Востоке и в Европе Раффаэле Лаундани, а также — в более теоретичном и даже поэтичном ключе — Джорджо Агамбен (potenza destituente).
Подходя к концу, отметим ряд важных для нас положений, высказанных Агамбеном [23], открывшим свой доклад о potenza destituente тезисом, упоминающим три имени: «политика веками оставалась на том месте, где расположили ее Аристотель, Гоббс и Маркс». Ex-ceptio — это место включающего исключения человеческой жизни в форме голой жизни, место политики (Agamben 2014: 65). Наша анархеология начала, обратившаяся в диковатую пролиферацию начал и концов, сделала свой варварский раскоп в этом же месте, где, согласно Агамбену, включающему исключению подлежит само начало, которое разделяется, исключается и отбрасывается на дно, чтобы затем вернуться в качестве основания. Это приводит к мысли, которую Агамбен оставляет недосказанной и в докладе 2013 года, и в недавней книге «Творение и анархия» 2017 года: поскольку власть как начало конституирует себя через включающее исключение анархии, мы можем мыслить анархию только как исключение, включенное в работу власти — войну всех против всех (см. выше у Плеханова), карикатуру на анархию, курьез. История Штирнера является иллюстрацией такого курьеза. То же самое касается исключения безродности, которая включена в понятие народ как обуздываемая бесформенная масса — и исключения беззакония, включенного в закон как контролируемый хаос (Ibid.: 72). Как высвободить анархию, безродность и беззаконие? Коль скоро любая попытка прямого доступа к исключенному лишь повторяет жест включающего исключения, Агамбен предлагает рассмотреть окольный путь — potenza destituente. Это сила, которая противопоставлена учредительной власти и результирующим ее действие учреждениям, которая, более того, противопоставлена действию, может быть обозначена — и уже обозначалась нами — как разучредительная. Разучредительная власть не действует, то есть ничего не учреждает, но и не бездействует, то есть не подчиняется тому, что учреждено; находясь в промежутке медиального залога, она находится в зоне неразличимости активности и пассивности, как в танце, где нет различия танцора и танцуемого. В разучредительном танце создается возможность появления новых жизнеформ, в которых форма не отделена от жизни.
Внимательно прислушиваясь к примерам разучредительного бездействия, которые приводит Агамбен — праздникам, пляскам и строкам из Первого послания Коринфянам о времени, когда Христос «предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (15:24) — мы готовы перевести podere destituyente / potenza destituente / destituent power.
Упразднительная сила.
Упразднить, сделать праздным, значит опорожнить, но не сделать пустым — значит освободить от исполняемых обязанностей. Упразднить, значит сотворить праздник, но без повода («неофициальный» праздник вроде дня рождения, но без фиксации его в паспорте и даже в календаре). Упразднить, значит внести и обострить рознь между началом и концом, между тем, что было, тем, что случилось и тем, что будет. Пожалуй, в «упразднительной силе» или «стихии упразднения» мы можем присвоить, то есть односторонне, без возможности обратного перевода, перевести das schöpferische Nichts «Штирнера» и снять с этого последнего кавычки.
Анархеологически упразднить марксизм и получить что-то вроде танцующего Ма (р)кса Штирнера? Поставить Маркса с ног на голову?
Да.
Примечания
1. Дабы избавиться от головокружения, можно, впрочем, заметить, что эта перемена наметилась значительно раньше, едва ли не сразу. Уже в письме Марксу от 20 января 1945 года, Энгельс пишет: «Что касается Штирнера, то я с тобой совершенно согласен. Когда я писал тебе, я все еще находился под непосредственным впечатлением книги, а теперь, когда я отложил ее и смог лучше подумать, я прихожу к тем же выводам, что и ты» (Энгельс 1962 б: 15). Выводы, о которых идет речь, вероятно, должны были стать содержанием «критики Штирнера», о которой говорит Маркс в письме Генриху Бернштейну уже в декабре 1844 года (Маркс 1962: 385), критики, которая должна была выйти тогда же, в 1844 году, но так и не увидела свет в виде отдельного произведения, войдя в переработанном и дополненном виде в «Немецкую идеологию».
2. Во избежание поспешной реакции на термины «неудача» и «невозможность» укажем на контекст психоаналитической теории, из которого они позаимствованы, — вместе с основополагающим соображением Жака Лакана: «У того и другого, у Фрейда и Маркса, есть одна общая черта — оба они не говорят глупостей» (Лакан 2008: 87), несмотря на какие угодно «неудачи» и «невозможности».
3. Заметим, что еще до издания «Немецкой идеологии» в полном объеме, часть, посвященная критике Штирнера, «Святой Макс», неоднократно издавалась отдельно — особенно на фоне массового интереса к «Der Einzige und sein Eigentum» в начале 1900-х годов (на русском языке в этот период появляется около восьми (!) разных переводов Штирнера, а уже в 1913 году выходит «Критика учения Штирнера» Маркса и Энгельса (собственно, «Святой макс») под редакцией Гиммельфарба, переизданная в 1920-м).
4. Анализ этого онейрического измерения марксистской теории сопряжен с риском того, что и Маркс, и «Штирнер» будут фигурировать здесь то в неузнаваемом виде, то в виде, напротив, слишком легко, без труда узнаваемом, а то и в виде, создающем впечатление карикатурности. Это не означает, что мы хотим отплатить Марксу его же монетой и применить к нему тот же метод окарикатуривающей критики, который он применяет к Штирнеру (уже одним заключением его в кавычки). Напротив, задача в том, чтобы вывести Маркса по ту сторону вида и узнавания — к безвидности: там, где Маркс (слишком) легко узнаваем, нам хотелось бы сказать, что мы ничего не знаем о Марксе, а там, где Маркс, наоборот, не похож сам на себя (ближе к концу), мы настаиваем на том, что приближаемся к нему, места же (мнимой, всегда лишь мнимой) «карикатурности», являются маркерами тех элементов марксистской теории, восприятие которых сопряжено сегодня с болезненными эффектами «оскорбленного чувства», каждый из которых нуждается в отдельном толковании.
5. «Одни лишь профессора могут, да и то не всегда, писать на полях “неверно”, у читателей же скорее вызывает сомнение значительность и интересность, то есть новизна того, что им предлагается читать» (Делез, Гваттари 2009: 96). Ср. с «Немецкой идеологией», где подобных профессорских пометок на полях — в избытке: «нет ничего “удивительного” в том, что святой Макс даже “подобные простые размышления” не может “развить” правильно, а высказывает их неправильно, дабы доказать таким путём ещё гораздо более неправильное положение с помощью самой что ни на есть неправильной логики. Отнюдь неверно утверждение…» и т.д. (Маркс, Энгельс 1955в: 136; курсив мой — Е.К.).
6. Об одностороннем различении / унилатеральной дистинкции (distinction unilatérale) см.: (Делез 1998).
7. О стихиях / элементах в противоположность атомизму / индивидуализму см.: (Аронсон 2017).
8. Не будем вдаваться в схоластические рассуждения об отличии революции от переворота.
9. Образец такого переворачивания, относящийся, естественно, к Гегелю, мы находим в «Капитале», где Маркс пишет: «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней <…> У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно» (Маркс 1960: 21–22).
10. Опираясь на тексты Маркса можно развернуть впечатляющую диалектическую цефалографию, в которой моментом, наиболее яростно критикуемым, оказывается «постановка на голову» (=идеализм), где часто упоминается «мертвая голова» (caput mortuum), а также постоянно присутствуют темы головокружения, головных болей, разбивания головы на поворотах мысли (о Прудоне в «Нищете философии»), обезглавливания и коронования (см. в «Святом семействе» о двух критикуемых Марксом и Энгельсом формах юстиции: «меч, чтобы делать злых на голову короче», «венец, чтобы делать добрых на голову выше» (Маркс, Энгельс 1955 г: 207)) и так далее. Составление такой цефалографии марксистской материалистической мысли не входит, однако, в наши задачи. Отметим здесь лишь характерный для решения вопроса о главенстве фрагмент, который Маркс высказывает в «Дебатах о свободе печати»: «Эмансипация рук и ног получает для человека значение только благодаря эмансипации головы: как известно, руки и ноги становятся человеческими руками и ногами лишь благодаря голове, которой они служат» (Маркс 1955а: 73).
11. См. в «Нищете философии»: «по мере того как движется вперед история, а вместе с тем и яснее обрисовывается борьба пролетариата, для них [социалистов и коммунистов] становится излишним искать научную истину в своих собственных головах; им нужно только отдать себе отчет в том, что совершается перед их глазами, и стать сознательными выразителями этого» (Маркс 1955в: 146). В этой картине «теоретики класса пролетариата» находят правду в руках и ногах рабочих, но одновременно выделяются в качестве сознательных выразителей интересов этих рук и ног.
12. Этот вопрос довольно загадочным образом затрагивается уже в III Тезисе, в замечании о том, что «воспитатель сам должен быть воспитан» и таинственной коинсидентологии: «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика» (Маркс 1955д: 2). Этот же вопрос целиком захватывает Ленина в «Что делать?»: «сила современного движения — пробуждение масс (и, главным образом, промышленного пролетариата), а слабость его — недостаток сознательности и инициативности руководителей-революционеров <…> Вот почему вопрос об отношении сознательности к стихийности представляет громадный общий интерес» (Ленин 1963: 28; курсив мой — Е.К.).
13. См., напр., его подшучивания над критиками, которые, стремятся «стать главою массы», остающейся недовольной как результатами революции, так и самой революцией — переворотом, в котором просто-напросто один господин сменяется другим (Штирнер 1994: 138).
14. Отметим вместе с Вольфи Ландстрайхером (Landstreicher 2017: 7), что Штирнер нигде себя не называет не только диалектиком, но и философом, а в «Философских реакционерах» прямо противопоставляет свой проект философии.
15. Но есть и существенные расхождения, связанные прежде всего с повстанческим характером этики Штирнера (см.: Blumenfeld 2018: 85–86)
16. Мы отдаем себе отчет в том, что Штирнер, скорее всего не согласился бы с таким наименованием.
17. Именно в этом состоит развилка современного спекулятивного поворота. Если Кант крепко затянул узел, которым мысль привязывалась сама к себе и к человеку (мысль входит в корреляцию с бытием не тогда, когда обращена на внешний мир, а тогда, когда обращена на саму себя, на критику своих собственных ограничений), то спекулятивный реализм стремится этот узел разрубить. Это происходит двумя способами: либо через элиминативистское признание полной асубъективности мира (Мейясу, Брасье — у них голова на строго определенном месте, на плечах у обреченного на «истину вымирания» человека), либо через панпсихистский отказ от вытравливания мысли и чувства из внешнего мира, и признание ее общим и обычным явлением (Харман, Грант, Шавиро — у этих голова явно не на месте, у них она, по панпсихистской формуле Томаса Нагеля, встречается all the way down. Используя эту формулу, Стивен Шавиро пишет: «Мышление случается везде, оно распространяется на всем пути вниз (и вверх)» (Shaviro 2014: 86). Касательно Штирнера, для которого мышление имеет не слишком высокую цену, являясь, по существу, тем, что навязано государством, то у него «на всем пути вниз» встречается, скорее, не мышление, а повстанческая мощь уникального. Если и подбирать для его онтологии какую-то рубрику, то логичнее говорить не о панпсихизме, а, например, о пануникализме или пананархизме.
18. Этот отрывок хорошо показывает, что эгоист «не так прост», как предполагает Маркс и те, кто последовал за ним, объявляя Штирнера выразителем интересов мелкого собственника. Нередко весь анархизм обвиняется именно в том, что это борьба всего лишь за индивидуальный капитал (или, напротив, сами анархисты обвиняют «индивидуалистов» типа Штирнера и Ницше в том, что их эгоизм «является скрытым возвратом к существующей теперь монополии досуга, обеспеченности и образования в пользу небольшого количества людей под покровительством государства. Это не что иное, как “право на полное развитие” для привилегированного меньшинства, т. е. право, которое только и может существовать при условии обеспечения этого права государством» (Кропоткин 1990: 295–296)). Здесь не помешает толика историзма. Штирнер использует слово «эгоизм» как таран для современной ему жеманной морали самопожертвования, основанной на христианстве (см.: Blumenfeld 2018: 113) — ему нужен таран, а не «фиксированная идея». Сегодня эгоизм уже не может играть роль тарана, очерчивая, скорее, ту самую зону комфортного «досуга», о которой уже в начале ХХ века писал Кропоткин, буквально повторяя аргументацию Маркса. Чем сегодня заменить «эгоизм» какой термин вызывает сегодня наибольшее раздражение, отвращение и страх? Малкольм Булл, рассмотревший в своем «Анти-Ницше» историческую цепочку «отвратительных имен», которые возникают сначала в воображении (никто себя так не называет), но затем обретают плоть — атеист, анархист, нигилист — находит такой современный термин в «филистере» (никто сегодня себя филистером не считает, но все боятся филистерства как того, что способно своим безразличием к искусству разрушить человеческую культуру). Анализируя «грядущее филистерство» Булл указывает на то, что оно, в первую очередь, проблематизирует различие между человеческим и нечеловеческим, человеческим и животным, индивидуальным и массовым (Булл 2016). Можно перечитать «Единственного и его собственность», заменяя «эгоиста» на «филистера» (кстати, иногда сам Штирнер довольно раздраженно говорит о филистерах). Но можно подумать и над более отвратительными именами.
19. См. в Предисловии ко второму изданию «Капитала»: «Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я подверг критике почти 30 лет тому назад, в то время, когда она была еще в моде. Но как раз в то время, когда я работал над первым томом “Капитала”, крикливые, претенциозные и весьма посредственные эпигоны, задающие тон в современной образованной Германии, усвоили манеру третировать Гегеля <…> Я поэтому открыто объявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости местами даже кокетничал характерной для Гегеля манерой выражения. Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения» (Маркс 1960: 21–22).
20. «К сожалению, перевод этой идиомы никогда не передает связи между безличностью или квази-анонимностью операции [spuken], где отсутствует действие, нет реальных субъекта и объекта, и возникновением некоего образа–привидения [der Spuk]: это (оно) не просто “бродит” <…>, но, скорее, это “возвращается”, это “привиденится”, это “видится”» (Деррида 2006: 192).
21. Обычно довольно тривиальную, работу по отделению Маркса от марксизма нужно, конечно же, осуществить со всем радикальным максимализмом Штирнера, прорезая линию деления не между Марксом и марксистами, а по самому Марксу, отделяя Маркса от его призраков. Примерно этим занят Деррида в «Призраках Маркса» (Деррида 2006).
22. Здесь «анархия» фигурирует именно в том воображаемом смысле, о котором пишет Булл (Булл 2016).
23. Детальное сопоставление идей Штирнера и Агамбена (Newman 2017).
Библиография
Альтюссер, Луи (2005) Ленин и философия. М.: Ad Marginem.
Аронсон, Олег (2017) Силы ложного. М.: Фаланстер.
Братья Гордины (2019) Страна Анархия (утопии). М.: Common Place.
Булл, Малкольм (2016) Анти-Ницше. М.: ИД «Дело» РАНХиГС.
Делез, Жиль (2003) Ницше и философия. М.: Ad Marginem.
Делез, Жиль (1998) Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис».
Делез, Жиль, Гваттари, Феликс (2009) Что такое философия? М.: Академический Проект.
Деррида, Жак (2006) Призраки Маркса. М.: Logos-altera, издательство «Ecce homo».
Кропоткин, Петр (1990) Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М.: Правда.
Кучинов, Евгений (2019) Fictio audaciae: по ту сторону самосохранения Просвещения, в Логос. Том 29. #4. 131: 109–128.
Лакан, Жак (2008) Изнанка психоанализа (Семинар, Книга XVII (1969-70)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».
Ленин, Владимир (1988) Материалы ко II конгрессу Коммунистического Интернационала, в Владимир, Полное собрание сочинений, в 55 т., т. 6. М.: Государственное издательство политической литературы.
Ленин, Владимир (1963) Что делать? в Ленин, Владимир, Полное собрание сочинений, в 55 т., т. 6. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1955а) Дебаты о свободе печати, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1959) К критике политической экономии, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1960) Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга I: Процесс производства капитала, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1962) Маркс — Генриху Бернштейну. В Париже, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1955 б) М[аркс] к Р[уге], в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1955в) Нищета философии, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1955в) Святое семейство, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл (1955д) Тезисы о Фейербахе, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 3. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих (1955) Немецкая идеология, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 3. М.: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих (1956) Эмиль де Жирарден. «Социализм и налог». Париж, 1850, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 7. М.: Государственное издательство политической литературы.
Плеханов Г.В. (1924) Анархизм и социализм. Краснодар: Буревестник.
Слотердайк, Петер (2009) Критика цинического разума. Екатеринбург: У-Фактория, М.: ACT МОСКВА.
Столяров, Александр, пер., комм. (1998) Фрагменты ранних стоиков, в 3 т., т. 1. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина.
Фуко, Мишель (2007) Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году. СПб.: Наука.
Штирнер, Макс (1994) Единственный и его собственность. Харьков: Основа.
Энгельс, Фридрих (1962а) Энгельс — Марксу. В Париж. Б[армен], 19 ноября 1844 г., в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы.
Энгельс, Фридрих (1962 б) Энгельс — Марксу. В Париж. Бармен, 20 января 1845 г., в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы.
Энгельс, Фридрих (1961а) Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 21. М.: Государственное издательство политической литературы.
Энгельс, Фридрих (1961 б) Развитие социализма от утопии к науке, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Сочинения, в 50 т., т. 19. М.: Государственное издательство политической литературы.
Agamben, Giorgio (2019) Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism. Stanford, California: Stanford University Press.
Agamben, Giorgio (2014) What is a destituent power? In Environment and Planning D: Society and Space 20\4, volume 32: 65–74.
Blumenfeld, Jacob (2018) All Things are Nothing to Me. The Unique Philosophy of Max Stirner. Winchester, Washington: Zero Books.
Bonanno, Alfredo M. (2004) «On Marx and Engels’ Non-Critique of Stirner». Union of Egoists. https://www.unionofegoists.com/authors/stirner/max-stirner-criticism/on-marx-and-engels-non-critique-of-stirner/
Colectivo Situaciones (2002) 19 y 20: Apuntes para el nuevo protagonismo social. Buenos Aires: Ediciones De mano en mano.
Dematteis, Philip Breed (1976) Individuality and the Social Organism: The Controversy between Max Stirner and Karl Marx. New York: Revisionist Press.
Jameson, Fredric (2004) The Politics of Utopia. In New Left Review, № 25: 8–17.
Landstreicher, Wolfi (2017) Introduction [2017]. In Stirner, Max. The Unique and Its Property. Baltimore: Underworld Amusements.
Lobkowicz, Nicholas (1969) Karl Marx and Max Stirner [1969]. In Demythologizing Marxism, ed. Frederick J. Adelmann. Chestnut Hill [Mass.]: Boston College; The Hague: M. Nijhoff.
Newman, Saul (2017) What is an Insurrection? Destituent Power and Ontological Anarchy in Agamben and Stirner. In Political Studies. Volume 65, Issue 2: 284–299
Riley, Thomas A. (1972) Germany’s Poet-Anarchist John Henry Mackay. New York: The Revisionist Press.
Schürmann, Reiner (2013) Le principe d’anarchie. Heidegger et la question de l’agir. Bienne-Paris: diaphanes.
Shaviro, Steven (2014) The universe of things: on speculative realism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Первая публикация: Кучинов Е. Маркс/Штирнер: анархеология стихий упразднения / Stasis, Vol. 8, No. 2, 2019. p. 8-45. В настоящей публикации исправлены неточности и сделаны небольшие дополнения.
