Александр Смулянский. Клиника политики: учение Жижека о субъекте, дискредитирующем свой выбор
Лекция психоаналитика и философа Александра Смулянского, прочитанная в рамках конференции «Žižek 75. Большой Другой» 31.03.2024.
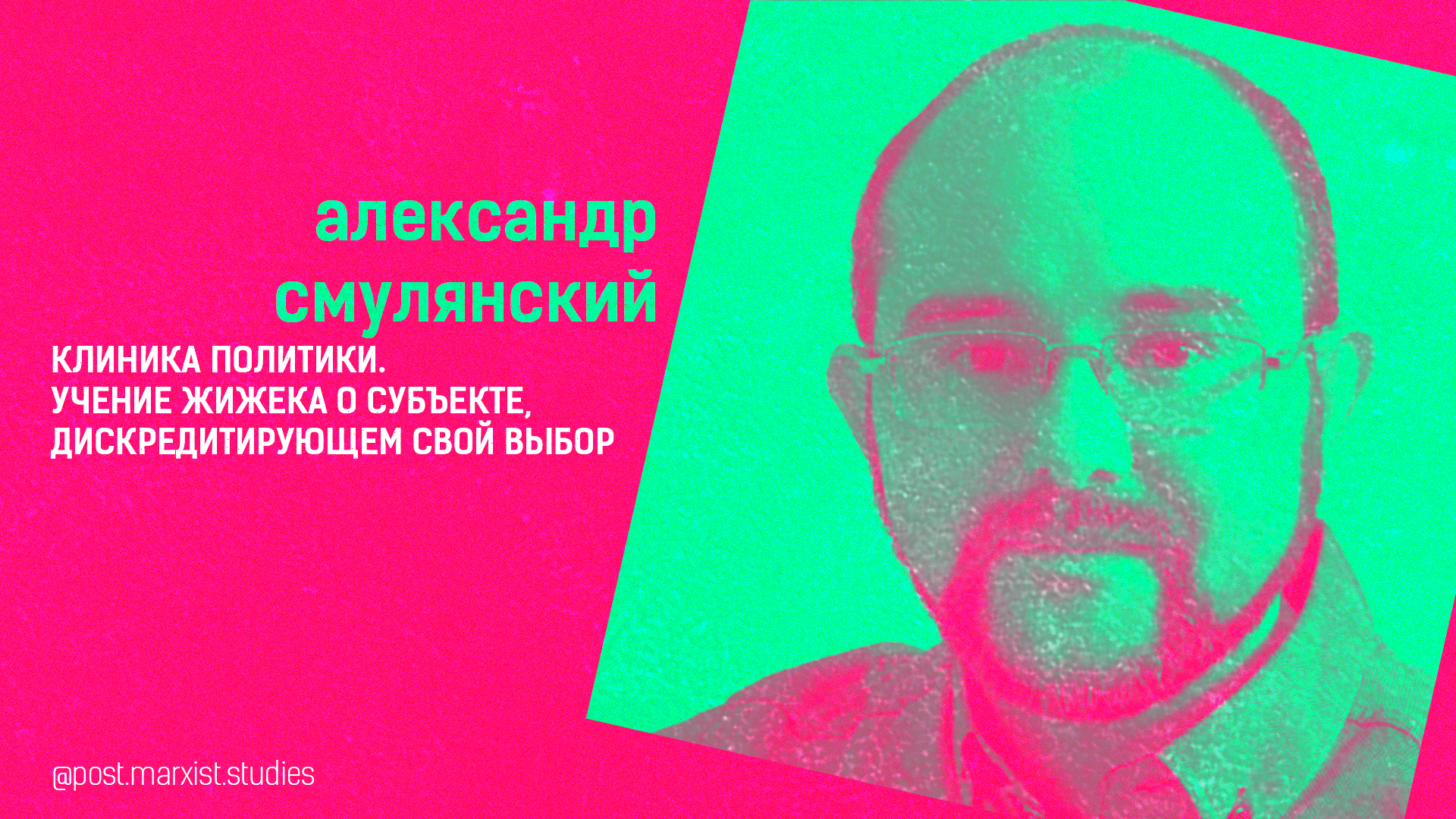
Для тех кто знаком с моей книгой «Исчезающая теория» — и, в частности, с главой, посвященной Жижеку — предлагаемое мной определение жижековской философии не станет неожиданностью, но я намереваюсь раскрыть его с новой стороны, для чего, необходимо для начала построить фигуру, которая показывала бы, каким именно образом Жижек входит в современную мысль — то есть, описать место, откуда совершается его вторжение. Я полагаю, что этот заход совершается им в опоре на суждение, которое напрашивалось к формулировке с самого начала того, что можно назвать политической мыслью XX века, но при этом постоянно откладывалось. Вероятно, необходимо было совершавшееся на протяжении всего XX века сочетание движения и задержки на разных уровнях — уровне построения теории, уровня активистских и партийных движений, уровне психоаналитической клиники — чтобы, наконец, нагнать и озвучить мысль, содержащуюся в этом поиске с самого начала. Гласит она следующее: политический выбор — это не выбор политической системы или направления. То, что можно назвать политическим выбором совершается на другом уровне: там, где — еще или уже — нет того, что представляет собой практика, носящая имя политики.
Этому несовпадению можно найти множество подтверждений: даже если мы говорим о политическом самоопределении самого Жижека (оно является многоступенчатым, поскольку невозможно сказать, представляет ли Жижек левую или правую политическую сторону: более того, они обе подвергаются в его работах соответствующему осмеянию в том случае, когда их реализация превращается в самопародию). Но мы знаем, что Жижек определяет себя как марксиста, и в «Исчезающей теории» я заявляю, что по всей видимости этот выбор не первичен: он не является прямым и непосредственным не потому, что сегодня нельзя полностью и без существенных оговорок идентифицироваться с марксизмом, а потому что существует достаточно специальная причина, по которой Жижек в действительности марксистом может быть: он является таковым исключительно потому, что он также является формалистом, причем одним из крупнейших представителей формализма XX–XXI века.
При этом подобающее жижековскому случаю определение формализма представляет отдельную трудность, поскольку до сих пор существует только филологическое определение формализма, или, в лучшем из случаев, определение на базе теории искусств. Что представляет собой формализм, взятый в качестве самостоятельного теоретического направления — особого метода мышления, не смешиваемого с другими методами — продолжает оставаться вопросом. В интервью «Структурализм и постструктурализм» от 1983-его года Мишель Фуко говорит о возможности опереться на формализм как на большую теоретическую диспозицию наряду с другими существующими — такими как марксизм или психоанализ. Фуко описывает формализм как недостаточно удачливую с исторической точки зрения мысль, притом, что ее потенциал все еще неоценимо велик — и, в особенности, он велик в области нераскрытых потенций к сопровождению политических преобразований. При этом формализм в данном плане остался недооцененным, поскольку он не смог войти в ряд того, что называется «большими методами» — такими, например, как герменевтический метод, или экзистенциальный, и, по мнению Фуко, речь идет об ошибке на счет формализма, которая может дорого обойтись современной философии — в частности, философии, которая полагает необходимым осмыслить политическое, не поступаясь при этом собственной теоретической основой. Деталей этого неразработанного формалистского величия Фуко не раскрыл, а лишь сообщил, что с удовольствием занялся бы этим более подробно — задача, очевидно так и оставшаяся невыполненной, учитывая время взятия этого интервью — перед настигшей его вскоре смертью.
В отношении философии и, в частности, философии, нечто говорящей о политике, я определяю формализм как намерение описывать и устанавливать связи, в том числе выходящие за пределы типов связей, уже описанных в существующих теориях или же выведенных как условие или продукт этих теорий. Поэтому в «Исчезающей теории» я описываю возможность и чреватость связей, выходящих за пределы наиболее крупного сегмента связей, на которых базировался структурализм, обязанный лингвистическим извлечениям начала XX века, а также психоанализу. Речь, таким образом, идет не только о широко разработанной паре метафоры и метонимии, но также и о тех связях, которые могут находиться в еще более дальнем спектре, нежели метонимия. Это еще одно определение формализма: в своем зачатке он есть нечто такое, что осуществляет продвижение в сторону от сильных связей — например, основывающихся на сходстве — к связям все более слабым, отдавая им предпочтение как наиболее потентному объекту изучения. Это именно то, на что опирается жижековская философия, начиная с «Возвышенного объекта идеологии» и заканчивая «Параллаксным видением», где возможность устанавливать в ситуации наличие слабых связей, затмеваемых сильными и потому наиболее обсуждаемыми, возводится в основной принцип.
Таким образом, формализм также может быть определен как теория, которая подобные намерения в области установления более слабых связей реализует и выносит суждения на их основе. Эта же теория позволяет отдавать предпочтения одним связям и не предоставлять его другим — таким образом, она сама начинает представать как политика знания или же иметь продолжение в действиях, распознаваемых как политические. В этой связи я предполагаю, что предпочтение метонимии перед метафорой, оказываемое большим количеством теоретиков, включая самого Жижека, является одним из шагов в еще более крупном историческом движении философской теории от сильных связей к более слабым, и в этом смысле можно подтвердить правоту Фуко, заявившего, что он рассматривает структурализм и его последствия для теории как до сих пор не описанный формалистский эксцесс.
Речь при этом идет не о каком угодно типе размышления о связях. Известно, что в различных теоретических областях сегодня выделено такое множество связей, что сам термин перестает обладать какой-либо специфичностью, кроме сугубо тавтологической: связь есть то, что демонстрирует ее наличие, или же позволяет установить отношение, называемое связью исключительно на основе существования отношения как такового. Очевидно, что взятое таким широким и неселективным образом понятие связи отрезало бы любую возможность политического измерения, поскольку политика есть то, что основывается на том, что требует смещения, или тяготения, отсекающего то, с чего эта политика начинается, от того, к чему она уже никогда не вернется. Это требование невозвращения работает даже в тех случаях, если данная политика в отсекаемой области никогда не бывала: а именно это с любой разрабатываемой политикой и происходит — политика двойным жестом отделяет себя от того, чем никогда не рисковала являться — например, от предыдущей политики, которую следующая политика одновременно полагает и мертвой и в то же время опасной — тем, что не может и в то же время может (не может не мочь) угрожать вернуться.
Можно сказать, что сегодня есть образец мысли — также философской — который, занимаясь как раз связями, в то же время безуспешно силится стать в современности чем-то наподобие политики. Я говорю о делезианстве — по крайней мере, о некоторых из его существующих пролифераций в лице акселерационизма: здесь обычно уточняют, что речь о акселерационализме левом, притом, что есть исследователи — также делезианцы — справедливо замечающие, что принципиальной разницы между левым и самым известным представителем правого усматривать никакой нужды нет. Проследуя по пути этого методологического слияния еще дальше, я полагаю, что можно говорить обо всех направлениях делезианства, для которых имеет значение вопрос связи: как правило представленный в виде коннекций, являющихся результатом соположения случайно закрепленного в самой системе набора элементов, предположительно порождающих в лице этой связи нечто новое для этого мира.
Здесь, как правило, также возникает претендующее на политический смысл представление о неравновесности различных связей, но это представление совершенно особое. Мы знаем, что акселерационисты обычно описывают некоторые специальные связи, которые с их точки зрения достойны удержания и «наращивания», или же требуют спасения, дополнительного закрепления, специальной работы сообществ, которые также являются порождением благоприятно сработавших связей, как если бы уже имеющиеся связи, обретя собственную субъектность и желания, стремились бы спасти для реальности все новые связи. Акселерационизм и темное делезианство можно бы назвать философией благоговения перед связями.
Невзирая на утверждение, содержащееся в работе изобретателя «темного Делеза» Эндрю Калпа относительно политического потенциала практикования подобной теории о связях, я полагаю, что речь пока все еще даже не о теории подобных связей как таковых. Различие между высказыванием в рамках теории и функционированием самой теории довольно тонкое, но необходимое в данном случае, поскольку калповский подход не предлагает теорию связей и дальнейший действующий на ее основе образ мысли, а лишь говорит о том, чем такая теория могла бы стать в том случае, если бы она уже существовала. Таким образом, выдвигаемые им гипотезы более-менее отчетливо строятся на модусе предположительности — мир, или миры этой теории еще только должны быть построены.
Можно полагать, что этот колеблющийся, прокрастинирующий модус калповского высказывания не случаен — он обязан не естественной задержке на пороге построения любой теории, а буквально вписан в само начинание, базирующееся на наследующем Делезу типе мысли. Делезианство без Делеза представляет собой науку о возможных благоприятных соотношениях за пределами уже соотнесенного в ситуации. Именно поэтому акселерационизм и темного делезианство грезит неожиданными схождениями и вызываемыми ими трансформациями — тем, что Калп называет продуктивизмом, одновременно усматривая у самого Делеза более примитивно устроенное преклонение перед силами производительности — толстый намек на то, что авторы «Капитализма и шизофрении» недалеко ушли от поздней капиталистической системы, на которую нападали так ядовито.
Можно не согласиться с Калпом и предложить другой заход, который удовлетворял бы его критический запрос, притом, что, вероятно, сам способ подобного удовлетворения ему самому не понравился бы. Вопреки опасениям Калпа по поводу чрезмерной продуктивности, на которую делезианская мысль скрыто опирается, этот продуктивизм парадоксальным образом непродуктивен в том, что можно назвать его идеологией — я употребляю термин «идеология» как слабый: то есть, описывающий последствия учения или теории вне ее реального политического применения, из которого могли бы возникнуть реальные сильные идеологии, действительно влияющие на массовый образ действий и отреагирований. Фаза такого применения в акселерационизме оказывается пропущенной: речь идет об идейных последствиях существования и озвучивания самой теории, а не о следствиях ее размещения в ситуации. Это положение вещей не опровергается действительно существующими акселерационистскими или близкими им общественными инициативами — например, в области искусства или более практического активизма в виде реально существующих «шизополитик»: даже они все еще вдохновляются первичной слабой идеологией, непосредственно проистекающей из акселерационистской теории и производимого ей интеллектуального очарования.
В этом смысле, даже будучи практиками, акселерационисты, как это ни парадоксально, не являются теми, кто свою теорию воплощает. Даже в случае конкретных активистских инициатив речь в случае акселерационизма всегда идет скорее о пожеланиях: так, превосходно было бы, если бы новые связи, пример которых активист или художник предлагает, обнаруживались в действительности, или же действовали в реальности. Речь не о политике, а о мечтаниях на почве философии, которые иногда лестно называют «политическим воображением», подразумевая, что в отсутствие политического действия оно все же лучше, чем совсем ничего. В любом случае, тем самым здесь больше нельзя говорить о теории связей, а лишь о философской пропаганде, отстаивающей тезис, что необычные и новые связи необходимы, поскольку они для нас спасительны. В этом моменте проступают признаки вырождения делезианского проекта — сочетание все более расширяющегося оживления внутри проекта вкупе со снижением количества последствий, связанных с самим его существованием.
При этом можно утверждать, что даже если бы действительность этих новых связей имела бы место, это не делало бы выстроенную на их основе ситуацию политической. Любопытно, что в тот момент, когда Калпу приходится выдвигать наиболее радикальное возражение акселерационизму, он избирает тот же понижающий теоретический накал, тон, который избирают сами акселерационисты, когда их спрашивают «Так что же нам делать?» — и в этот момент ответ стремительно переходит в области морали. Если левый акселерационист требует продолжать производить новые связи, позволяющие поддерживать общественные трансформации (то есть, требует воодушевления, оптимизма и неустанности в этой деятельности), Калп предлагает заново возвести в культ спасительную лень, позволяющую приостановку производства, то есть окончание продуктивизма. Естественно, эта лень подана не как бытовая, а как философская добродетель: как нечто концептуально претенциозное — заново изобретаемая философия — не бездеятельности, а постоянно производимой остановки действия. Тем не менее, обрыв теоретического мышления в данном случае не может не поражать, обнажая основания современного делезианства: отправляясь от сложных построений Делеза, описывающих прихотливые структуры возможных связей, здесь заканчивают душеспасительной проповедью, продолжая взывать к субъекту в традициях, оставляющих нестерпимый привкус экзистенциального философствования.
Этот итог снова не является ни плодом дальнейшей эволюции делезианства — пусть даже эволюции разочаровывающей тех, кто остается верен изначальному концептуально-прихотливому Делезу — ни следствием обрыва делезианской мысли в принципе: вместо этого данный итог следует рассматривать в свете особой теоретической ситуации, которая сложилась в силу заложенных Делезом в свою концепцию инвариантностей, ряда альтернатив, сам выбор в рамках которых безальтернативен. Такого рода отложенная, или скрытая безальтернативность не является уделом одной только делезианской мысли: совсем недавно вышла книга одного из последователей Жижека, Габриэла Тупинамба, описавшего чрезвычайно схожую ситуацию, сложившуюся в лакановском учении после Лакана — ситуацию, определенную вину за которую необходимо возлагать на способ, которым Лакан предпочитал свою теорию выстраивать. Я говорю, определенную вину, имея в виду вовсе не риторически смягчающий смысл подобного уточнения, делающего эту вину умеренной и на самом деле неопределимой — обычно это как раз за словом «определенная» и скрывается. Но работа Тупинамба, напротив, представляет собой исключение любой неопределенности: автор совершает вполне конкретные указания на ряд концептуальных жестов и движений самого Лакана, с одной стороны, требующего безграничной верности самой возможности внутреннего расширения и пополнения психоаналитической мысли, но с другой оставившего ряд инвариантных решений, не позволяющих это расширение производить и заводящих наиболее верных последователей Лакана в тупик, даже целый ряд разноуровневых тупиков, заставляющих лакановских клиницистов избирать точкой приложения отчаянных внутриклинических усилий то, что для Лакана выступало скорее способом без каких-либо усилий пополнить саму теорию психоанализа извне.
Именно таким образом некоторые современные лаканисты, например, буквально применяют лакановский анализ к психозам, пытаясь заставить его работать в этих случаях, вместо того, чтобы заставить сами психозы работать на психоанализ, производя в нем концептуальные расширения, в том числе за пределами работы с психозом, как, собственно, сам Лакан и делал. При этом лакановские аналитики уже не могут повторить лакановский жест по целому ряду причин, в том числе связанных с самим Лаканом — в частности, с теоретическими ловушками, заложенными в лакановский подход в связи с ограничениями, введенными Лаканом вместе с центральным концептом означающего. Мыслить психоз лакановским образом — значит стоять на позициях, согласно которым означающее в психозе представлено во всей своей буквальности (в отличие от прикрытого функционирования означающего в случае невроза, где неустранимая реальность означающей структуры опосредована зоной фантазма, прикрывающей невротика от прямых взаимодействий с этой структурой), утверждая, что не только психоз, но и сам психотик представляет собой последствия функционирования структуры, расплачиваясь за буквальность соприкосновения с эффектами означающего в том числе отношениями с собственным телом. Результатом этой совершенной Лаканом непосредственной пристежки означающего к телу в психозе становится то, что аналитики основной лакановской школы начинают точно так же буквально и непосредственно заниматься психозами, полагая, что в них лежит ключ к устройству любых нарушений психического функционирования. Мы видим, что последнее неизбежно приводит к тому, что анализ, следующий на первый взгляд лакановскими рельсами, самим жестом этой буквальной верности одному из положений оказывается за пределами совокупной лакановской мысли, прекращая с ней взаимоотношения. Оказавшийся в этой зоне аналитик больше не мыслит лакановским образом, чтобы сделать в том числе выводы и о психозе, а мыслит субъекта посредством одной только лакановской мысли о психозе.
Точно такие же отсроченные заходы в мертвую зону заложены и в философии Делеза, в той ее части, где она поначалу с успехом претерпевает расширение на пороге превращения в программу тотального вмешательства в описываемые в ней социально-пространственные расклады, но впоследствии становится. Так, в интервью «Термин акселерационизм стал бесполезным» корреспондент задает Нику Срничеку вопрос: «Могли бы вы заявить, что Интернет следует реапроприировать? В предыдущей фазе он казался куда менее коммерциализированным и механизированным. Есть ли у нас такая возможность? Можем ли мы сегодня образовать нечто на основе Интернета?». Срничек не видит никакого подвоха в этом вопросе, он отвечает на него буквально:
«Можно представить себе, к примеру, различные формы коллективной собственности, предполагающие изъятие контроля над платформами у капиталистических предприятий. Запросы капитализма зачастую расходятся с требованиями общественности. Хороший пример тому — Twitter. Он вполне мог стать пространством для осмысленного общения». Далее Срничек вводит гностическую фигуру объекта, задуманного хорошим, но испорченного в самих своих истоках недобросовестностью управляющих его лиц: Twitter мог быть прекрасен, но руководство предпочло использовать его как средство извлечения прибыли, вследствие чего его более глубокие коммуникативные потенции остались нераскрытыми.
В такого рода типичных объяснениях скрывается своеобразная фальшь, поскольку опыт нашего обращения с соцсетями на сегодняшнем этапе подсказывает, что интернет-пространств в том виде, в котором их освещают левые акселерационисты, не существует, и причина вовсе не в стяжательских настроениях их руководств. Например, тот же Facebook — не глобальная сеть, закрывающая большую часть потребностей пользователей Интернета, а капризная площадка с особой прихотливой натурой, которую каждый пользователь так или иначе вынужден иметь в виду, каждый раз заново, входя в эту сеть, испытывая особый, неотбиваемый привкус самого медиа. То есть медиа — это не только сообщение, но и субъект: субъект в том самом смысле, в котором в его актах можно распознать определенное желание. Речь не только о манере управления сетью, о постоянных жалобах пользователей на придирки модераторского плана, о сокрытии постов и прочих перипетиях, но и о том, что распознается как идеал-Я пользователя этой сети. Кто такой субъект сети Facebook? Это субъект, готовый давать отчет о своем участии в наиболее передовых прогрессивных инициативах, субъект, ставящий стремление к личному успеху на благо развития всеприемлющей прогрессивной среды — то есть это идеал «Басни о пчелах» Мандевиля, тот самый, что был настолько подробно разобран Лаканом, и потом подобающим образом коротко высмеян. Здесь можно было бы привести пример самого Лакана, когда он пытается охарактеризовать желание каждого из психоаналитиков, с которыми соперничает. Я часто использую этот пример, но здесь он может приобрести в том числе иллюстративное звучание.
Известно, что Лакан в 11-м семинаре заявляет, что мог бы проиллюстрировать и, вероятно, проанализировать профессиональное желание каждого из своих коллег, например, Абрахама, Ференци или Нюнберга, только на основании того, как каждый из них относится к аналитическому переносу, притом, что речь идет о несообщаемой части отношения, указывающей на то, чем в процессе анализа каждый из этих аналитиков может наслаждаться и одновременно то, что он намерен пациенту воспретить: «Абрагам, скажем, хотел стать (пациенту) вполне законченной матерью. Что касается теории Ференци, то я мог бы, смеха ради, прокомментировать ее на полях знаменитой песенкой Жоржюса „сын-отец“. Есть свои намерения и у Нюнберга — в своей действительно замечательной статье „Любовь и перенос“ он явно претендует на позицию судии сил добра и зла, в чем нельзя не увидеть покушения на божественное достоинство».
Мы знаем, что все упомянутые Лаканом авторы выступает автором целой вселенной психоанализа, изнутри которой, к примеру, если вы знакомитесь с их теориями впервые, вам не удастся ощутить ни малейшей предвзятости. Может показаться, что речь в каждом из случаев идет о доступе к психоанализу во всей его совокупности — меняется лишь точка входа. Лакан развенчивает эту утопию равнозначности способов вхождения в теорию анализа, показывая, что никакого психоанализа помимо желания психоаналитика и связанного с этим желанием толкования ключевой позиции переноса не существует. Излагаясь как теория, психоанализ во всех случаях приобретает специфику, и последняя обязана не персональной специфике аналитика, а отражает идеал-Я самой теории, которая в основу аналитического изложения оказывается положена.
Это касается любых объектов и инстанций, которые подают себя как «глобальные» и декларативно открывающие путь к неограниченному количеству возможностей и реализаций. Так, относительно Twitter, ВКонтакте, telegram и любого медиа лишь только кажется, что пользователь, регистрируясь в «глобальной сети», действительно получает доступ к чему-то глобальному — довольно характерная ошибка акселерационистов, но не только. То, к чему субъект, ставший аккаунтом, подключается — это нечто, функционирующее как конкретно организованное желание, поддерживаемое этой соцсетью. В этом смысле нет никаких «глобальных объектов», которые можно было бы использовать как средства для действия, будучи безразличным к тому, что уже действует в этих объектах в виде прочитывающегося в них желания. И Twitter, и Facebook не просто не являются «полем», на котором может произойти все что угодно, притом что продолжая называть эти медиа «площадками», рассуждающие о них философы тем самым присоединяются к идеологии, распространяемой самими создателями и промоутерами этих соцсетей — как если бы речь шла именно о площадке в спортивно-игровом духе, об открытом месте для одобряемых попыток здоровой состязательной самореализации, стирающей старые репрессивные различия между субъектами и создающей почву для новых, приветствуемых и свежих форм различия.
Известно, что это не так — все социальные сети характерологичны, даже патологически характерологичны, и эта характерологичность со временем склонна нарастать, не умножая свежие различия, а все более отчетливо выступая проводником для старых форм изоляции и разотчужденности. Так, тот же русскоязычный Facebook в кризисный для интеллектуальной общественности момент два года назад радикально переродился в общество сословных разделений на базе суждения о гражданских добродетелях пользователей, выделяя тех, кто оказался проверен на способность к возражению против происходящего. Нет ни малейшего сомнения, что речь не о локальном кризисе моноязычного сегмента Facebook, сепарировавшегося от всемирного свободного тела соцсети, а напротив, крайнее выражение «социальной субъектности» самого Facebook, с самого начала демонстрирующего тенденцию к коммуникативной сословности (в отличие от, например, ВКонтакте, где различия между дискурсивностями пользователей всегда носили «классовый», а не «сословный» характер и тем самым были более проницаемыми). Именно субъектность самой сети, прочитывающееся в ее совокупном субъекте «желание» подталкивают к сословному разделению пользователей Facebook — в данном случае, разделению в зависимости от степени прогрессизма их взглядов и активистской готовности этот прогрессизм распространять. Если ВКонтакте достаточно примитивно сепарирует пользователей по их интеллектуальному уровню, Facebook требует, чтобы пользователи предъявляли на входе степень задействуемой ими личной и гражданской свободы, притом, что именно уровень изначальной освобожденности и делает субъектов сословного общества различными, одновременно поддерживая это различие как соответствующее параметрам внутреннего сословного разделения — то есть, закрепляя базовую несвободу на уровне самого общественного устройства.
Тем самым акселерационизм, культивируя разнообразные формы чувствительности к происходящему «новому», в то же самое время в полной степени заражен нечувствительностью к этим упорным и старым различиям и диспозициям, воспроизводящимся там, где их не замечают из-за захваченности предвкушением того, что может появиться в будущем. Мы постоянно тем самым забываем прописные, восходящие к раннему марксистскому анализу истины, согласно которым даже наиболее ключевые вопросы — например, вопрос о том, «глобален» мир или «локален» — также является вопросом философии определенного типа, которую при этом нельзя определить в координатах, которые она сама использует. Когда Маркс называет подобный стиль философствования порождением буржуазной идеологии, он не претендует на еще одно глобальное обобщение, и в то же время не низводит эту мысль до частного случая всего лишь мнения, а лишь дает понять, что у этой мысли есть свое место и время, время как место, даже если придется определять его время не буквально хронологически, а посредством сложной процедуры, требующей структурного хитроумия, поскольку точка, в которой риторика условно буржуазного философа может иметь место, расположена сразу на нескольких плоскостях. Маркс тем самым напрямую предвосхищает лакановский заход в топологию, показывая, как именно высказывание анархиста или социалиста его собственного времени может располагаться более чем на одной хронотеоретической поверхности — например, быть постгегельянски критическим и одновременно наивно догегельянским. Подобное поливалентное расположение высказывания не снимает вопроса о его специфичности и тем более не делает его глобальным высказыванием, или же высказыванием о «чистом глобальном». Напротив, в нем самом требуется искать противоречие, порождающее контраст между этим высказыванием и его собственными условиями — противоречие, которое всегда конкретным и определенным образом расщепляет позицию говорящего.
Тем самым мы подходим к данному нами вначале определению формализма и, в частности, к вопросу о том, что именно в формализме позволяет развернуть его как в том числе политический проект. Я обращаю внимание на то, что этот разворот не призван буквально произвести из формализма определенную философию политики — речь именно о политическом потенциале самого формалистского подхода, и это напрямую подводит нас к определению того, чем является жижековский проект, в особенности (и здесь трудно скрыть мое распределение симпатий к разным периодам работы Жижека), в раннем и ранне-среднем периодах его учения. Что отличает работы Жижека — так это то, что, говоря о связях, Жижек всегда ставит в то же время вопрос о выборе: то, что в постделезианстве никогда не присутствует.
С одной стороны, для многих именно это отсутствие определяет присущее делезианской линии очарование скольжения от одной альтернативе к другой, не ставящей под вопрос выбор, совершенный на предыдущем шаге, но именно это делает данную линию проектом, который не может быть расширен в область политического. При этом здесь возникает скользкое место, совершенно особая развилка. Должны ли мы спрашивать о выборе тем сентиментально-наставительным образом, в котором субъект все еще мыслится как обреченный на добродетель мужества совершения выбора? То есть, можем ли мы все еще удовлетворяться тем, что о выборе, к примеру, нам сообщил экзистенциализм?
На самом деле здесь полезно взглянуть, как именно распознавание не столько существа, сколько самих эффектов, производимых процедурой выбора определяет различные теоретические формации. Ни в коем случае не морализируя и не абсолютизируя выбор, необходимо произвести различие между тем, как с необходимостью выбора обращается экзистенциализм, полагающий, что субъекта постоянно одолевает соблазн выбора не совершать, и, с другой стороны, с подходом, который видит ряд соблазнов, вписанных в саму процедуру выбора.
Мы знаем, насколько утомительной и в определенном смысле пассивно-агрессивной может быть экзистенциалистская философия: и если как проект она долго в интеллектуальной истории не задержалась, то именно потому, что ее представители не смогли определиться, следует ли им остановиться на жалобе на неспособность субъекта делать выбор или же на требовании его совершить. Другими словами, данная философия так и не смогла высказать отчетливые пожелания к предполагаемому ей субъекту, вследствие чего этот субъект оказался расщеплен уже на уровне попытки его помыслить. Мы знаем, что существует притча, ставшая экзистенциалистским фирменным знаком: притча о субъекте, как будто уже сделавшем свой выбор. В работе «Экзистенциализм — это гуманизм» Сартра рассказывает хорошо известную сегодня всем изучающим философию историю о юноше, который приходит к нему с вопросом о том, следует ли он отправиться на войну, ввиду того что Вторая мировая уже предъявила свои требования к европейскому субъекту, или же он должен остаться со своей матерью, нуждающейся в поддержке, до того потерявшей на этой же войне еще одного сына, его старшего брата. Сартр пускается в длинное рассуждение, выводом из которого становится то, что выбор представляет собой предельный итог самой способности разместиться в неустойчивости выбора. Выбор — это что-то такое, что не покажет, чего субъект на деле стоит: Сартр настаивает на том, что никакого выбора нет в том смысле, в котором каждый сделанный выбор будет иметь особые последствия. Но сам морализм этих особых последствий, настояние на том, что совершенный выбор каким-то образом должен на судьбе субъекта сказаться, что здесь происходит то, что Сартр называет принятием ответственности, — вся эта громогласная риторика на самом деле может быть очень легко упразднена применением представления о выборе, которое предлагает психоанализ.
Мы знаем, что Фрейд тоже утверждает, и вместе с ним в дальнейшем это утверждают психоаналитики, что субъект всегда уже выбор сделал, поскольку в его случае этим заведует, субъект бессознательный, который по преимуществу занимается актами выборов. Но, по всей видимости, если бы Фрейд мог прокомментировать сартровский пример, то он заметил бы, что предлагаемое Сартром в качестве неотвратимой дилеммы, является дилеммой ложной, потому что субъект действительно сделал выбор, и, вероятно, что этот выбор не в пользу первого, но и не в пользу второго. Он не желает погибать на войне и не желает оставаться с матерью, которая, по всей видимости, могла вследствие произошедшего с другим ее ребенком стать крайне докучливым субъектом, донимавшим единственного оставшегося сына своими печалями и опасениями. Очевидно, что герой притчи желает чего-то еще, и именно поэтому к Сарту и приходит. По всей видимости, перед нами субъект, который может позволить себе роскошь обойтись безо всякого выбора, потому что есть то, чего он уже желает, и это то, что он не выбирал. По всей видимости, это могут быть более приятные или же более рискованные вещи — может быть, поездка к девушке или путешествие — но совершенно не то, что Сартр полагает бинарностью его якобы основного морального колебания.
В этом смысле сам вопрос выбора вовсе не обязательно предпосылает моральную философию верности альтернативе заложенной в выбор или проявлению мужества перед необходимостью выбора. Существует также развиваемый Жижеком подход, заново определяющий выбор и позволяющий его помыслить как-то, что имеет своим пределом неудачу выбора.
Речь не идет именно о выборе неудачном в качестве его итога, включая, в том числе, кьеркегоровские коннотации любого выбора как неудачного в предельном смысле («выбирай что угодно: ты все равно раскаешься»). В жижековской философии речь идет о другой неудаче, возникающей на стадии уже совершенного выбора, или выбора, ретроактивно распознаваемого как совершенный. Каждый выбор демонстрирует заложенное в рассматриваемую альтернативу логическое соскальзывание с одновременным актом отступления в моменте завершения такта как будто уже свершившегося выбора. Таким образом, Жижек предлагает совершенно новую мысль о выборе, в которой субъект не отказывается от выбора — то есть сам по себе выбор не является тем, перед чем субъект замирает, как в крайне искусственном и обсессивном примере Сартра. Напротив, как правило, субъект совершает тот или иной принципиальный выбор — по крайней мере, на словах — без малейших колебаний, но при этом делает все, чтобы в итоге свой выбор дезавуировать. Сам выбор при этом никогда не составляет проблемы, но при этом субъект выбирает так, чтобы заявленный им выбор в итоге предать. Жижек приводит массу примеров, при помощи которых доказывает, что так оно и есть, и что акт выбора существует, но устроен он как саботаж.
Связи в этом саботировании выбора играют важную роль, но это больше не те связи, которые могут обеспечивать благоприятную новизну и одновременно упразднение прежних, устаревших и закрепощающих связей. Связи, с которыми работает жижековский анализ, больше не делятся так, как делятся в используемом Делезом спинозианском учении аффекты — пассивные и активные, подавляющие и ослабляющие субъекта или усиливающие его и открывающие для него возможности. Речь теперь идет не о сильной или слабой степени интенсивности состояний субъекта, возникающих благодаря связям, а о слабости или же силе самих связей.
Чтобы не ограничиваться примерами, приводимыми в жижековских текстах, разберем особый пример, который обладает сегодня все более нарастающей остротой в том числе ввиду того, что многие детали, которые могли бы войти в его обсуждение, на территории России запрещены к озвучиванию. Так или иначе, пример этот показывает, как именно в акте выбора происходит образование того, что в дальнейшем призвано выбор подорвать. Речь идет о том, что продолжает сегодня обсуждаться под видом выбора гендерной идентичности или же возможности осуществления любви в отношении любого субъекта независимо от его идентичности или собственной ориентации. По данному вопросу с самой общей точки зрения мы находимся в ситуации, претерпевающей обратное развитие: я имею в виду происходящее сейчас свертывание общедемократического представления о гендерном многообразии, позволяющее субъекту свободно пришвартовываться к любым идентичностям или ориентациям. Находясь в определенным образом ориентированном политическом пространстве, мы волей-неволей не демонстрируем никакого прогресса в направлении принятия этой максимы. Принято считать, что это до некоторой степени лишает нас права ее обсуждать. При этом, тем не менее, обсуждение вполне возможно, если опереться на предложенные Жижеком координаты, также вводящие несовпадение развиваемой им критики с общепринятой в определенных кругах бескомпромиссно либеральной линией.
Именно эта линия, будучи поверена вытекающим из жижековского метода подходом, демонстрирует то, что можно назвать «дезавуированием выбора», его более поздним подрывом. Говоря о «позднем», я отсылаю к логическому времени: речь не о том, вполне тривиальном обстоятельстве, что субъект может быть впоследствии недостаточно верен сделанному выбору (например, оказаться соблазненным легкими путями), а в более принципиальном, заложенном Лаканом смысле невозможности, наличие которой не давало о себе знать, пока выбор сделан не был.
Как подобный пример может выглядеть? Сама логика велит взять эпизод, иллюстративность которого заключается не только в его злободневности, но и в том, что сам по себе он непосредственно вокруг вопроса выбора выстроен. К примеру, когда консервативно настроенный критик идеи гендерного многообразия заявляет, что субъект не может совершить выбор собственной гендерной идентичности, поскольку, якобы, никто не выбирает быть ли ему мужчиной, женщиной или, тем более, кем-то еще, такой критик, оставаясь одиозной фигурой, тем не менее, проговаривает истину на другом уровне: сторонник квир-теории действительно не может предпочесть альтернативную гендерную идентичность пока не совершит иной выбор — выбор в пользу представления, что идентичности подлежат выбору. Даже если это не «выбор между» (очевидно, что идентичность не избирается как костюм среди множества костюмов), речь идет о совершаемом субъектом выборе-признании своей идентичности — и по этой причине вопрос в том числе внешнего признания становится для носителя такой идентичности настолько острым. Без логической посылки, что идентичность — это предмет выбора, по всей видимости, невозможно определить, чем именно занимаются те, кто отстаивает идею гендерного и ориентационного многообразия.
Само логическое первенство концепции выбора не снимается указаниями на то, что существует, к примеру, истинная гендерная дисфория, которая заставляет страдающего ей субъекта вынужденно прибегать к квир-доктрине, открывающей для него возможность личного выхода. Выбор в пользу самой доктрины «свободного выбора» все равно остается логически первым выбором, и когда консерватор на это указывает, можно признать известную справедливость его суждения. Небинарный или иным образом вариативно определяющий свою идентичность или ориентацию субъект в первую очередь выбирает не ориентацию или идентичность, а саму по себе чрезвычайно усиленную связь между свободой и выбором — и это нечто, выходящее в его случае за пределы общераспространенных и абстрактных представлений о «свободном выборе».
Именно с актом данного выбора связаны стихийно возникающие консервативные нападки на ЛГБТ-активизм (я отдаю себе отчет, что в именовании этого движения гораздо больше букв, но поскольку, как уже было сказано, на нашей территории произошло своеобразное замораживание этого термина, мы можем продолжать его использовать не в роли точного и полного определения всех входящих в него групп, но скорее в виде символа определенной политики). В нападках на политически активных представителей ЛГБТ обычно утверждается, что выбор в пользу ЛГБТ является невозможным, потому что базируется на неверных посылках: развиваемая этими нападками логика обычно считывается слева как указание на маскарадный, ширмовый характер ЛГБТ-идеологии и ЛГБТ-движений, позволяющих «меньшинствам» лоббировать их девиантные влечения в качестве варианта нормального образа жизни. Такого рода критическая рамка, в которую нападка справа характерным образом помещается левой стороной, представляет собой типичную слепоту либерально настроенных левых, поскольку в историко-философских координатах все обстоит наоборот: условный консерватор — это не тот, кто слепо доверяет дихотомии «естественного как прекрасного и подобающего» (например, «естественного» влечения мужчины к женщине) и, с другой стороны, «исковерканного», или «искусственного» влечения как попирающего пути приличий и нравственного идеала. Напротив, философы знают, что подобная дихотомия как раз лежит в основе самой либеральной идеологии, восходящей к Ж.-Ж. Руссо. Именно либерализм склонен объявлять существующие варианты — например, варианты ориентаций или идентичностей — «естественными» при условии, что носители этих вариаций демонстрируют готовность вписаться в существующий общественный консенсус, тогда как консерваторы в наименьшей степени склонны примату «высшей», или всеоправдывающей естественности доверять, поскольку поддерживаемому ими варианту субъектного поведения больше подобает доверие к разделяемой в настоящий момент большинством и при этом явно сконструированной и искусственной норме.
Это приводит к тому, что консерватор, до какой бы степени он насчет самого себя ни обманывался, в оценке своих противников действует из более реалистичной логики, которая в гораздо большей степени учитывает институциональную сторону происходящего и реальность идеологической работы, совершаемой на этом уровне. Тем самым условный «правак», как не раз замечалось, гораздо серьезнее относится к факту принадлежности ЛГБТ-движению, чем точно такой же условный представитель последнего, который всегда может сказать: «Я поддерживаю ЛГБТ-движение просто потому, что его борьба приближает день, когда мне удастся вписать мою идентичность/ориентацию в рамки общественной нормы». Тем самым он дезавуирует и отрицает свою «верность» самому политическому проекту, низводя его до всего лишь инструмента достижения более комфортного существования. Что как будто боится сказать приверженец движения ЛГБТ, так это то, что предельная цель существования самого движения состоит в том, чтобы объявить следующее: проблемы ЛГБТ-движения касаются не только тех, чья ориентация или идентичность представляют собой нечто не вполне тривиальное — вместо этого речь идет о более тотальной постановке под вопрос любой идентичности и ориентации как находящихся за пределами дихотомии «врожденное/приобретенное в ходе социализации». Другими словами, предельная цель ЛГБТ-повестки — это не адаптация общества к соответствующей проблематике с целями повышения его способности принимать тех, кто делает «иной выбор», ориентационный или гендерный, а политизация любого выбора, превращение его в процедуру, объемность которой никак не коррелирует с его возможной тривиальностью.
В этом смысле ЛГБТ-повестка может касаться не-ЛГБТ-людей не в том, обычно предполагаемом демократическом дискурсом смысле, в котором не-ЛГБТ-население должно быть просвещенно, осведомлено о наличии «меньшинств», чтобы более ответственно, сознательно и бережно определять свое отношение к ним, а в том, в котором любому субъекту, вероятно, надлежит в течении жизни проделать то же, что ЛГБТ-субъекты в настоящий момент делают вынужденно — пристрастно подойти к процедуре собственного определения, пройдя на счет последнего через объем колебаний равномощный тому, что совершает носитель изначально неконформного влечения/идентичности.
Излишне говорить, что большая часть ЛГБТ-активизма никогда таким образом цель не формулирует — речь напротив всегда идет о том, чтобы максимально упростить, депроблематизировать любой идентичностный выбор, при том что логическое тяготение, напротив, к углублению проблематизации заложено в формулировку проблемы идентичности изначально. В этом отношении точно такая же предельная претензия, исходящая от гетеросексуальных и цисгендерных противников ЛГБТ могла бы быть сформулирована следующим образом: «Вы говорите, что не выбирали свою негетеросексуальную или трансгендерную идентичность и что на этом основании мы должны оставить вас в покое. Но не хотите ли вы тем самым далее сказать, что проблема как раз в том, что и мы ничего не выбирали — то есть, не осуществляли самой работы выбора — и уже поэтому вы не можете оставить в покое нас?»
Эта претензия выглядит глумливо, когда озвучивается консервативной стороной, чья упрямая нетерпимость полагается сегодня единственной характеризующей ее чертой. Но мы настолько приучены к социальной добродетели возражения любой реакционности, что не способны отдать этой условно консервативной стороне должное — то есть, признать ее полноправной участницей дискуссии. Речь идет не о тривиальности, согласно которой в публичной дискуссии необходимы т. н. «разнообразные мнения», иначе она не является полноценной. Известно, что мнение консервативной стороны является крайне однообразным, так что уже на этой основе можно требовать от нее временами помолчать хотя бы из эстетических соображений. Но при этом то, в чем действительно данной стороне отказывают — это в наличии возможного акта высказывания — того самого измерения речи, которое с буквально сказанным не совпадает. В этом смысле, когда консерватор бывает задет тем, что его высказывание отвергается с порога, он на деле — не осознавая этого — ждет не внимания к буквально высказанному, а права на истолкование и реконструкцию его речи. То есть он ожидает, что интеллектуал, к которому он апеллирует, проделает в отношении его речи ту же самую работу, которую интеллектуал обычно совершает в отношении речей, то есть произведет ее реконструкцию.
Это требование — возможно, единственный и главный и в то же время самый большой недостаток консервативной позиции: ей всегда не хватает легитимирующего толкования извне и в то же самое время она на него неограниченно склонна рассчитывать. Эту ситуацию можно было бы назвать «симптомом Хайдеггера», совершенно особая вина которого состоит не в том, что он сделал неверный политический выбор и не сумел достаточно внятно в дальнейшем проработать его, увидев его ошибочность, а в том, что Хайдеггер с самого начала слишком полагался на возможное и желаемое им истолкование своих текстов в максимально непрямом и глубоком ключе, который снял бы вопрос о любом, даже самом неприглядном выборе, если он в конечном итоге является выбором в пользу могущества все еще не помысленной мысли о Бытии. Известно, что подобный карт-бланш максимально онтологически приподнятого и лишенного даже малейших признаков социальной критики толкования Хайдеггер долгое время получал при жизни — именно это позволило ему с большим достоинством, даже некоторым высокомерием держаться с корреспондентами «Шпигеля», взявшими у него знаменитое интервью в 1966 году. Последнее было призвано вывести его на чистую воду и заставить признать глубокий bias всей его тогдашней философии — задача, не увенчавшаяся успехом, поскольку Хайдеггер, даже будучи в статусе практически допрашиваемого, смог указать на ряд глобальных соотношений современности, подтверждающих его более ранние выводы относительно существа науки и техники, создающих в современности предсказанные им ранее диспозиции. Вероятно, своеобразным решением «хайдеггеровского вопроса» было бы такое отношение, которое избежало бы как сверхдетерминации его текстов нестираемым фашистским аргументом, так и прекратило бы их постоянное спасение извне в пользу открепления их предназначения от любой политической ангажированности. Вместо этого следует видеть
В то же время мы видим, что неравный Хайдеггеру обобщенный и тривиальный консерватор — это субъект такого рода соотношений, в которых ему отказано в более подробном толковании того, что он говорит и делает, то есть отказано в специальной реконструкции того, на что он хочет указать. Тем самым тот обмен сообщениями, который был реконструирован выше, никогда в среде реальной дискуссии не совершается. Невозможно напасть на такую дискуссию в социальной сети, где подобная беседа имела бы место, и это та причина, по которой данные дискуссии никогда не доходят до наиболее глубоких пунктов, ограничиваясь бессмысленными и абстрактными противопоставлениями свободы и общественной морали.
В этом смысле бесполезно опираться на обычные лево-либеральные сущности, посредством которых либеральная мысль объясняет поведение реакционного субъекта — ксенофобия, гомофобия — все эти понятия, еще недавно поддерживающие происходящие по всему миру демократические транзиты изначально лишены смысла, поскольку нет никакой специальной гомофобии, социально встроенной в субъекта, как нет, вероятно, к примеру расизма (я не имею в виду, что не существует теоретического обоснования расизма: речь лишь о том, что психологический расистский комплекс является не причиной возникновения этих обоснований, а лишь надстройкой над тем, что происходит в момент функционирования пары — к примеру метрополии и колонии. Разворачивающееся между ними насилие обязано установившейся сильной логической связи между совершаемыми ими актами в качестве эскалирующих конфликт элементов, и в основе этой связи также лежит сама метафора выбора, который не делает ни одна из сторон, что как будто развязывает руки одной из них, а в случае эскалации конфликта — обеим).
Соответственно, в этом пространстве нет никакого дополнительного взятого напрокат пространства для образования новых связей и выбора в их пользу — социально-благоприятных связей, заставляющих субъектов горизонтальным или каким-то иным новым образом друг к другу относиться: тем самым вся акселерационистская риторика, и в том числе активизм, работающий с принятием «иного» и «чуждого», оказывается бессильными. Особый, присущий жижековскому подходу «реализм», наличие которого сам Жижек нередко подчеркивает (притом, что его существо он зачастую оставляет без определения), состоит в том, что, вероятно, не существует вопроса о том, как можно образовать более благоприятную новую связь. Вопрос ставится лишь в отношении того, как сделать уже существующую сильную связь более слабой, поскольку именно это в данном случае и будет «политическим действием». Именно поэтому в том периоде, когда Жижек еще мог позволять себе высказываться о текущих конфликтах, не делая множества обязанных их невыносимой актуальности оговорок, он каждый раз настаивал на том, что необходимо ослабить ту или иную лежащую в их основе связь.
Именно поэтому Жижек занимает совершенно особую позицию, в том числе в палестино-израильском конфликте, который сейчас ему приходится обсуждать с такой осторожностью. При этом Жижек образца «Ирака и истории про чайник» прямо заявлял о том, что есть возможность разрубить гордиев узел, начав, согласно предложению Ицхака Рабина, договариваться с реально существующими политическими субъектами, требующим создания палестинской государственности, притом, что сами эти субъекты не являются носителями государственности. Необходимо прекратить характерную риторику, выражающую позицию израильского государства, которая требует образования сильной связи: ведения беседы о государственности, осмысления возможной государственности Палестины только с субъектами, которые могут представлять собой государственность легитимным образом. Вместо этого необходимо говорить о государственности на уровне слабой связи, то есть с субъектами, общности которых как раз не описываются метафорой государственности и которые не функционируют на предполагаемом государственностью уровне.
Сильные связи, замещающие возможные слабые, постоянно обнаруживаются Жижеком также в процессах, носящих условно прогрессистский характер — например, в распространении демократических режимов (почти всегда расширяющих свое влияние благодаря сильной связи между очередным демократическим лидером и популистским настроем населения на «перемены»). Также присутствие патологически сильной связи обнаруживается в характере функционирования «секулярной» морали светских государств, поскольку за эмансипирующей индифферентностью, к которой эта мораль внешне субъекта приучает, сокрыто наличие сильной связи между непреодоленными ветхозаветными заповедями и зонами, в которых современный субъект претендует пользоваться свободой и персональными правами, поскольку сами границы этих зон, как замечает Жижек, продолжают оставаться отчетливо привязанными к формулировкам заповедей. Именно данная связь (а не заповеди по отдельности или же якобы полностью эмансипировавшийся благодаря европейскому Просвещению субъект сам по себе) заставляет современного субъекта совершать большое количество дезавуирований совершаемых им выборов, что делает положение этого субъекта парадоксальным, расщепленным и потому невротичным на уровне самой его социальной репродукции, свидетельством чему, как известно, и является весь психоанализ.
Именно эти сильные связи нужно принимать во внимание, одновременно смещая ситуацию в сторону действенности более слабых связей или замещения сильных связей более слабыми, и поэтому уже в «Возвышенном объекте идеологии» Жижек показывает, как субъект современности продвигается от метафоры к метонимии, как, собственно, и вся континентальная философия XX века, которая совершает разворот к метонимии по той причине, что предполагаемая ей связь более слаба, и это открывает место для других решений. В этом смысле как раз и возможно говорить о политическом действии, которое в данном случае предполагает возможность поместить слабую связь на место сильной.
При этом слабая связь вовсе не ассоциируется с меньшим влиянием, оказываемым ей на ситуацию: напротив, в «Исчезающей теории» я говорю о чрезвычайной влиятельности связей еще более слабых, нежели предполагаемые метонимией — притом, что некоторые связи могут быть организованы за пределами самого отношения, создаваемого в диапазоне метафоры-метонимии: то есть, больше не описываться через переключение между сгущением и смещением. Слабость связи также коррелирует с создаваемой связью большей селективностью: так, чем сильнее связь, тем большее количество событий в ситуации она претендует порождать и описывать и тем, соответственно, меньше ее мощность для генерации и описания каждого из этих событий по отдельности — именно это можно поставить сильным связям в вину и именно с этим можно связать характерное демонизирование метафоры, происходившее в самом конце процесса, запущенного структурализмом. К концу XX-ого века на метафору систематически начали возлагать вину за ее «дьявольскую» способность одурманивать критический разум — мы хорошо помним осуществленное Лакоффом разоблачение роли метафор в поощрительной риторике, окружавшей ситуацию войны США в Персидском заливе. При этом единственный порок метафоры состоит не в ее особом существе, позволяющем подобные злокозненности, а в том, что она является слишком значительной по силе связью. Вероятно, Жижек мог бы сказать, что здесь необходимо правильно определять агента лжи: то есть, признать, что лжет не метафора, а субъект — но лжет он по причине того, что создаваемая метафорой сильная связь не оставляет ему выбора.
Напротив, чем более слаба действующая в ситуации связь, тем менее субъекты, оказавшиеся в ее зоне, демонстрируют необходимость к дезавуированию выбора прибегать. Само наличие действующей слабой связи наносит удар по неселективности сильных связей.
Ставка на слабую связь как на возможность предотвращения дезавуирования совершаемых субъектом выборов и есть то, что делает проект Жижека оригинальным, потому что проекты, объявляющие себя политическими, как правило, начинают с того, что, осознанно или же нет, помещают на место слабых связей — или связей, которые сами они считают слишком слабыми — сильную, снова и снова требуя принятия решений в условиях ее действия. При этом сила или слабость связи не измеряются ее политической целью: так, например, проект Юргена Хабермаса, известного своими призывами к смягчению насильственных коммуникаций и устранению преобладания их «вертикальных» форм в пользу делиберативности и горизонтальных актов, все еще является проектом, кладущим в свою основу идеал сильной связи между «пониманием» и «согласием» — связи, которую в мире хабермасовской этике еще только предстоит создать и поддерживать, устраняя «соскальзывание» в область слабых связей (например, в область речи, которую Хабермас считает недостаточно «иллокутивной», т. е., не способной обеспечить достижение равного уровня понимания у всех собеседников).
Напротив, возможность объявить порождающей изменения именно слабую связь, по всей видимости, является основной жижековской заслугой. Это то, что, вероятно, еще ни разу не было положено в основу существующих политических проектов, но при этом делает политической самую жижековскую теорию и отвечает на вопрос о том, каким образом формализм как теория смещения в диапазоне от сильных связей к слабым может находиться в основе мысли о политики.
Вопрос: Правильно ли я понял, что в вашем понимании и в то же время в синхроническом жижековском понимании выбор состоит именно в акте торможения на требования Другого? Это примерно то, что вы говорили как раз на третьем году «Лакан-ликбеза» о понимании поступка у Лакана.
Да, совершенно верно. То есть вместо того, что можно назвать слишком разогнанным метаболизмом выбора — а метаболизм, который мы видим в том же экзистенциализме, постоянно требует совершения выбора или верности выборам — требуется, напротив, говорить о том, что здесь возникает основа для замедления. Это может показаться необычным, поскольку положение невротика навязчивости очень часто связывается с тем, что, якобы, он не может сделать выбор. Это верно, но с определенными оговорками, которые могут поставить под сомнение то, что, как нам кажется, о невротике нам уже известно. В «Ликбезе» я подробно описывал, как обстоит дело с навязчивостью, указывая на то, что дело не в том, что субъект навязчивости выбор не совершает: напротив, он совершает слишком много выборов. Более того, именно субъект навязчивости является образцовым субъектом раннепсихоаналитической мысли Фрейда, потому что он как раз и есть тот, кто полагает, что выбор он уже сделал. Именно поэтому он склонен к пассивности. Этим объясняется его прокрастинация. Он лишь ждет, когда собственно сделанный им выбор подействует или сработает. То есть субъект навязчивости слишком доверяет самой философии выбора.
Вопрос: Можно выразить тогда, что политическое, опять же, ссылаясь на то определение, которое вы давали в «Лакан-ликбезе», что политическое — это целенаправленная деятельность, которая на самом деле цели никакой не имеет. Она имитирует целенаправленную деятельность. Можно ли сказать, что в данном случае на сегодняшний день, политика и субъект политики является обсессивным?
Возникает вопрос, о какой политике идет речь. Если политику рассматривать в сильном смысле, то есть все еще видеть в ней то, что мы вписываем в политическое исходя из проекта XX века, так называемая большая политика, то ее субъект, несомненно, обсессивен. Но если говорить о той политике, что иногда называется низовой, хотя это тоже не самое удачное определение, то есть о тех политиках, в которые в том числе усилиями акселерационистов или постколониолистов вовлекается субъект, то, по всей видимости, нам приходится говорить об истерическом ядре. При том, что было бы некорректно и политически несправедливо упрекать в истерическом складе или в подверженности истерическому неврозу самих носителей этой политики. Речь именно о том, как определена сама политика, то есть как функционирует в ней ускользающий объект желания.
Вопрос: То есть, скажем так, по крайней мере, как в моих воззрениях, было, что текущая российская политика, в том числе внутренняя, среди разных групп, она в большей степени истерическая. И это подмечалось некоторыми мыслителями на уровне некой такой тяги к апокалипсису и к отрицанию. Ну, если брать экзистенциалиста Эмиля Чорана, либо Владимира Бибихина, который описывал такой карнавальный подход к действительности в русском политическом пространстве.
Да, совершенно верно. Это правильно размечает саму возможность рассуждать об истерии, потому что с времен медикалистского определения в конце XIX века принято полагать, что истерия это что-то такое, что стремится привлечь внимание к самому носителю невроза. То есть истерия представляет собой небескорыстное зрелище, изначально она мыслилась как-то, что доставляет слишком много удовольствия, приносящее удовлетворение страдающему ей субъекту, потому что тем самым он получает удовлетворение потребности во внимание. Но очевидно, что шаг, совершенный далее Фрейдом и развитый Лаканом, показывает, что необходимо снять с истерии эти обвинения. То есть то, что характерно для истерии, это защита самой зрелищности. Только лишь вынужденно, не имея возможности перейти к тому основному, что истерика занимает, он являет в виде зрелища себя самого. То есть речь о мере отчаяния, о последнем шаге, о том, что истерик хотел бы сделать в последнюю очередь, потому что, напротив, его основным желанием является желание внимания не привлекать. То есть привлекающий внимание истерик — это не плод того, что можно назвать распущенностью болезни, а напротив, это то, что было отложено про самый запас, то есть под самый конец проекта. Это то, что истерик для себя не резервировал, то, на что он не имеет права, но то, что ему приходится делать, потому что-то, что в качестве зрелища должно выступить с его точки зрения основным, то, что должно привлечь внимание в качестве главного зрелища, никак не наступает. Именно поэтому положение истерика отмечено такой отчаянностью и, как правило, истерический невроз полагает больше отягощенность, нежели навязчивость, в том, что касается его протекания и образования конверсионной симптоматики. То есть истерика по тому в отчаянном положении, что он делает то, что совершенно не планировал, но что делать приходится, потому что ничего не происходит.
Вопрос: Вы говорите об определенном паритете, с одной стороны, так называемых оголтелых консерваторов, с другой, представителей ЛГБТК+ движения, что и у тех, и других есть конкретные ощущения, переживания и проблемы с темой выбора. И не кажется ли вам, в принципе, вот этот вопрос о выборе не настолько, скажем так, прозрачный, не настолько прямой в тех условиях, когда с одной стороны, в отношении оголтелых консерваторов, мы имеем группу, которая совершает насилие по отношению к другой, а с другой стороны, мы имеем дело с, опять же таки, социальной категорией, которая сталкивается с историческим угнетением, отстранением и другими невзгодами. И вот, в принципе, этот конфликт, он как бы делает вот те, казалось бы, одинаковые противоречия, связанные с темой выбора, неравномерными. И в любом случае, мы имеем, с одной стороны, тех, кто совершает насилие, кто обладает господствующим положением и проводит некую господствующую позицию, с другой стороны, мы имеем тех, кто угнетен, странных, инаковых и могут действительно быть неким иным проектом, неким другим взглядом на выбор. Как вы на это бы ответили?
Да, я поэтому сказал об асимметричности этого противостояния, то есть о том, что позиция консерватора в нем является циничной, к позиции защитника прогрессивных ценностей могут быть определенные вопросы, в частности, те, которые я сегодня поставил, но очевидно, что циничной она не является. То есть момент насилия здесь, во все видимости, будучи отмеченным, описан соответствующим образом, должен быть также смещен в сторону указания на то, что, соответственно, сам корень насильственности происходит из-за циничности. Эта циничность являет собой не моральное свойство, то есть не ту аморальность, которая содержится в производстве насилия, а с тем, что здесь полагает себя вправе выносить суждения на основе той логической многоэтажности, опять же, несимметричного порядка, с которой начинается вопрос выбора. Я сказал, что субъект так или иначе дезавуирует собственный выбор, и тот, кто возражает против ЛГБТ-движения или ЛГБТ-проектов, полагает, что он может это делать на основе того, что данные субъекты не сделали свой выбор до конца, то есть они не смеют распространять требования выбора на всех прочих. Здесь и возникает та самая конкретная асимметрия, которая развязывает руки. То есть очевидно, что это не делает противостояние симметричным. Очевидно, что если противостояние будет разобрано с точки зрения самого носителя консервативной позиции, то есть его спросят, что именно произошло, он будет вести себя так, как если бы на него нападали. Именно так консерваторы держатся. Они считают, что субъект с нетрадиционной ориентацией, идентичностью, каким-то особым, может быть, еще не описанным сегодня выбором совершает нападение, при том, что, разумеется, субъект, как носитель этого особого выбора, утверждает обратное. Он полагает, что даже в том случае, если он отстаивает свои права, это не означает, что он нападает каким-либо образом. Но нападение и ощущение того, что на нападение необходимо несимметрично ответить, как, собственно, консерватор отвечает, здесь совершается на другом уровне — на уровне самой логики преданного выбора. Консерватор распознает субъекта с более нетрадиционными установками, как большего предателя, чем сам консерватор. Но придаются опять же не традиционные ценности, а именно то, что заложено в основании самой логики выбора.
Вопрос: Из такой логики, на консерватора не нападают, но на ЛГБТК+ субъекта, на него же нападают. То есть он тот, кто реально сталкивается с нападением.
Нет, я говорю не о том, что на него нападение не совершается, а то, что делает возможным нападение, это практикуемая консервантом циническая позиция, то есть речь не об отвращении к инаковости, речь не о защите того, что называют традиционными ценностями. Эта циническая позиция связана с логическими условиями самих сторон выбора. То есть там, где акселекционизм, невзирая на свое существенное движение в сторону от психологии, то есть возражение психологическим способам толкования происходящего, в том числе в области или ситуации насилия, там, где акселекционизм все еще полагает, что существуют воспитываемые добродетели, например, закрепляются более благоприятные горизонтальные связи, отношения между участниками сообществ или сообществами как таковыми. Я полагаю, что жижековский формализм позволяет как раз вскрыть логику ситуации, то есть те логические напластования, которые в ситуации имеют место и которые в итоге могут действительно заставлять участников вести себя агрессивно, к примеру, если сторона считает, что она была предана другой стороной, то есть консерватор буквально уверяет, что если носитель ЛГБТ-ценности более морален, а именно как будто с точки зрения консерватора ЛГБТ-представитель настаивает на этом, то есть именно здесь можно отбросить вопрос о существовании традиционных ценностей, потому что тот совершенно неверно располагает происходящее, в том числе в области оценки движения этих ценностей в самом конфликте, потому что если говорить о движении ценностей именно в конфликте, то очевидно, что консерватор полагает ЛГБТ-представителя не испорченным, а напротив, превосходящим его морально. И эту риторику можно заметить в функционировании споров в соцсетях, когда кто-либо, чувствуя себя задетым в том случае, когда его позиции определены как реакционные, начинает апеллировать к противоположному субъекту, предположительному субъекту слева, указывая на то, что тот, по всей видимости, носит слишком белый плащ.
Вопрос: Я хотела бы вновь вернуться к вопросу о выборе и снова затронуть тему постделезианства и акселерационизма. Йоэль Регев, достаточно известный постделезианец, как и Калп, вводит такую фигуру ленивца, называемого им прокрастинатором, и, разумеется, для него это новый революционный класс прокрастинаторов, которые своим решением не выбирать протестуют, таким образом, против капиталистической логики постоянного наращивания новых связей, новых идей и тому подобное. Отсюда встает вопрос: если у нас имеется всего две позиции, либо ты бесконечно выбираешь, либо ты выбираешь не выбирать, опять же, цитируя Жижика, не получается ли такая ситуация, что у нас остается исключительно такая возможность впасть в чуть ли не социалистическую логику, где мы можем только противостоять капиталистическому дискурсу таким выбором. Опять же, возвращаясь к Йоэль Регеву, свою теорию, обобщая ее, он называет онто-ленинизмом. Это намекает на какое-то пространство, на какую-то область, где у нас исключительно остается собственно капиталистический дискурс и ленинизм, коммунизм, какие-то призраки Маркса в преобразованных формах. Есть ли еще какой-то выход, третий путь?
В ходе ведения семинара «Лакан-ликбез» я был часто спрашиваем о выходе, и я полагаю, что сама риторика выхода здесь недостаточно уместна. То, что необходимо сделать, это не выход, а предприятие по перемещению активности, и это во всей видимости не может быть просто отзыванием активности, как предлагает Калп. Именно поэтому я противопоставил Жижеку не только левоакселерационизм, но и собственно все то, что проистекает из перепрочтения Делеза, в том числе темное делезианство, к примеру, постольку поскольку здесь как будто бы очаровано одной имеющейся альтернативой. То есть вместо того, чтобы совершить подмену и обратить внимание на другой член уравнения, здесь бесконечно решают одно и то же уравнение или одну и ту же операцию уравнения. С той точки зрения, которую предлагает Жижек, действительно есть возможность переопределить само место приложение усилия. То есть тогда, когда имеет место альтернатива и в нее вкладывается то, что можно усилиями назвать, всякий раз оказывается, что усилий недостаточно, потому что, по всей видимости, альтернатива не предоставляет места для поглощения усилий, то есть размерность ее усилий не такова, чтобы здесь можно было на основании усилий что-то произвести. Именно поэтому говорится о непроизводительном усилии. Но оно непроизводительное не потому, что мир капитализма перенасыщен связями, и, создавая еще больше, мы как будто бы можем порождать тесноту в том, что до того мыслилось бесконечным. А по той простой причине, что само усилие по созданию связей — это не то усилие, которое сегодня нужно совершать. Вот что, например, говорит Жижек.
Вопрос: То есть было ранее подмечено, что особой принципиальной какой-то разницы между правым акселерационизмом и левым акселерационизмом не существует, поскольку оба остаются в парадигме некоторого просвещения. Только у Ника Ланда появляется мнимая ему оппозиция в виде темного просвещения. И таким образом мы должны каким-то образом отринуть всю логику и перенаправить усилия в иную область.
Прежде всего я хочу сказать, что это не та область, которую следует создать. Действительно, то, что выступает под видом креационизма, на самом деле никогда себя таким образом не называя, в области социального действия, как правило, предполагает, что если области, где нас все бы устраивало нет, то ее необходимо сотворить для того, чтобы перейти в эту область. Сама динамика движения при этом остается неопределенной. Я полагаю, что это все очень далеко от жижековского проекта. Я не могу сказать, что я являюсь признанным читателем Ника Ланда. Говоря по совести, скорее нет, чем да. Но мне известно, что у него существует драматизирующая, усугубляющая версия акселерационизма, в которую действительно вводится дополнительный, якобы не учтенный левыми акселерационистами элемент. Но, по всей видимости, невозможность положиться на уже существующее движение производительных сил, невозможность создать пространство для иного воплощения сил не является чем-то таким, что могло бы Жижека, о котором мы сегодня говорим, занимать. Для Жижека, это, возможно, сформулировано более чем конкретно. И озвучив эту возможность, я не утверждаю, что присоединяюсь к ней полностью. Но, по всей видимости, это то, что могло бы, будучи описанным, сделать из Жижека совершенно самостоятельный проект. И это, похоже, то, чего сегодня Жижеку может не доставать. В недавнем эфире меня спросили, что Жижеком вообще было не сделано, то есть, что может мешать распространению дальнейшего влияния фигуры. Я ответил, что это, по всей видимости, открытие новой дисциплины. То есть, Жижек не изобретает новую дисциплину, хотя он находится на пороге этого. Он мог бы сделать нечто подобное. Но то, что Жижек усвоил, в частности из-за постоянно перепрофилирующего себя марксизма XX века, он удерживает твердо. Это представление о том, что, во-первых, уже существует та специфическая связь, на которую нужно обратить внимание. И есть возможность изменить характер этой связи. То есть, в чем Жижек остается марксистом, и в этом смысле, как он сам себя называет материалистом, так это в том, что эта связь уже дана. И нам необходима определенная связь, подойдет не любая. И в этом смысле, слишком широкая риторика акцелерационистов, то есть риторика, которая говорит о многих связях, многих проектах о постоянном образовании, или же о прекращении такого образования, или же создании другого типа образования, — вся эта риторика очень далека от жижековской. То есть, здесь нет указаний на то, что можно определить координаты самого противоречия, и тем самым, перейдя от противоречия к соответствующим поддерживаемым связям, произвести в связи переопределение. То есть, возможно, нужных связей больше, чем одна, но нужна нам только одна, — одной достаточно для определенной проблемы.
Вопрос: На ваш взгляд, постколониализм и экологизм — это помещение слабой связи на место сильной или эпифеномены сильной связи, империализма, протестантизма и прочего?
Очень коротко, я бы ответил, что, скорее, второе — это эпифеномены сильной связи. Но это именно эпифеномены. То есть здесь необходимо говорить не об ослаблении, но о существующих последствиях. То есть, возможно, мы здесь путаем то, что выступает в виде слабой связи и горизонтальности как таковой. И может показаться, особенно, опять же, после там акселерационизма, если скрещивать те условные набросанные в качестве координат теории, которые были сегодня представлены, то можно подумать, что как раз, например, связь вертикальная или связь угнетающая или то, что воспроизводит угнетение на разных уровнях, — это сильная связь. Так как, к примеру, те связи, которые привносят сторонники нового жизненного выбора, сторонники экологического поведения, сторонники горизонтального взаимодействия в сообществах, взаимодействия, опять же, более бережного или учитывающего возможности разнообразной самореализации — это как будто бы слабые связи. И я полагаю, что сам Жижек мог бы достаточно прямолинейно против этого возразить. То есть мы ни в коем случае не должны путать вертикальную связь с сильной, а горизонтальную — со слабой. Напротив, мы видим, что горизонтальные связи могут быть более сильными, потому что они менее селективны. Они захватывают большее количество, к примеру, участвующих в активистских движениях. То есть чем менее селективна связь, чем менее она целит в одно конкретное противоречие, тем больший социально-двигательный ландшафт она создает. И в этом отношении, я полагаю, что можно уверенно утверждать, что в случае экологизма или некоторых подвидов постколониальных движений речь идет о, возможно, даже более сильных связях, нежели в тех случаях, когда речь идет о проектах, которым эти большие и новые крупные проекты наследуют. То есть связь, вносимая, например, колониальным угнетением, может быть более слабой в отдельных своих частях. И у Жижека очень много примеров показывающих, как парадоксальным образом общество, определяемое как приблизительно более отсталое, например, в смысле приверженности, скорее дикому капитализму, нежели более позднему и развитому, может образовывать попытки действия возле таких связей, которые приводят к изменению ситуации. То есть закрепощающее общество — это вовсе не общество, где сопутствуют сильные связи. Напротив, похоже, что мы сейчас находимся в эпохе вызревания самой сильной связи, или самой сильной из возможных связей, или группы самых сильных из возможных связей. И это как раз то, что мы наблюдаем на примере дальнейшего постколониального разворачивания, то есть убежденности субъекта в том, что есть только один способ оставаться на одной волне с прогрессизмом.
Вопрос: Правильно я поняла, что консерватора, условно говоря, тревожит и бесит то, что ЛГБТ-активист предъявляет необходимость какого-то выбора по поводу своего собственного субъекта и собственной позиции, но при этом еще и малодушным образом говорит, что на самом деле от тебя мы ничего не требуем, только прими нас, как бы с нашим собственным выбором.
Да, совершенно верно.
Вопрос: Тогда как бы в этой констелляции можно было расположить полемику между Джудит Батлер и Жижеком, потому что ведь, по крайней мере, на уровне содержания, с одной стороны, теория Батлер претендует на некую универсальность, но при этом всячески делегитимирует идею выбора как таковую? То есть она же настаивает на том, что субъект, который выбирает, это слишком тираническая инстанция, что нам нужно всем как бы немножко более обратиться в сторону какой-то реляциональности. И даже какие-то такие достоевские, не знаю, обертона в ее книжке о насилии были, о том что мы все за всех перед всеми виноваты. И в этом смысле Жижек как бы выступает как тот, кто больше выражает истинный ЛГБТ-активизм. Как бы вы расположили в этой дискуссии, в этом диалоге позицию Батлер, которая с одной стороны претендует на консерватора, условно говоря, а с другой стороны говорит о том, что ему отказано в выборе, и мне отказано в выборе. И вообще такой момент выбора, это то, от чего нужно отказаться в том, как мы строим теорию социальной реальности и психологической реальности.
Если вы говорите о дискуссии из «Контингентности, гегемонии, универсальности», то Жижек там занимает позицию, которая поначалу не показалась не просто достаточно прогрессивной, но жизнеспособной, именно в свете того, что тогда прогрессивизм понимался гораздо более буквально, и сама его торная тропа была более освещенной. Многие сочли, что Жижек здесь придерживается того, чего, как правило, придерживаются слишком ортодоксальные марксисты, буквально клоня к тому, что есть, возможно, что-то в этих вопросах, делающих их неважными по отношению к вопросам, более существенным, скажем, к вопросу самого устройства системы. Но, на самом деле, сказав о том, что пол может рассматриваться как реальное, Жижек в действительности говорит существенную вещь. Он как раз подходит к определению того, чем в настоящий момент я занимаюсь, давая определение сексуации. То есть Жижек показывает, что, по всей видимости, выбор пола — это не выбор, исходя из того, что Батлер называет «излишком власти». Говоря о том, что пол может быть реальным, Батлер не срезает Жижека, как чересчур увлекшегося постколониальной риторикой субъекта, тем самым напоминая о том, что есть все же более приземленные или требующие с собой считаться вещи. А Жижек указывает как раз на то, что это Батлер слишком буквально выбирает. Даже если она выбирает не пол, а гендер, и предлагает выбирать исключительно гендер, то этот выбор остается таким же буквальным. Он обустроен по тому самому принципу, который исключает реальное из лакановской системы. То есть выбор происходит только на уровне символического, тогда как Жижек настаивает на реальном выборе, имея в виду не то, что существует опять же более могущественная инстанция реального, которая бы обеспечивала этическую приверженность выбору. В таком случае психоанализ был бы разновидностью экзистенциализма. Именно таковой он очень часто выступает. Мы знаем, что психоанализ очень легко соскальзывает в стихию философского толкования, где субъект желания возникает как субъект определенной верности своему желанию. Лакан говорил подобные вещи, но их необходимо не понимать буквально. Напротив, Жижек здесь вводит обходной путь, намекая на то, что есть вещи, которые, возможно, в вопросе самого выбора, например, об идентичности, Батлер не учитывает. В частности, то, что такой выбор происходит не только потому, что субъект выталкивается властью в определенную позицию, в которой он закрепляется, и после чего к нему происходит постоянная интерпелляция, паразитически крадущая у него остатки собственной власти, а что, напротив, субъект переходит к самоопределению идентичности из какого-то другого места. То есть ему удается миновать власть непосредственно тех сложных конструкций, которые Батлер предлагает, например, психике власти в ее дальнейших работах, когда субъекту необходимо обойти или обмануть власть тем или иным образом, сыграв с ней, что, на самом деле, со стороны Батлер не совсем честно, потому что, очевидно, что субъект не может с властью сыграть. Но Батлер, с одной стороны, давая понятие, что субъект является жертвой власти, в то же время как будто утверждает, что игра возможна, что есть такой излишек власти, который субъект может на кон поставить. И, по всей видимости, Жижек может, опять же, не изменяя своему марксистскому воззрению, сказать, что этого излишка нет. Но это не означает, что у субъекта ничего нет. Существует другой излишек, другая дополнительная позиция, с которой субъект может выбор сделать. И тем самым субъект уже избегает существующей власти не в том смысле, в котором никакие ее эффекты больше не оказывают на него влияние, а в том смысле, в котором игра действительно возможна. Но эта неигра, по всей видимости, с самой материей власти или с тем, что от власти субъекту достается, на таких условиях крайне возможна. То есть Жижек как раз отказывается определять субъекта по остаточному принципу, как-то, что из тисков власти выпало.
Вопрос: Понятно, что исходя из разных теорий в идентичности, так или иначе неотъемлемая часть будет признание и видимость. То есть это требование к признанию через наделение ресурсами в том числе. И требование признания, когда оно существует в пространстве публичного и в клинике, существует как дискурс истерика. И представляется, что консерватор в этом дискурсе на себя берет роль мэтра, Господина, к которому истерик обращен, которого он требует признать. Тем более здесь, очевидно, невозможно не согласиться с Николаем, что этот господствующий коллективный субъект, консервативный, сегодня действительно в России во всяком случае точно наделен статусом Господина. Но совершение такого специального жеста, о котором было упомянуто, что консерватор исходит также, вспоминает о безальтернативном характере своей сексуации, выстроенной на ней идентичности, что он также рождается с гетеросексуальной идентичностью, то, что на Западе критикуются как белый супрематизм. То есть консерватор, по сути, перехватывает тот же самый дискурс истерика, требуя признания. Вопрос, кем становится тот обладающий возможностью дать признание субъект, то есть обладающим глазом. Можем ли мы как-то реконструировать того, к кому обращены требования и ЛГБТК+ активиста, и консерватора, который также требует признания своей идентичности. Или это именно то, что переносит нарушенный дискурс капитализма с нарушенной логикой. Как на это из теории дискурсов Лакана можно посмотреть?
С одной стороны, существует достаточно тривиальный аналитический ответ, который подсказывает, что если субъект Господина себе ищет, то он непременно его находит. В Господине нет недостатка. Не существует того, что можно назвать дефицитом Господина. И в этом плане мы подходим к месту, на котором я начинаю с Жижеком не соглашаться. Если Жижек, следуя своей особой логике, полагает, что в том случае, если Господин больше не представлен и это ведет к дальнейшему закрепощению, потому что известно, что настоящее закрепощение в разнообразных пролиферирующих формах начинается вместе с исчезновением Господина, то в таком случае Господин должен быть возвращен. Например, посредством господствующего означающего коммунистического профиля. То есть, так или иначе, левым потребуется сделать то, от чего они так долго убегали. И, наконец, провозгласить, что если не Господин, то во всяком случае инстанция, подобно господствующей, должна быть введена в дело. Я полагаю, что это не так, что с Господином субъект имеет место на другом уровне. То есть всякий раз, когда речь заходит о желании, и в этом плане вы совершенно правы, совершается запрос к Господину. То есть возникает то, что Лакан называет полной речью. Но это субъекта никогда не удовлетворяет. И здесь, пожалуй, следовало бы радикально учитывать уроки истерии. Хотя когда Лакан говорит нам, что истеричка желает Господина, что, по крайней мере, ей нужен Господин, потому что сказать, что она его желает, было бы, наверное, слишком вольным использованием самого концепта желания; то, что он ей нужен, совершенно несомненно. Но Лакан нигде не говорит, что тем самым ее желание удовлетворяется. Может показаться из известных примеров, например, перепредставляющих фрейдовский пример жены мясника, что как раз то, что истеричке нужно, это и есть, собственно, такого рода Господин, который одновременно выступает названный сильным, но при этом оказывается слабым, потому что он всегда демонстрирует нехватку. То есть может показаться, что речь действительно о том, что истеричку могло бы удовлетворить. Но именно по этой причине приходится утверждать, что даже чисто клинически, с точки зрения данных, которые истерия приносит в анализ, это ее не удовлетворяет, потому что большинство истеричек имеет Господина. Не существует истерического запроса, который был бы связан с тем, что Господина не достает. Но имея Господина, она продолжает оставаться, собственно, носительницей истерического профиля, и, соответственно, вопрос о ее желании остается открытым. Именно по этой причине в основании признания может лежать желание, связанное в том числе с тем, что обращено к Господину. Но, по всей видимости, это означает, что нам необходимо очень низко оценивать сам концепт признания, потому что-то желание, которое желает Господина, во всей видимости, не является желанием субъекта.
Вопрос: Вы говорили, отвечая на вопрос одного из участников, о делении психоанализа Лакана на поэтическую и клиническую часть. Нельзя ли сказать о том, что самопоэзия лакановского текста уже является частью суггестивного высказывания аналитика во время непосредственно даже сеанса? Ведь такие высказывания Лакана, как «сексуальных отношений не существует» или «любовь всегда взаимна», они же определенным образом повышают тревогу и обрывают некоторый дискурс, объятый желанием читающего субъекта.
Да, конечно, нет числа критики, которая указывала на то, что Лакан как будто бы на уровне собственного высказывания выступал против того, что в его теориях полагалось основным или что отстаивалось им в противоположность другим аналитическим теориям, что, например, он был суггестивным. Более того, есть данные, показывающие, что он мог быть суггестивным на сессиях, не прибегая, разумеется, к той забавной карикатурной суггестии, в облике которой она обычно изображается тогда, когда описывают акт реального внушения в соответствующем воздействии. Мы знаем, что эта карикатурная суггестия проникла в анализ с самого начала. Например, Фрейд признавался, что он клал анализантам руки на лоб для того, чтобы ускорить процесс свободного ассоциирования, созревания той основной вытесненной идеи, которая должна была, будучи озвученной, лечь в основу излечения. Но, тем не менее, то, что вы называете суггестивностью, и то, что, по всей видимости, таких карикатурных жестов не предполагает, тоже может быть суггестией даже в более значительном смысле. То есть Лакан действительно был суггестивен, и Лакан систематически выступал против того, что его теория представляла. По всей видимости, это было обязано опять-таки теоретическому идеалу-Я самой лакановской теории, потому что она представляла собой теорию, которая постоянно отсекала то, что могло в ней претерпевать осаждение. Временами Лакан предпринимал наиболее радикальное отсечение всего того, что его теория могла представлять. Но, по всей видимости, об этом нельзя говорить, как о некоем специфическом acting out, или давать этому клиническое истолкование. То есть речь не о том, что самим Лаканом делалось намеренно, но, вероятно, и не о том, что представляло бы симптом Лакана. Скорее речь о симптоме самого психоанализа. И поэтому я еще могу рекомендовать книгу Тупинамба, поскольку она описывает не только желание психоанализа, соответственно, то, что положено и вынесено в ее название, но она описывает и характерный симптом психоанализа, то, от чего он наиболее всего страдает. И то, что вами описано, в том числе в демонстративном поведении Лакана, это и есть то, что подобное страдание психоанализа выражает. То есть такого рода зацепление, которое сам анализ, каким бы он теоретически прогрессивным, или искусственным, или требовательным ни был, не может обойти. И есть определенные сбои, в том числе сбои институциональные, которыми сейчас мы занимаемся, разбирая книгу Тупинамба. То есть, есть симптоматика самого анализа, и она непреодолима. И, по всей видимости, подлинным смирением анализанта (я имею в виду тем, что происходит в конце его собственного анализа) является признание не только того, что его аналитик, может быть, не совершенен, или что он не всегда находился на высоте аналитического процесса, при том, что мы знаем, что такое смирение указывает на то, что перенос завершен, — то есть возможность отказаться от мысли, что аналитик сработал нечисто, или что ему, возможно, в некоторые моменты не было доверия, или что он ошибся. Эта мысль показывает, что перенос все еще длится, этим самым длится анализ, но когда эта мысль исчезает, анализ завершается. Но я полагаю, что подлинным завершением анализа может быть прекращение недоверия к самому психоанализу, то есть признание того, что в анализе действительно есть симптом, и анализ поэтому может срабатывать непредсказуемо или неудачно, или против того, что сами аналитики говорят. Срабатывать, в том числе, в своих профессиональных демонстрациях, там, где аналитики собираются вместе. Но это не является основанием для отвержения анализа как существующей дисциплины или практики, то есть как занятия как такового.
Вопрос: Используется ли некоторая суггестия в форме поэзии в рамках анализа как метод, чтобы прервать дискурс анализанта?
Я полагаю, что используется, но если вы употребляете термин суггестия, то это означает, что вы как раз фиксируете расщепленного субъекта психоанализа, потому что именно против суггестии психоаналитики постоянно выступают, предостерегают и можно даже распознать своего рода психоаналитическое неофитство, например, лакановское неофитство, которое будет связано с повторением неких общих мест, например, о том, что суггестия анализу не показаны или о том, что анализ слишком отчетливо необходимо разделить с психотерапией. То есть здесь как раз и возникает характерное расщепление, связанное с тем, что аналитик, настаивающий на обычности своей дисциплины, на том, что она ничем не запятнана, по всей видимости, как раз и тем самым ее пятнает.
