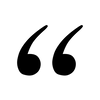Нил Постман: Как культура капитулировала перед технологией. Часть 5: Сциентизм
Марксизм и фрейдизм были одними из ведущих нарративов ХХ века, но сегодня мало кто по-прежнему воспринимает их всерьёз. Тем не менее, теории Маркса и Фрейда не были опровергнуты — они просто наскучили, потеряли актуальность и уступили место другим теориям. Это обычное дело для социальных наук, в которых так и не было открыто ни одного закона (потому что человеческое поведение не подчиняется никаким нерушимым законам) и не доказано ни одной теории. Несмотря на это, они продолжают называться науками, ведь в обществе, где главные символы веры — это точность и объективность, научность означает авторитетность.

Под сциентизмом я понимаю три взаимосвязанные идеи, которые вместе образуют один из столпов технополии. Первая и главная из них — это идея о том, что методы естественных наук могут применяться и для объяснения поведения человека. Данная идея лежит в основе современных психологии и социологии, и обуславливает тот факт, что социальные науки — цитируя Фридриха Августа фон Хайека — «никак не поспособствовали нашему пониманию социальных явлений».
Вторая — это идея о том, что социальные науки помогают идентифицировать принципы, при помощи которых общество можно организовать на рациональных и гуманистических основах. Это, в свою очередь, подразумевает, что технические средства позволяют контролировать поведение человека и направлять его в нужное русло.
Третья — это идея о том, что вера в науку может быть полноценной системой верований, служащей источником смысла, благополучия, морали и даже бессмертия.
Далее я собираюсь показать, как данные идеи вытекают одна из другой и порождают технополию.
Понятие «наука» — в том смысле, в котором оно преимущественно используется сегодня, то есть в смысле исследовательской работы в области физики, химии и биологии — было популяризировано в начале XIX века. Существенную роль в этом сыграла Британская ассоциация содействия развитию науки, основанная в 1831 году. С начала ХХ века оно также стало повсеместно ипользоваться для описания работы, выполняемой психологами, социологами и даже антропологами. Не станет неожиданностью, если я скажу, что считаю такое употребление данного слова неверным и вводящим в заблуждение — отчасти
Используя определения, предложенные британским философом Майклом Оукшоттом, «процессы» — это природные явления (например, вращение планеты по орбите, таяние снега и синтез хлорофилла зелёным листом). Подобные процессы не имеют никакого отношения к человеческому разуму, подчиняются неизменным законам и обусловлены устройством Вселенной. Кто-то может сказать, что процессы — это творения Бога. Под «практиками» же Оукшотт понимает творения людей — явления, которые являются следствием человеческих решений и действий (например, написание или чтение книги, формирование правительства, поддержание застольной беседы). Эти явления вытекают из взаимодействия человеческого разума с окружающей средой и не обусловлены неизменными законами природы.
Наука — это поиск неизменных универсальных законов, стоящих за процессами, при условии, что эти процессы подразумевают причинно-следственные связи. Из этого следует, что стремление понять поведение и чувства человека не может называться наукой.
Кто-то возразит, что как изучающие законы природы, так и изучающие поведение человека выражают свои наблюдения в числах. И маляр, и художник работают с красками; они занимаются одним и тем же делом и с одной и той же целью.
Однако учёный использует математику для открытия и описания законов природы. Социологи же используют количественные методы, в лучшем случае, чтобы придать своим идеям видимость точности. В этом нет ничего научного. Самые разные люди занимаются подсчётами, чтобы получить точные результаты, не претендуя при этом на звание учёных. Поручители для освобождения под залог подсчитывают количество убийств, совершённых в их городе; судьи подсчитывают количество заявлений на развод в их округе; владельцы магазинов подсчитывают количество денег, потраченных покупателями; а маленькие дети любят считать пальцы на руках и ногах. Полученная благодаря подсчётам информация иногда бывает полезна, так как позволяет подкрепить ту или иную теорию. Однако подсчитывание само по себе не составляет науку.
Не является наукой и наблюдение. Эмпирический вывод означает вывод, основанный на наблюдении. Таким образом, каждый человек — эмпирик (за исключением, разве что, параноидальных шизофреников). Быть эмпириком также означает предоставлять доказательства, которые может увидеть любой другой человек. Вы можете, например, заключить, что мне нравится писать книги, предоставив в качестве доказательства тот факт, что я написал несколько книг. Вы также можете предоставить в качестве доказательства аудиозапись, на которой я говорю, что мне нравится писать книги. Подобные доказательства можно считать эмпирическими, а ваши выводы — основанными на эмпирических данных. Однако это не делает из вас учёного. Вы просто разумный человек; а на это звание могут обоснованно претендовать многие люди, которые не являются учёными.
Учёные действительно стремятся к эмпиризму и, по мере возможности, точности, однако им также важно быть объективными, а это значит, что в своих исследованиях они не обращают внимания на то, что думают люди. Личное мнение для учёного — это всегда препятствие, которое необходимо преодолеть. Хорошо известно, что представление учёного о мире существенно отличается от представлений большинства людей. Более того, в стремлении к объективности учёные принимают как данность, что объекты их изучения безразлично относятся к тому, что их изучают. Принцип неопределённости Гейзенберга гласит, что на субатомном уровне частицы «знают» о том, что их изучают. Электрон, например, меняет скорость или положение, когда за ним наблюдают — то есть, когда он взаимодействует с фотоном — однако он не «знает» (в привычном смысле слова), что это взаимодействие имеет место. Точно так же безразличны к этому листья, яблоки, планеты, почки и мосты. Данный факт освобождает учёного от необходимости принимать во внимание их ценности и мотивы; это отличает настоящую науку от социальных наук.
Ещё одна причина относиться к социальным наукам с недоверием — это тот факт, что почти не существует экспериментов, которые бы доказали ошибочность той или иной теории. А, как продемонстрировал Карл Поппер, наука требует, чтобы теории были опровергаемыми. Если теорию невозможно опровергнуть, значит это не научная теория (как, например, теория Фрейда об эдиповом комплексе).
В социальных науках теории исчезают потому, что они скучны, а не потому, что они были опровергнуты.
В социальных науках очень высоко ставится (так называемый) эксперимент Стэнли Милгрэма. Милгрэм пытался заставить участников давать электрические разряды «невинным жертвам», которые на самом деле тоже были экспериментаторами и не получали никаких разрядов. Тем не менее, участники были убеждены, что жертвы получают разряды, и многие из них под давлением давали разряды, которые, будь они настоящими, могли бы убить человека. Милгрэм тщательно продумал обстановку, в которой всё это происходило, а его книга изобилует статистическими данными о том, сколько участников сделали или не сделали того, что им велели экспериментаторы. Около 65 процентов участников подчинялись слишком охотно, в ущерб здоровью жертв. Милгрэм сделал из своего исследования следующий вывод: имея дело с законной, по их мнению, властью, большинство людей готовы делать всё, что им скажут. Другими словами, социальный контекст, в котором оказываются люди, играет решающую роль в определении их поведения.
Прежде всего, данный вывод — довольно банальное замечание о человеческой природе. Об этом знают все (судя по всему, кроме американских психологов). Прежде чем провести свой эксперимент, Милгрэм разослал многим психиатрам опросник, чтобы узнать их прогнозы касательно того, сколько участников будут давать электрические разряды, если им повелят. Психиатры назвали намного меньшее число, чем оказалось на самом деле.
Очевидные выводы — характерная особенность социальных исследований, претендующих на научность.
Во-вторых, строго говоря, эксперимент Милгрэма не был эмпирическим, поскольку не был основан на наблюдении за людьми в реальных жизненных ситуациях. Вряд ли кого-либо интересует, как люди ведут себя в лаборатории Йельского или любого другого университета; значение имеет лишь то, как люди ведут себя в ситуациях, когда их поведение что-то решает. Однако любые выводы, которые можно сделать из эксперимента Милгрэма, применимы лишь к людям в лаборатории и в созданных Милгрэмом условиях. Даже если допустить, что поведение в лаборатории совпадает с поведением в некоторых жизненных ситуациях, невозможно определить, в каких именно ситуациях оно совпадает. Более того, невозможно установить причинно-следственную связь между склонностью признавать законную власть и делать то, что вам велят. Это косвенно подтверждает и сам Милгрэм, поскольку 35 процентов его участников послали «представителя власти» куда подальше. К слову, Милгрэм понятия не имел, почему одни люди послали его, а другие — нет. Лично я считаю, что если бы каждый из участников перед экспериментом прочитал «Эйхмана в Иерусалиме» Ханны Арендт, результат был бы иным.
Но предположим, что я ошибаюсь, и 100 процентов участников Милгрэма сделали бы то, что им велели, с Ханной Арендт или без неё. Но что если я расскажу вам историю о группе людей, которые в реальной ситуации отказались выполнять приказы законной власти — например, датчанах, которые в период нацистской оккупации помогли 9 тысячам евреев бежать в Швецию? Что вы на это скажете? Что это невозможно потому что Милгрэм пришёл к противоположным выводам? Или же что это опровергает выводы Милгрэма? Возможно, вы скажете, что данный пример неуместен, поскольку датчане не считали нацистов законной властью. Но в таком случае, как объяснить коллаборационизм французов, поляков и литовцев? Мне кажется, вы бы не сказали ничего из этого, так как эксперимент Милгрэма не подтверждает и не опровергает никакой закон человеческой природы. Его эксперимент — это не наука, а нечто совсем другое.
Теперь пришло время сказать чем, по моему мнению, занимался Милгрэм и чем занимаются другие люди, изучающие поведение человека. Но для начала я упомяну о знаменитой переписке между Фрейдом и Эйнштейном. Однажды Фрейд отправил Эйнштейну экземпляр своей книги и спросил, что тот о ней думает. Эйнштейн ответил, что книга замечательная, но он не может судить о её научной ценности. Фрейд возразил, что если Эйнштейн не может ничего сказать о её научной ценности, то непонятно, как книгу можно называть замечательной. Разумеется, Фрейд был неправ. Его книги на самом деле замечательны, однако сегодня почти никто не считает, что Фрейд занимался наукой — точно так же, как Карл Маркс, Макс Вебер, Льюис Мамфорд, Бруно Беттельгейм, Карл-Густав Юнг, Маргарет Мид или Арнольд Тойнби. Что делали все эти люди, так это документировали поведение и чувства человека перед лицом проблем, которые ставит его культура. Иначе говоря, они занимались чем-то вроде рассказывания историй. Само собой, наука — это также своего рода рассказывание историй, однако её принципы и процедуры настолько отличаются от принципов и процедур социальных наук, что было бы неверно называть их одним и тем же словом. Истории социальных исследователей по своей структуре и цели намного ближе к литературе; и социальный исследователь, и писатель дают явлениям уникальные интерпретации и подкрепляют свои интерпретации примерами. Верность этих интерпретаций нельзя ни доказать, ни опровергнуть; их ценность кроется в удачности авторских формулировок, глубине объяснений, актуальности примеров и тем. В обоих случаях имеется явный моральный подтекст. Понятия верности и ошибочности здесь неприменимы в том смысле, в котором они используются в математике или науке. Нет никаких тестов, при помощи которых эти интерпретации можно было бы подтвердить или опровегнуть, потому что они не основаны ни на каких законах природы. Они зависят от эпохи, конкретной ситуации и, прежде всего, культурных предрассудков исследователя или автора.
Писатель — например, Дэвид Герберт Лоуренс — рассказывает историю об интимной жизни женщины — например, леди Чаттерлей — из которой мы узнаём о секретах некоторых людей и задаёмся вопросом, не является ли наличие таких секретов более распространёнными, чем мы предполагали. Лоуренс не считал себя учёным, однако он внимательно наблюдал за окружавшими его людьми и пришёл к выводу, что в повседневной жизни больше лицемерия, чем в некоторой философии. Альфред Кинси также интересовался сексуальной жизнью женщин; вместе со своими помощниками он опросил тысячи женщин, чтобы больше узнать об их поведении в постели. Каждая женщина рассказывала свою историю (хоть и частично продиктованную вопросами Кинси). Одни рассказывали всё, о чём их спрашивали; другие рассказывали только часть; третьи, вероятно, лгали. Когда их истории были объединены, родилась коллективная история о конкретном времени и месте. Эта история была более абстрактной, чем история Лоуренса, была рассказана на языке статистики и не содержала психологических наблюдений. Но это всё равно была история.
История Лоуренса была его личным вымыслом; он не обязан был обращаться к фактам помимо тех, которые были известны ему лично. История Кинси использует в качестве источников рассказы других людей; он был ограничен тем, что они отвечали, когда он задавал им вопросы. Историю Кинси, таким образом, можно назвать документальной. Однако именно Кинси придумывал вопросы, выбирал респондентов и интерпретировал ответы. Всё это придало истории форму и смысл. Можно предположить, что Кинси, как и Лоуренс, с самого начала знал, каким будет вывод.
И писатель, и социальный исследователь создают свои истории, используя архетипы и метафоры. Сервантес, например, подарил нам архетип неисправимого мечтателя и идеалиста Дон Кихота. Маркс — архетип безжалостного и коварного (хоть и безымянного) капиталиста. Флобер — архетип роматика-буржуа Мадам Бовари. Маргарет Мид — архетип беззаботного и невинного подростка-самоанца. Кафка — архетип одинокого городского жителя, склонного к самокопанию. Макс Вебер — архетип трудолюбивого человека, руководствующегося мифологией, которую он назвал протестантской этикой. Достоевский — архетип эгоиста, исправляющегося благодаря любви и религиозному рвению.
Думаю, будет справедливым сказать, что писатели XIX века создали самые запоминающиеся метафоры и образы нашей культуры. В XX веке подобные метафоры и образы преимущественно выходили
При этом я не утверждаю, что метафоры социальных наук и метафоры художественной литературы создаются одинаковым образом. Писатель создаёт метафоры путём детального описания поступков и переживаний конкретных людей. На первом плане — личная психология; социология служит фоном. Исследователь действует наоборот. Он сосредотачивается на общем, а жизни отдельных людей для него второстепенны. Кроме того, писатель демонстрирует примеры. Исследователь же оперирует логикой и доказательствами. Вот почему литература увлекательнее. Тем не менее, истории социальных исследователей не менее убедительны, а в наше время ещё и пользуются большим доверием.
Зачем социальные исследователи рассказывают свои истории? Прежде всего, в целях обучения и наставления — то есть, в тех же целях, что Будда, Конфуций, Гиллель и Иисус (а также Лоуренс). Само собой, социальные исследователи редко обосновывают свои теории авторитетом священных текстов и тем более откровениями. Однако нас не должы вводить в заблуждение различия между подходами проповедников и исследователей.
Иисус был не менее проницательным социологом, чем Веблен. Более того, афоризм Иисуса о богачах, верблюдах и игольном ушке очень точно резюмирует «Теорию праздного класса» Веблена. В этом отношении главное отличие Иисуса от Веблена в том, что последний был более многословен.
В отличие от учёных, социальные исследователи ничего не открывают. Они лишь повторяют то, что людям уже говорилось ранее и должно быть сказано снова. Если правда, что цена, которую мы платим за цивилизованную жизнь, — это подавление сексуальных желаний, то данное открытие сделал не Фрейд. Если правда, что мышление человека диктуется его материальным положением, то данное открытие сделал не Маркс. Если средство передачи сообщения само есть сообщение, то данное открытие сделал не Маклюэн. Все они лишь пересказали древние истории на современном языке. Через несколько десятилетий и веков эти истории будут рассказаны снова — только с меньшим успехом. Дело в том, что в технополии никому не нужны истории; нужны лишь твёрдые научные факты. Можно даже сказать, что в технополии точная информация предпочтительнее правдивой информации, ведь технополия стремится раз и навсегда покончить с субъективностью. В культуре, в которой машина с её бесконечно повторяемыми действиями является господствующей метафорой и считается инструментом прогресса, субъективность становится неприемлемой.
Сложность, разнообразие и неоднозначность человеческий суждений враждебны технологии. Допускаются лишь статистика, опросы, стандартизированные тесты и бюрократия.
В технополии социальным наукам недостаточно переоткрывать древние истины и комментировать поведение людей. В технополии «наставление» — это оскорбление. Также недостаточно предоставалять метафоры, образы и идеи, помогающие людям обрести понимание и жить достойной жизнью. Всему этому недостаёт точности, которую может обеспечить только наука. Следовательно, становится необходимым превратить психологию, социологию и антропологию в «науки», в которых человечество становится предетом изучения наравне с растениями, планетами или кубиками льда.
Банальные истины о том, что люди боятся смерти, а дети из благополучных семей имеют лучшую успеваемость в школе, преподносятся как научные «открытия» потому что это позволяет социальным исследователям считаться (и считать себя) учёными, свободными от предрассудков и мнений, а также утверждать, что социальная политика основана на объективных фактах. В технополии бессмысленно утверждать, что расовая сегрегация аморальна, ссылаясь на «Чернокожего мальчика», «Человека-невидимку» или «В следующий раз — пожар». В суде необходимо продемонстрировать, что, согласно стандартизированным тестам, при сегрегации чернокожие имеют худшую успеваемость, чем белые, и чувствуют себя ущемлёнными. В технополии бессмысленно утверждать, что ничего не предпринимать по поводу бездомности аморально, предлагая судье или политику прочесть «Отверженных», «Нану» или Новый Завет. Необходимо предоставить статистические данные, показывающие, что бездомные люди несчастны и плохо влияют на экономику.
Достоевский, Фрейд, Диккенс, Вебер, Марк Твен и Маркс не считаются сегодня источниками знаний. Они, конечно, заслуживают того, чтобы их читали, однако в поисках истины нужно обращаться к науке.
Главные достижения нашего времени относятся к областям медицины, фармакологии, биохимии, астрофизики и инженерии; все они стали возможными благодаря методам и процедурам естественных наук. Эти достижения обеспечили науке огромный авторитет, а учёным — уважение и престиж. Мечта XIX века о том, что методы и процедуры естественных наук можно применить для изучения общественной жизни, оказалась иллюзией. Однако, учитывая психологические, социальные и материальные выгоды, которые подразумевает звание учёного, нетрудно понять, почему социальные исследователи не спешат от него отказываться.
Труднее понять, почему все мы настолько охотно участвуем в поддержании этой иллюзии. Отчасти ответ кроется в неверном понимании целей естественных и социальных наук, а также разницы между физическим миром и общественной жизнью. Но это ещё не всё. Открытия таких людей, как Галилей, Ньютон и Бэкон не только заложили основы естественных наук, но и опровергли предыдущие представления о мире (например, основанные на Книге Бытия). Подвергнув сомнению эти истории в одной сфере, наука подорвала веру в священные истории в целом, а с ней и источник морального авторитета для многих людей. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что десакрализованный мир с тех пор находится в поиске источника морального авторитета. Насколько мне известно, ни один серьёзный учёный, ни в эпоху Возрождения, ни в наши времена, не утверждал, что методы и открытия естественных наук могут сообщить, как нам следует жить. Более того, сами принципы естественных наук с их акцентом на объективности требуют от учёного отказаться от нравственных суждений.
Наши социальные «учёные» с самого начала были не очень добросовестными, не очень точными или просто не очень уверенными в том, на какие вопросы их процедуры могут ответить, а на какие — нет. В любом случае, они не стеснялись приписывать своим «открытиям» способность сообщать нам, как правильно жить. Социальных «учёных» так часто можно увидеть по телевизору, а их книги — в списках бестселлеров и на книжных стойках аэропортов не потому что они рассказывают нам, как некоторые люди поступают в некоторых ситуациях, а потому что они говорят нам, как должны вести себя мы; не потому что они говорят с нами как люди, которые дольше прожили, больше страдали или более глубоко размышляли над определёнными проблемами, а потому что они создают иллюзию, будто говорят не они сами, а их данные и процедуры. Мы с готовностью верим в эту иллюзию, так как отчаянно нуждаемся в оправдании нашего поведения и наших решений со стороны кого-то более авторитетного, чем простые смертные вроде нас самих.
Я понимаю под сциентизмом не только применение количественных методов к вопросам, с которыми цифры не имеют ничего общего; не только смешение физического и социального миров. Сциентизм — это нечто гораздо большее. Это отчаянная надежда и иллюзорная вера в то, что набор стандартизированных процедур под названием «наука» может служить источником неопровержимого морального авторитета и предоставить ответы на важнейшие жизненные вопросы.
Когда кто-то говорит (как Рональд Рейган), что он лично против абортов, но только наука может ответить на вопрос о том, в каком возрасте плод становится живым человеком — это сциентизм. Когда ни один учёный не осмеливается возразить, когда ни одна газета не публикует опровержение в своей «научной» рубрике, когда люди сознательно или в силу невежества участвуют в распространении данной иллюзии — это сциентизм. Наука может сказать нам, когда начинает биться сердце или когда плод начинает двигаться. Однако наука имеет ничуть не больше права, чем вы или я, определять критерии «жизни». Социальные исследования могут рассказать нам, как ведут себя некоторые люди перед лицом «законной», по их мнению, власти. Но они не могут сказать нам, когда власть «законна», а когда — нет, как это определить и когда ей следует и не следует подчиняться. Ожидать от науки ответов на эти вопросы и безоговорочно принимать их — это сциентизм.
Под конец жизни Зигмунд Фрейд задумался над тем, что он называл «будущим одной иллюзии». Иллюзией, о которой шла речь, была вера в сверхъестественный источник бытия, знания и морального авторитета — Бога. Фрейд размышлял не над тем, существует ли Бог, а над тем, может ли человечество выжить без иллюзии Бога — или, точнее, будет ли человечество жить лучше без данной иллюзии. Фрейд в этом сомневался, однако считал, что независимо от того, будет ли человечеству лучше или хуже, оно должно покончить с иллюзией Бога. Фрейд не осознавал, что его собственные труды породили новую иллюзию: иллюзию будущего, в котором процедуры естественных и социальных наук помогут узнать о человеке всё и обеспечат (благодаря работе нейтральных и объективных учёных) эмпирический источник морального авторитета. Если бы Фрейд предвидел причудливую трансформацию, которой подергнется воплощение высшего авторитета в наши дни — от старика с длинной седой бородой до молодых мужчин и женщин в длинных белых халатах — он, возможно, сформулировал бы свой вопрос иначе. К сожалению, он этого не сделал, поэтому это сделаю за него я — не для того, чтобы дать на него ответ, а для того, чтобы начать новую дискуссию.
Что больше всего соответствует интересам человека, а что является наиболее опасным в эпоху технополии: иллюзия Бога, иллюзия сциентизма или отсутствие иллюзий и надежд на источник морального авторитета?
©Neil Postman
Оригинал можно почитать тут.