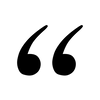Джон Грэй: Новые Левиафаны. Часть 2: Искусственные естественные состояния
Гоббс считал, что мирное сосуществование людей вне государства невозможно, и отсутствие власти неизбежно приводит к возвращению к «естественному состоянию», то есть «войне всех против всех». Он не знал, что тремя столетиями позже тоталитарные государства воссоздадут это состояние вражды в пределах своих границ, заставляя людей ежедневно бороться за выживание и истреблять друг друга за ложные идеи. Во второй части новой книги Грэя — судьбы Леонтьева, Розанова, Достоевского, Хармса, Чапского, Тэффи, Замятина и Бухарина на фоне революции, войны, крушения прежнего порядка и установления кровожадного режима абсурда.

Человеческое искусство (искусство, при помощи которого Бог создал мир и управляет им) является подражанием природе как во многих других отношениях, так и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи пружин и колёс, как, например, часы) имеют искусственную жизнь?
«Левиафан», введение
Гоббс называл Левиафана «искусственным животным», которое люди создают, чтобы преодолеть естественное состояние. Он не мог предсказать, что в ходе проектов по переделыванию человека тоталитарные режимы создадут искусственные естественные состояния.
Каждый человек рождается из наполненной фантазиями утробы и приобретает социальную идентичность, участвуя в фантазиях других. Незнакомец внутри нас проявляется в экстремальных ситуациях. На своём пике советская система была состоянием постоянной экстремальности. Живя в постоянном страхе из-за системы доносов, люди не могли доверять своим родным, коллегам, друзьям и любовникам. Эксперимент по построению коммунизма породил homo sovieticus, гоббсовского одиночку.
В западных странах проводится другой эксперимент — по построению крайней формы либерализма. По замыслу, гиперлиберализм должен освободить людей от бремени унаследованных идентичностей. Люди должны быть свободны стать теми, кем они захотят. Результат этого проекта — искусственное естественное состояние самоопределения идентичности.
Может показаться странным, что мы проводим параллели между Россией конца XIX — начала XX века и Западом XXI века, ведь это совершенно разные истории. Православие никогда не пыталось примирить Афины и Иерусалим и пошло иным по сравнению с западным христианством путём. Не было ни Реформации, ни Ренессанса. Просвещение оказало огромное влияние, однако самым сильным это влияние было применительно к наименее либеральным формам. Либерализм в России не умер — он никогда и не рождался.
И всё же параллели есть. И при позднем царизме, и на либеральном Западе была интеллигенция, критиковавшая кормившее её общество. И тот, и другой режим подвергались атакам изнутри.
Портрет антилиберала
… развлекать самих себя и других, играя нашими словами для невинного удовольствия или украшения.
«Левиафан», глава 4
Даже при жизни Константин Леонтьев (1831 — 1891) был малоизвестной фигурой. Сын с позором уволенного офицера, он поступил в военную академию, а затем в медицинский университет, и служил врачом в ходе Крымской войны. Впоследствии он работал журналистом, писателем, мелким служащим консульства на Крите и Итаке, а также цензором.
Сенсуалист, предававшийся чувственным утехам как с женщинами, так и с мужчинами, он женился на крымчанке, дочери греческого торговца, которая была очень недовольна его внебрачными связями и позже страдала умопомешательством. Леонтьев и сам часто болел и постоянно был в долгах. Он умер в православном монастыре, и приобрёл известность лишь после окончания коммунистической эпохи.
Идеи Леонтьева были такими же необычными, как и его жизнь. Антилиберал до мозга костей, он отвергал национализм и расовую политику. Он считал, что либерализм перерастёт в некое подобие феодализма, однако приветствовал такой ход событий. Он предлагал построить при царизме автократический социализм. Быть может, он был не до конца серьёзен — он часто развлекался с идеями так же, как со своими любовниками.
Пример этого почти забытого мыслителя показывает, что конфликты между либерализмом и его врагами более сложны, чем принято считать в XXI веке. Противники либеральных ценностей часто изображаются фашистами; но Леонтьев пришёл бы в ужас от фашизма ХХ века, так же как он был в ужасе от национализма своего времени. Идея Леонтьева о новом феодализме для России была невоплотимой, однако не в большей степени, чем идея о коммунистической утопии.
Один из тех, кто считает Леонтьева актуальным мыслителем — Владимир Путин. В сентябре 2013 года он сказал: «Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как "цветущая сложность", как государство-цивилизация, скреплённая русским народом, русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и другими традиционными религиями России».
Однако Леонтьев не был ни русским националистом, ни популистом-славянофилом. Он отвергал национализм как «одно из самых странных самообольщений XIX века». Он был против того, чтобы Россия завоёвывала и ассимилировала соседние народы: «Нашим идеалом должно быть не слияние, а притяжение».
Своей репутацией реакционера Леонтьев обязан отношениями с Константином Петровичем Победоносцевым (1827 — 1907), обер-прокурором Святейшего синода при царе Александре III, который отменил либеральные реформы своего предшественника Александра II после убийства последнего в 1881 году. Леонтьев позже дистанцировался от Победоносцева, написав о нём: «Он не только не основатель, он даже не реакционер, не спаситель, не реставратор — а всего лишь консерватор в самом узком смысле слова». Леонтьев не поддерживал идею о том, что на Россию возложена историческая миссия по спасению мира. Как писал Бердяев: «Мессианизма мистического у Леонтьева никогда не было».
Идея об особенной роли России берёт начало в Византии, «сильнейшей антитезе идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». Но в византийской цивилизации не было ничего русского или христианского. На последнем году жизни Леонтьев написал, что новый византизм должен включать Турцию, Иран, Сирию, Палестину, Аравию, Египет и Тибет.
В Леонтьеве было больше от православного, чем от христианина. В июле 1871 года, заболев, как он считал, холерой во время консульской службы в Салониках, он исцелился при помощи молитв Деве Марии и поклялся уйти в монастырь. Оказалось, что он болел малярией. Он выздоровел через 2 дня, а на третий уже был на горе Афон. В письме к своему другу Василию Розанову он писал:
«Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришёл в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и в могущество этой Божией Матери, поверил так ощутительно и твёрдо, как если б видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: "Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я ещё ничего не сделал достойного моих способностей и вёл в высшей степени развратную, утончённо грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти"».
Веря в то, что он пережил чудесное исцеление, Леонтьев вернулся в Салоники, сжёг рукописи романов, над которыми работал, подал в отставку и снова отправился на Афон.
Однако Леонтьев почитал не столько Бога, сколько церковь. Он постригся в монахи, надеясь, что духовная красота освободит его от стремления к чувственным удовольствиям. Его идеалом был «трансцендентный эгоизм».
Для Леонтьева жизнь была эстетическим опытом. Красота имела более высокую ценность, чем истина или добродетель — даже чем цивилизация. В своём рассказе «Хризо» (1868) он писал: «Турки — варвары, бесспорно; но благодаря их кровавому игу, воздух критской жизни полон высшего лиризма». Из-за подобных утверждений за ним закрепилость прозвище «русский Ницше». Однако тогда как немецкий философ верил, что смысл можно создать актом воли, Леонтьев искал смысл в акте капитуляции.
Он отвергал утопию, так как видел в ней мёртвую гармонию. По его мнению, цивилизации и религии проходят через циклы развития и упадка. Одни цивилизации лучше других. Например, католицизм и ислам лучше протестантизма; средневековая Европа лучше современной Европы. А буржуазная цивилизация — одна из худших в истории:
«Не ужасно и не обидно было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах всего этого прошлого величия?»
Из недостойности буржуазного образа жизни он делал вывод, что византийскую цивилизацию необходимо оградить от западного влияния: «Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”». Его идея о царистском социализме была фантастической мечтой, однако она подтверждала, что Леонтьев не был простым реакционером.
В отношении некоторых вещей Леонтьев был очень проницателен. Выразив опасение, что культ индивидуализма поставит под угрозу культурное разнообразие, он очень точно указал на слабое место либеральной цивилизации.
Разнообразие наиболее велико, когда общество разделено на классы: рабочие и крестьяне живут иначе, чем землевладельцы и аристократы. По мере разрушения традиционного уклада общество становится более однородным. Свобода выбирать образ жизни оборачивается следованием моде. «Фрак — это траурная одежда, которую на Западе носят, оплакивая величественное религиозное, аристократическое и творческое прошлое», — писал Леонтьев.
Конформизм проявляется не только в выборе одежды. Внутренняя жизнь предположительно независимых людей, их мечты и цели также на удивление схожи.
Тотальный индивидуализм и массовое общество — это две стороны одного и того же образа жизни.
Данный факт отмечали также Алексис де Токвиль и Джон Стюарт Милль, либералы, которые опасались, что индивидуализм приведёт к тирании большинства. Ни один, ни другой не придумали, как предотвратить этот исход.
В своих размышлениях о будущем Леонтьев оказался в неожиданной компании. Викторианский либерал Герберт Спенсер утверждал, что социализм требует авторитарного правления. Леонтьев был с этим согласен:
«Социализм — всё больше и больше, и в теории, и на практике, раскрывает свой деспотический характер. Либерал Спенсер в наши дни печатает против социализма свою книгу "Грядущее рабство". Он предсказывает, что социализм может быть осуществим только в виде рабского подчинения общинам и государству. И я думаю, что он прав».
В отличие от Спенсера, Леонтьев приветствовал деспотизм. Он сравнивал социалистические секты своего времени с раннехристианскими общинами. В письме от 15 марта 1889 года он писал:
«Я того мнения, что социализм в XX и XXI веке начнёт на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло Христианство на почве религиозно-государственной тогда, когда оно начинало торжествовать. Теперь социализм ещё находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных. Найдётся и для него свой Константин … То, что теперь — крайняя революция, станет тогда охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством … Социализм есть феодализм будущего».
И Спенсер, и Леонтьев ошибались в своих предсказаниях. Мир не пришёл ни к либерализму, ни к социализму. Начиная с Бисмарка, западные страны принимали на вооружение разные виды коллективизма, но не стали социалистическими государствами. Автократический тип социализма был установлен в России, но вместо поддержки крестьянство уничтожалось. Коммунистическое общество, как и предсказывал Леонтьев, было стратифицированным. Однако аристократия в нём уничтожалась наравне с крестьянством, а затем и сами коммунистические элиты были истреблены в ходе террора.
Россия превратилась в нищую версию буржуазного общества, которое презирал Леонтьев.
Леонтьев осознавал, что его мечта о современном феодализме была несбыточной. Однако он не мог себе представить, что однажды Россия превратится в сочетание теократии и клептократии.
К счастью для него, Леонтьев не верил, что цель жизни — счастье, поскольку он не был счастлив. Он умер, считая, что «за всё брался и ничем никому, кроме трёх-четырёх человек, не угодил».
«Леонтьев — Кассандра, бегавшая по Трое и предрекавшая. И как её же, его никто не услышал», — написал Василий Розанов за три месяца до того, как умер от голода в монастыре под Москвой; 27 годами ранее в этом же монастыре умер Леонтьев. Два писателя похоронены рядом друг с другом.
Занавес опускается
… будущее не имеет никакого бытия. Будущее есть лишь фикция ума …
«Левиафан», глава 3
В «La Divina comedia» Василий Розанов писал:
«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
— Представление окончилось.
Публика встала.
— Пора одевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось».
Розанов был известен противоречивостью своих взглядов. Он превозносил древнеегипетскую религию, одновременно прославляя Русскую православную церковь, и распространял антисемитскую клевету, одновременно восхищаясь иудаизмом. Проповедуя семейную жизнь, он приветствовал сексуальные связи не только между мужчинами и женщнами, но и между «людьми лунного света», которым приписывал многие из культурных достижений человечества. Он писал для консервативной газеты, поддерживая монархию и существующий порядок, однако также время от времени под вымышленным именем публиковался в либеральном журнале, резко критикуя царизм.
Критики Розанова называли его безнравственным оппортунистом. Некоторые возражают, что он писал то, что позволяло прокормить семью. Однако правильнее было бы сказать, что цинизм был для него более удобной позицией, чем лицемерие. При жизни он высмеивал всё, что было свято для других, но умер набожным православным.
Его отношения с христианством были сложными. Ницше восхищался Христом, однако критиковал церковь: «В сущности был только один христианин, и он умер на кресте». Розанов же считал, что церковь поступила правильно, решив пренебречь учением Христа: «Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки … в сущности — не бытие, а почти призрак и тень; каким-то чудом пронёсшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность — сущность Его».
Он ненавидел Христа за его мрачное учение о том, что счастье недостижимо в земной жизни, и ценил православную церковь за то, что она допускала маленькие удовольствия жизни (Розанов очень любил варенье). Розанов был антиапокалиптическим мыслителем, которому суждено было пережить апокалипсис. Идея апокалипсиса, происходящая из еврейских священных текстов, имеет два смысла: мистический и эсхатологический — откровение и конец света. Для Розанова апокалиптическим событием была Октябрьская революция. Прежний мир подошёл к концу, но откровения так и не последовало.
Розанов родился в 1856 году и вырос в деревне в российской глубинке. Его отец был чиновником лесного ведомства, а мать происходила из знатного рода. Его детство было скромным, но не бедным. Розанов много лет преподавал в гимназии, мечтая переехать в Санкт-Петербург. Он боготворил Достоевского, с бывшей любовницей которого, Аполлинарией Сусловой, прожил в браке 6 несчастливых лет, и написал критический комментарий к легенде о Великом инквизиторе.
Именно Розанов придумал выражение «железный занавес», которым Уинстон Черчилль в 1946 году описал отделённость Советского Союза от Запада.
Розанов не оставил по себе никакой системы идей. Его главные книги — «Уединённое», двухтомник «Опавшие листья» и «Апокалипсис нашего времени» — были собраниями случайных идей, посетивших его за чисткой трубки, рассматриванием своей коллекции монет и прочими повседневными занятиями. Д. Г. Лоуренс ценил Розанова за его легкомысленное отвержение религиозной морали и цитировал его афоризмы: «Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали» и «Попробуйте распять солнце, и вы увидите — который Бог».
Розанов бросил преподавание после того, как его статья с критикой российской системы образования вызвала недовольство властей. При посредничестве друга он получил должность чиновника в Санкт-Петербурге, и ему наконец удалось воплотить свою мечту. Однако его стиль был слишком своеобразным, чтобы он мог вписаться в существующие литературные круги. Даже после смерти он вызывал недоверие. В своей книге «Литература и революция» (1923) Лев Троцкий написал о Розанове: «Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, липкий, укорачивается и растягивается по мере нужды — и как червь, противен».
В молодости Розанов читал Дмитрия Писарева (1840 — 1868), одного из основоположников русского нигилизма. В России XIX века нигилизм имел совсем не то значение, которое он имеет сегодня. Нигилист был не человеком, который ни во что не верит, а человеком, который верит только в науку и считает, что на смену религии и морали должен прийти рационализм. Нигилизм в этом смысле олицетворяет Базаров из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Русские нигилисты страстно боготворили науку. Как писал Бердяев:
«Нигилизм есть негатив русской апокалиптичности. Он есть восстание против неправды истории, против лжи цивилизации, требование, чтобы история кончилась и началась совершенно новая, внеисторическая или сверхисторическая жизнь. Нигилизм есть требование оголения, совлечения с себя всех культурных покровов, превращение в ничто всех исторических традиций, эмансипация натурального человека, на которого не будет более налагаться никаких оков».
Нигилизм самого примитивного сорта можно найти в трудах рационалистов вроде Стивена Пинкера. Само собой, они бы с негодованием отвергли подобную характеристику своих взглядов. Однако ни один из них так и не смог обосновать либеральные взгляды, которых они придерживаются. Их вера в освобождающую силу науки противоречит здравому смыслу даже в большей степени, чем любая традиционная религия, так как игнорирует доказанный факт о том, что наука может служить как цели свободы, так и цели угнетения.
Апокалипсис Розанова наступил с падением старого порядка в России. «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три», — писал он. Это был также конец его прежней жизни. Газета, для которой он писал на протяжении 19 лет, закрылась после прихода к власти большевиков. Он продолжал писать. Он опубликовал «Апокалипсис нашего времени» в виде цикла памфлетов, которые продавал своим подписчикам, иногда за еду или одежду. Когда он переехал в маленький подмосковный город с древним монастырём, у него украли его коллекцию монет. Оставшись в нищете, он подбирал на улице брошенные окурки и просил владельцев магазина угостить его чаем. В 1918 году, придя в Московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Я — монархист Розанов».
Смерть Розанова осталась без внимания. Незадолго до смерти, страдая от частичного паралича, он потребовал, чтобы всё написанное им против евреев было уничтожено. В 1911 году он написал позорные статьи против украинского еврея Менделя Бейлиса, обвинённого в ритуальном убийстве мальчика. Распространение кровавого навета на евреев было самым низким поступком Розанова. Перед смертью он, судя по всему, раскаялся.
В конце жизни Розанов помирился с православной церковью. Получив по своей просьбе последнее причастие четыре раза, он умер 5 февраля 1919 года. Мать его детей пережила его на 4 года. Одна из его дочерей, ставшая монахиней, повесилась вскоре после его смерти. Чуть позже от испанки умер его сын.
Стиль Розанова не имеет аналогов. Его книги можно сравнить с «Книгой непокоя» португальского писателя Фернандо Пессоа (1888 — 1935), которая, как и самые характерные произведения Розанова, состоит из мыслей, записанных на обрывках бумаги. Русский литературовед Виктор Шкловский писал, что книга «Уединённое» «была героической попыткой уйти из литературы, „сказаться без слов, без формы“ — и книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму».
В отрывке, озаглавленном «Надавило шкафом», Розанов пишет, что под тяжестью книг человечество превратилось в «странную стонущую цивилизацию». Необходимо «начать отодвигать шкаф», «начинать опять всё дело сначала». В другом месте он пишет: «Несу литературу как гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение моё». И еще: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения».
Розанову хватало широты взглядов, чтобы признать преимущества либерализма:
«В либерализме есть некоторые удобства, без которых трёт плечо. Школ будет много, и мне будет куда отдать сына. И в либеральной школе моего сына не выпорют, а научат легко и хорошо. Сам захвораю: позову просвещённого доктора, который болезнь сердца не смешает с заворотом кишок. Таким образом, "прогресс" и "либерализм" есть английский чемодан, в котором "всё положено" и "всё удобно", и который предпочтительно возьмёт в дорогу и не либерал».
Он ненавидел Октябрьскую революцию за то, что она уничтожила знакомый ему мир. Для целого поколения интеллигенции жизнь в России подошла к концу. В сентябре — октябре 1922 года более 200 представителей интеллигенции депортировали на пароходах. Позже за ними проследовали другие. В общей сложности от 1 до 2 миллионов — не только «белых», но и социалистов-антибольшевиков, эсеров и далёких от политики людей — эмигрировали из большевистской России.
Столетием позже новое поколение россиян потянулось к границам после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Путин ограничил свободу мысли точно так же, как это сделал Ленин. Идеология была новой, но занавес снова опустился.
Для Розанова Октябрьская революция была комедией абсурда. Нечто подобное имеет место сегодня и в странах Запада. Нынешнее поколение либералов неустанно обвиняет Запад в расизме, империализме и сексизме. Они призывают к деколонизации образования, чтобы разоблачить злодеяния Запада. Одновременно те же самые либералы утверждают, что западные ценности — права человека, личные свободы и так далее — должны перенять все страны мира, чтобы «освободить» людей от навязанных им идентичностей.
Слова и демоны
Университеты были для этой нации тем же, чем деревянный конь для троянцев.
«Бегемот», диалог I
Россия образца десятилетий, предшествовавших революции, имеет некоторые сходства с Западом XXI века. Одно такое сходство — появление противоречащей себе интеллигенции, которая наставляет общество, деконструируя его институты и ценности.
Религиозные антиномисты утверждают, что спасение можно обрести только отвергнув установленные церковью правила и подчинившись гласу духа. В конце Средневековья дух антиномизма вдохновил массовые движения крестьян и бедняков, которые хотели свергнуть официальную власть, веря в приближение второго пришествия Христа и тысячелетнего мира.
У средневековых милленаристских и современных революционных движений есть много общего. Милленаристы верили, что новый мир построит Бог, а современные революционеры верят, что его построит «человечество». Самой успешной из средневековых сект было Братство свободного духа, распространившееся по большей части Европы и просуществовавшее более 300 лет. Братья считали, что законы морали не распространяются на них. Норман Кон пишет:
«В сущности, они были гностиками, которых интересовало собственное спасение; однако их разновидность гностицизма была квазимистическим анархизмом — радикальным утверждением свободы, равнозначным отрицанию любых правил и ограничений. Их можно считать ранними предшественниками Бакунина и Ницше».
Русские революционеры конца XIX века и западные гиперлибералы начала XXI также имеют много общего. И те, и другие — люмпен-интеллигенты, превратившиеся в мощную политическую силу. И те, и другие приписывают людям то, что традиционно приписывалось Богу. И те, и другие — русские радикалы сознательно, а современные гиперлибералы неосознанно — занимаются богостроительством.
Движение богостроителей возникло в начале ХХ века, отколовшись от большевизма. Самыми известными богостроителями были комиссар просвещения Анатолий Луначарский (1875 — 1933) и писатель Максим Горький (1868 — 1936). В основу движения легли идеи православного философа Николая Фёдорова (1829 — 1903), который считал, что технологии однажды помогут воскресить каждого из когда-либо живших людей, и идея Ницше о Сверхчеловеке. Ни Ленин, ни Сталин не одобряли Богостроительство, и к 1930-м годам оно прекратило своё существование.
Проницательную критику идей поздних богостроителей можно найти у Достоевского (1821 — 1881). По мнению Достоевского, русский атеизм был бегством от мира без Бога. Вместо того, чтобы учиться жить без Бога, атеисты стремились создать нового Бога посредством обожествления человечества. Атеизм не всегда имел такую цель. Некоторые атеисты отвергали не только идею Бога-творца, но и идею о том, что люди могут изменить мир или самих себя. Немецкий философ Артур Шопенгауэр считал агентность иллюзией. А в мире литературы главным сторонником данного взгляда на атеизм был Сэмюэл Беккет.
Разоблачение идей богостроителей можно найти в романе Достоевского «Бесы» (1871). Несостоявшийся профессор Степан Трофимович Верховенский работает воспитателем Николая Всеволодовича Ставрогина, харизматичного, но ленивого сына богатой землевладелицы Варвары Петровны, от которой Степан зависит в финансовой плане. Иван Шатов, сын бывшего крепостного, который разуверился в революции и стал православным, погибает от рук последователей Степана. Инженер-строитель Алексей Нилович Кириллов совершает самоубийство, чтобы доказать, что он — Бог.
Верховенский — это тип интеллектуала, узнаваемый во всём мире. Повторяя модные идеи, которые бездумно поддерживают миллионы других людей вроде него самого, он абсолютно уверен, что мыслит самостоятельно. Он критикует общество, ничуть не сомневаясь в его устойчивости и своём месте в нём. Предвкушая крах традиционной морали, он совершенно не готов к насилию, которое за этим последует.
Сюжет романа основан на событиях, которые имели место, когда Достоевский работал над книгой. Революционер Сергей Нечаев (1847 — 1882) был арестован за соучастие в убийстве студента, принадлежавшего к возглавляемой им революционной группе. Убийство Шатова приспешниками Верховенского показывает последствия философии Нечаева.
В памфлете «Катехизис революционера», опубликованном в 1869 году, Нечаев утверждал, что любое преступление оправдано, если оно способствует победе революции. Ради достижения этой цели можно убивать других людей, в том числе своих соратников. Как писал Альбер Камю: «Своеобразие Нечаева заключается в том, что он вознамерился оправдать насилие, обращённое к собратьям». «Катехизис» Нечаева оказал влияние на многих последующих революционеров, в том числе на Ленина, хоть тот и отвергал акцент на отдельных актах террора.
Достоевский предвидел, что стремление Нечаева к абсолютной свободе приведёт к абсолютной тирании. Второстепенный персонаж романа Шигалев признаётся:
«Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришёл к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времён до нашего 187… года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком … Я запутался в собственных данных, и моё заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого».
Безграничная свобода означает обожествление самого себя. Кириллов объясняет:
«Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьёшь себя сам. Если сознаёшь — ты царь и уже не убьёшь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнёт и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать … Я три года искал атрибут божества моего и нашёл: атрибут божества моего — Своеволие!»
В атеизме Кириллова могущество переходит от Бога не к «человечеству», а к нему одному. Схожий вид атеизма исповедовал немецкий философ Макс Штирнер (1806 — 1856), который в своей книге «Единственный и его собственность» (1844) называет светские гуманистические ценности «призраками». (Неизвестно, читал ли книгу Достоевский, хотя она и была опубликована на русском.) Прогресс, права человека, общество и человечество — действительно призраки, имеющие демоническую власть над людьми. Однако сам Штирнер также был одержим призраками. Он пишет:
«Бог и человечество поставили своё дело не на чём ином, как на себе. Поставлю же и я моё дело только на себе, ибо я, так же как Бог, — ничто всего другого, так как я — моё "всё", так как я — единственный … я творческое ничто, то, из которого я сам как творец всё создам».
Единственный — это не смертный человек, а аватар Бога. Атеизм — это обожествление человека. В этом Штирнер, Ницше, Нечаев и Бакунин сходятся.
Так же и гиперлиберальная идея о создании собственной идентичности выливается в банальность. В «Братьях Карамазовых» в сцене беседы Ивана с дьяволом во время горячки Достоевский пишет:
«Это был какой-то господин или лучше сказать известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых … Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно ещё третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил … был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах».
Дьявол излагает идею, которой была одержима русская интеллигенция:
«… падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог … так как бога и бессмертия всё-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с лёгким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! … "всё дозволено" и шабаш!»
Дьявол стремится не освободить человечество, а испортить его при помощи ложной идеи свободы.
Бесы в названии романа Достоевского — это не террористы, а идеи, приведшие к уничтожению как общества, которое интеллигенция хотела освободить, так и самой интеллигенции.
Кириллов застреливается после признания в убийстве студента-революционера, подозревающегося в сотрудничестве с полицией. Подстрекатель Ставрогин в итоге также совершает самоубийство. В главе «У Тихона», не включённой в первое издание, Ставрогин заявляет, что не верит в Бога и отвергает разделение на добро и зло. Затем он признаётся в изнасиловании 11-летней девочки и доведении её до самоубийства. После этого он как будто признаёт причастность к смерти своей нетрудоспособной жены. Ставрогину нравится возбуждение, сопровождающее нарушение законов морали, в которую он не верит.
Верховенский умирает, частично отвергнув революционные идеи, в которые он частично верил. На смертном одре он принимает православие, хотя рассказчик и сомневается в его искренности. Позёр, за позами которого скрывается внутреннее банкротство, он является бунтарём не в большей степени, чем дьявол, который является Ивану. Он принадлежит к «премудрым», которых Достоевский высмеивает во «Сне смешного человека»:
«… стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твёрдо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, "премудрые" старались поскорее истребить всех "непремудрых" и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству её».
Верховенский заигрывает с силами, которых он не понимает. Посредством соучастия в уничтожении реальных свобод он способствует созданию новой, абсолютной тирании. Либеральных интеллектуалов вроде него при Ленине ликвидировали или депортировали первым делом.
История коммунизма показала верность предсказаний Достоевского. Десятки миллионов людей погибли в ходе эксперимента по созданию нового человечества.
Дистрофия и угольно-чёрная борода
. если при большом голоде он кого-либо ограбит или украдёт съестные припасы, которые не может получить ни за деньги, ни в качестве милостыни… то это нельзя вменять ему в вину…
«Левиафан», глава 27
Российский востоковед-иранист Александр Болдырев был специалистом по выживанию. Он избежал чисток, которые прошли в Советском союзе в 1930-х годах, скрываясь в больнице и совершая исследовательские поездки по Средней Азии. Он также избежал призыва в армию благодаря помощи любовницы, работавшей в Эрмитаже. Вместе с женой и дочерью он пережил 900-дневную блокаду Ленинграда, за время которой погибло около миллиона человек.
Невозможно было выжить, питаясь только едой, которая выдавалась по продовольственным карточкам. Болдырев обменивал на еду семейные реликвии: за наручные часы, мундштук, сервиз, столовое серебро и обручальное кольцо матери он получил муку, сало и хлеб. Ему удалось получить доступ к столовым некоторых учреждений, в которых он питался сам и из которых приносил объедки домой. Его мать, шурин и дядя умерли от голода. Болдырев выжил и прожил до 1993 года.
Те, кто пережил блокаду, стали другими людьми. В дневниках, которые они вели, запечатлён шок, который они испытывали, глядя на себя в зеркало. Одна женщина написала: «Я выглядела точно так же, как и все эти чудовища. От меня остались лишь сморщенная кожа и кости». Обращаясь к самой себе по имени, она добавляла: «По сравнению с самой собой в первые дни войны, ты изменилась до неузнаваемости, Саша». Другая, увидев себя в зеркале, плюнула в своё отражение.
Некоторые блокадники втайне писали, не показывая свои произведения никому. Историк искусства Геннадий Гор (1907 — 1981) оставил после себя блокнот с пожелтевшими страницами, который после его смерти обнаружил его внук. В одном из стихов Гор описывает практиковавшийся во время блокады каннибализм:
Я девушку съел хохотунью Ревекку
И ворон глядел на обед мой ужасный.
И ворон глядел на меня как на скуку
Как медленно ел человек человека
И ворон глядел, но напрасно,
Не бросил ему я Ревеккину руку.
Те, кто знал Гора при жизни, не могли поверить, что этот «застенчивый, эксцентричный» человек мог написать подобные строки.
Очень скоро жители города разделились на тех, кто имел доступ к еде, и на тех, кто его не имел. Причиной смерти последних указывалась «дистрофия».
В большинстве случаев доступ к еде зависел от места работы. Военные заводы в этом отношении были самыми лучшими местами, хотя там было много несчастных случаев на производстве. Рабочие пекарень имели более высокие шансы на выживание. В самом худшем положении оказались приехавшие из деревни, заключённые, пациенты больниц и дети из приютов.
Чем ближе вы были к власти, тем меньшей была вероятность умереть от голода. Больше всего повезло партийным сотрудникам, которые жили в домах отдыха и питались курицей, индейкой, колбасой, рыбой и пили чай, кофе, какао, вино и портвейн.
Блокадный Ленинград был искусственным естественным состоянием в квадрате. Окружив город, нацистские войска создали пространство крайнего дефицита, изолированное от остального Советского Союза. Однако в советском обществе с самого начала шла борьба за еду.
Поэтесса Полина Барскова, которая ныне живёт в США, вспоминает, как её родители, пережившие блокаду, показали ей «кусок чёрного несъедобного вещества из пайков, которые выдавались в городе зимой 1941–1942 годов. Я по сей день помню вкус слёз у меня в горле при виде этого: этот хлеб выглядел как уголь, как нечто из ада».
Лишь те, кто имел связи, могли надеяться на выживание, и то ненадолго. С 1937 по 1938 год было арестовано около 2 миллионов и казнено около 700 тысяч человек. В ходе Большого террора была истреблена большая часть нового правящего класса, сформировавшегося по итогам революции. Если бы кто-то написал историю этого года, это была бы история элиты, которая «сделав головокружительную карьеру, снова обрушилась в бездну. Это был бы очерк о восхождении и падении целого класса людей на протяжении одной лишь исторической секунды; людей, даже не успевших привыкнуть к привилегиям, производимым из их власти и не обретших покоя в своей изнурительной борьбе за её упрочение. Речь шла вовсе не об окаменелом истеблишменте, дни которого были сочтены, и ещё оставалось немного времени, чтобы приготовиться к уходу. Это был внезапный конец, смерть без предварительного оповещения. Едва обретённая роскошь неожиданно соединялась с холодной смертью».
Смертельный сачок
… не может быть также никакого обдумывания в отношении заведомо невозможных вещей или вещей, которые мы считаем невозможными, ибо людям ясно, что такое обдумывание бесполезно.
«Левиафан», глава 6
Смерть поэта и детского писателя Даниила Хармса (1905 — 1942), одной из ведущих фигур культурного авангарда конца 20-х годов, случилась на фоне блокады Ленинграда. Хармс хотел превратить свою жизнь в произведение абсурдистского искусства. В качестве перформанса он прогуливался по улицам города с сачком для бабочек.
Хармс был членом группы «ОБЭРИУ» (Объединение реального искусства), в которую входили поэты, продолжавшие писать в стол во время блокады. Его произведения сохранились по счастливой случайности. Через несколько месяцев после его последнего ареста его друг, философ Яков Друскин (1902 — 1980), пешком прошёл много часов до дома Хармса, собрал его рукописи в чемодан и в 1960-е годы передал их библиотеке.
Абсурдизм Хармса вскоре навлёк на него беду. Его дважды арестовывали — в 1931 и 1938 годах — за антисоветскую деятельность. А 23 августа 1941 года, через 2 месяца после вторжения нацистов, арестовали снова — на этот раз за распространение пораженческих настроений, что предусматривало смертную казнь. При обыске у него были изъяты паспорт, свидетельство о браке, медицинская карточка, стихотворение, экземпляр Нового Завета, два портсигара, две бронзовых и одна деревянная икона.
На допросе Хармс отрицал совершение каких-либо преступлений против Советского Союза. Второго сентября его перевели в психиатрическое отделение больницы НКВД. В медицинском отчёте указывалось, что Хармс «трезво мыслит и хорошо ориентируется в пространстве и времени», однако «выражает ложные идеи, характеризующиеся абсурдными утверждениями, лишёнными последовательности и логики». Возможно, он притворялся сумасшедшим в надежде избежать расстрела. Пятого декабря 1941 года он был признан угрозой обществу и отправлен на принудительное лечение в тюремную больницу.
В середине декабря его перевели в отделение психиатрии больницы «Крестов». Его жена, Марина Малич, регулярно приносила ему передачи с едой. Когда она пришла 7 февраля 1942 года, служащий попросил её подождать и закрыл окошко. Через несколько минут окошко открылось снова и она услышала: «Скончался 2 февраля».
Хармс предвидел свою смерть в стихотворении, написанном в 1937 году:
Так начинается голод:
с утра просыпаешься бодрым,
потом начинается слабость,
потом начинается скука,
потом наступает потеря
быстрого разума силы,
потом наступает спокойствие.
А потом начинается ужас.
Место, где похоронен Хармс, неизвестно.
В отличие от мужа, Марина выжила. После его смерти она бежала из города, но была схвачена немцами и вывезена в Германию как остарбайтер. Там она снова бежала, на этот раз во Францию, где воссоединилась с матерью, которая бросила семью и жила в Ницце. Она соблазнила мужа своей матери, вышла за него замуж и уехала вместе с ним в Венесуэлу. Там они расстались, и она открыла книжный магазин вместе с бывшим русским аристократом, работавшим таксистом.
Марина умерла в Атланте, штат Джорджия, в 2002 году.
«Меня интересует только "чушь"; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявлении», — писал Хармс. Абсурд для него означал творческую свободу. Представление закончилось его смертью.
Почти ничего
Оттенок справедливости придаёт человеческим поступкам известное (редко встречаемое) благородное или галантное мужество, при котором человек не желает быть обязанным какими-нибудь благами жизни хитрости или нарушению обещания.
«Левиафан», глава 15
Утром 2 сентября 1939 года польский художник Юзеф Чапский, которому тогда было 43 года, положил томик мемуаров Андре Жида в карман своей шинели и отправился отражать вторжение нацистов. В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года Сталин и Гитлер договорились о разделе Польши. Через 16 дней после нападения нацистов советские войска вторглись в Польшу с востока. Оказавшись зажатым между немецкими и советскими войсками во Львове, отряд Чапского сдался. Немцы передали польских военнопленных советской стороне. После этого Чапский провёл 2 года в советских лагерях.
Хоть они этого и не знали, Чапский и остальные узники лагерей должны были умереть. В марте 1940 года глава НКВД Лаврентий Берия и три члена Политбюро подписали меморандум, согласно которому польские военнопленные подлежали расстрелу. Операция, занявшая 2 месяца, началась с перевозки пленных в Катынский лес (Смоленская область). Всего выстрелом в затылок было казнено около 22 тысяч польских военных, которые в мирной жизни были юристами, врачами, писателями, художниками, учёными и инженерами. Целью массового убийства было сделать невозможным восстановление Польши как независимого государства.
За 28 дней один человек, Василий Блохин (1895 — 1955), главный палач Лубянки, казнивший писателя Исаака Бабеля и театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, застрелил около 7 тысяч человек. Он использовал немецкие пистолеты, которые носил с собой в чемодане, так как считал советские модели ненадёжными. За свою службу советскому режиму Блохин получил орден Красного Знамени. После смерти Сталина он был отправлен в отставку и лишён звания. Он умер в возрасте 60 лет после многолетних проблем с алкоголизмом. Причиной смерти было указано самоубийство.
По неизвестным причинам, Чапский оказался среди 395 узников, которые не были казнены. Он был освобождён в сентябре 1941 года, когда Сталин амнистировал всех польских военнопленных для борьбы с нацистами после вторжения последних в Советский Союз.
Чапский родился в 1896 году в Праге. Он вырос в обеспеченной семье и окончил 1-й курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В молодости он был последователем Льва Толстова и верил в ненасильственное сопротивление злу. После Октябрьской революции, в которой его семья потеряла всё, он попытался создать в Петербурге пацифистскую коммуну, однако в итоге провёл почти всё время в поисках еды. В мае 1918 года он переехал в Варшаву, чтобы изучать искусство. Позже он провёл 8 лет в Париже, встречаясь с французскими и русскими художниками и писателями, и создавая картины в стиле Сезанна.
Чапский не воспринимал своё заключение в ГУЛАГе всерьёз. Он был твёрдо настроен не терять времени впустую. Он рисовал на клочках бумаги размером с почтовую марку. Большинство из этих набросков изображают лагерную жизнь; есть также автопортреты и миниатюрные копии его довоенных картин, оставшихся в варшавской студии.
Именно в лагере, не имея доступа к книгам Пруста, Чапский прочитал лекции, опубликованные позже в сборнике «Утраченное время». Чапский был не единственным узником ГУЛАГа, для которого Пруст стал окном в мир. Варлам Шаламов пишет о том, как обнаружил томик «Стороны Германтов» на дне посылки с одеждой, переданной лагерному врачу. «Пруст был дороже сна», — писал он. Книга позже была украдена, когда он положил её на лавку, разговаривая с другим узником.
Прочитанные вечерами зимы 1940–1941 годов в трапезной бывшего монастыря, служившей лагерной столовой, перед аудиторией из 40 таких же узников, которые целыми днями работали при температуре до -45 градусов, лекции Чапского не похожи ни на что другое, написанное о Прусте. Чапский делает акцент на безразличии к смерти, которое возникает в уме, наполненном вневременными воспоминаниями.
Чапский сравнивает Пруста с Паскалем. Автор «Мыслей» может показаться странным выбором. «Поглощённый стремлением к абсолюту», Паскаль «считал преходящие чувственные удовольствия недопустимыми». Для Пруста же одни только чувственные удовольствия и имели ценность. В письме к другу он признавался, что хочет одного: наслаждаться жизнью, особенно половой любовью. Тем не менее, пишет Чапский, творчество Пруста «оставляет паскалевский привкус тлена».
Роман Пруста — это размышление о тщете жизни. Сван, светский человек, получает смертный приговор от своих врачей. Когда он сообщает новость своим друзьям-аристократам, те говорят ему, что он выглядит прекрасно, после чего заговаривают о том, что туфли герцогини не сочетаются с её ожерельем. Когда рассказчик Пруста узнаёт о смерти Альбертины, то едва уделяет этому внимание, так как слишком занят другими делами.
Есть принципиальное различие между Паскалем и Прустом, говорит Чапский. Тогда как Паскаль с отвращением отворачивается от мира, Пруст ищет спасения в чувствах. Рождённый и умерший католиком, всегда носивший с собой карманную Библию, Чапский был глубоко верующим человеком. Он безошибочно распознал религиозность и у Пруста — в его стремлении увековечить мгновение в образах красоты.
Чапский описал свои поездки по Советскому Союзу в поисках пропавших польских офицеров в книге «Бесчеловечье». В отличие от мгногих других западных путешественников, Чапский — свободно владевший русским — при любой возможности вступал в разговор с простыми людьми. Советская пропаганда преподносила СССР как страну изобилия. Чапский же увидел повсеместную нужду, бессильную злость и покорность судьбе.
Приехав в Москву, Чапский искал в книжных лавках артефакты мира, канувшего в небытие. Он нашёл изысканно переплетённое издание «Цветов зла» 1868 года, которое купил за 10 рублей (фунт масла стоил 30 рублей). Он познакомился с Анной Ахматовой, чей муж, Николай Гумилёв, был расстрелян в 1921 году. Та «была одета в платье из очень бедной ткани, чего-то среднего между мешком и рясой … и говорила странным тоном, как будто шутя, даже об очень грустных вещах».
Попытки Чапского разузнать о судьбе своих боевых товарищей закончились ничем. О братских могилах в Катынском лесу сообщалось в 1942 и 1943 годах; нацистская пропаганда использовала их, чтобы вбить клин между союзниками. Всю оставшуюся жизнь (он умер в возрасте 96 лет) Чапского мучил вопрос о том, почему он не был расстрелян вместе с остальными узниками.
Помимо этой трагедии и живописи, для Чапского был важен его друг, Лювик Геринг. Чапский и Геринг были разделены после начала Второй мировой войны, однако поддерживали переписку на протяжении 30 лет, обменявшись за это время сотнями писем. Когда они снова встреились в Париже в 1972 году, Чапский пытался воодушевить своего друга. Большую часть времени они спорили о «Бесах» Достоевского. Чапский утверждал, что роман допускает возможность наполненной смыслом жизни, а Геринг — что он такой надежды не оставляет. В 1984 году больной раком Геринг покончил с собой. Чапский зачеркнул запись о смерти друга в своём дневнике, однако не замазал слова полностью, увековечив свою утрату и благодарность за всё, что дал ему его друг.
Чапский жил в скромной квартире в Париже, создавая картины, наполненные светом и цветом, до 90 лет. Когда его спросили, почему на его картинах изображены «одинокие люди, пустые столики кафе, полускрытые лица пассажиров метро и украдкой замеченные незначительные повседневные события», он ответил: «Во всех случаях не изображено почти ничего. Но это "почти ничего" — всё».
Смысл этих слов становится ясен в контексте рассказа Чапского о поисках своих боевых товарищей:
«Те дни, вырванные из лихорадочной рутины и непрерывной работы, сегодня кажутся мне счастливыми. Есть ли такое место, такая Геенна, где, свободный от физических страданий, голода и холода или хотя бы необходимости работать, человек мог бы хоть на четверть часа почувствовать себя счастливым? … Сидя в тёплом купе, я смотрел через покрытые льдом окна на красное заходящее солнце, раз за разом задерживавшие нас сугробы, разрушенные купола церквей со сломанными крестами в чёрных деревнях и снежную пустыню в степи за Волгой … почти без домов, почти без людей».
Умение быть счастливым было величайшим даром Чапского. Когда его хоронили, могилу пришлось удлиннять более одного раза, чтобы в неё поместился сделанный специально для него гроб.
Серебрянные туфли и пальто с дыркой от пули
Никто не смеётся над старой шуткой и не плачет из-за старого несчастья.
«Левиафан», глава 6
Знаменитая русская писательница Тэффи, бежавшая от Октябрьской революции и гражданской войны, пишет о том, как мыла палубу парохода в серебрянных башмаках. Как и другие женщины на борту, она приберегала повседневную одежду на потом. Зная, что не смогут ничего купить, сойдя на берег, они носили вещи, которые им больше не пригодятся: шали, бальные платья и сатиновые туфли. Когда ей сказали, что пришла её очередь мыть полы, она решила надеть серебрянные башмаки. Другие пассажиры сказали, что она недостаточно старалась и выглядела слишком счастливой.
Тэффи села на пароход в Одессе после полной опасностей поездки из Москвы через Украину. Она пересекла территорию, за которую воевали красноармейцы, антибольшевики белые, украинские националисты зелёноармейцы и чёрная гвардия анархистов-крестьян. С 1918 по 1920 годы Киев более десятка раз переходил из рук в руки, причём каждая смена власти сопровождалась расстрелами.
Когда она прибыла в захваченную большевиками деревню, ей и её спутникам сообщили, что им будет позволено пересечь границу с Украиной только если они помогут местному комиссару поставить цикл представлений в центре культуры и просвещения. Комиссар был одет в великолепную бобровую шубу, «которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале». Она заметила, что в шубе была дыра от пули, а вокруг неё засохшая кровь. Позже она видела собаку, державшую в зубах человеческую руку. В итоге представления прошли хорошо, и она с облегчением продолжила путь.
До революции Тэффи была одной из самых известных писательниц в России. Надежда Александровна Лохвицкая родилась в 1872 году в Санкт-Петербурге в семье адвоката. Выйдя замуж за польского землевладельца, она через 10 лет разошлась с мужем и начала литературную карьеру. По её словам, такой псевдоним она выбрала потому, что он звучал как собачья кличка или имя шута. К началу революции она уже была настолько известной, что в её честь называли духи и кондитерские изделия.
Она знала всех. Она пишет о том, как провела вечер в компании Распутина, мистика, который стал кем-то вроде члена семьи для царя Николая II (одного из самых преданных читателей Тэффи). Она также знала Ленина. Придерживаясь левых взглядов, она некоторое время работала в первой в России большевистской газете. Ленина она описывает как простого человека, безразличного к красоте. Как оратор Ленин не зажигал толпу: он «деловито долбил тяжёлым молотом по самому тёмному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость».
В её глазах Ленин был не более чем проводником политической идеи. «Эти одержимые маньяки очень страшны», — писала она. Когда Ленин закрыл культурный раздел газеты, не видя в нём пользы для революционной борьбы, Тэффи уволилась.
За время своих путешествий Тэффи повидала немало ужасов. В 1919 году она осела в Париже и писала на ночном столике в маленькой комнате недалеко от вокзала Монпарнас. Помимо критики нацизма, который она застала (она умерла в 1952 году), она больше ничего не писала о политике до конца жизни. Повороты судьбы были для неё комедией, порой слишком жестокой для смеха.
Тэффи не производит грустное впечатление. Поэт Георгий Адамович писал: «Некоторые писатели мутят воду, чтобы создать ощущение глубины. Тэффи была противоположностью этого: вода у неё совершенно прозрачная, однако дна не видно». На дне был абсурд; возможно, именно он помогал ей держаться на плаву.
Первая антиутопия
Некоторые живые существа, как, например, пчёлы и муравьи, живут, правда, дружно между собой (поэтому Аристотель и причислил их к общественным созданиям), а между тем каждое из них руководствуется лишь своими частными суждениями и стремлениями, и они не обладают способностью речи, при помощи которой одно из них могло бы сообщить другому, что оно считает необходимым для общего блага. Поэтому кто-нибудь, вероятно, захочет узнать, почему род человеческий не может жить точно так же.
«Левиафан», глава 17
В мае 1929 года советский писатель Евгений Замятин подвергся нападкам со стороны поэта Александра Безыменского, члена Российской ассоциации пролетарских писателей. В «Литературной газете» под заголовком «Справка социальной евгеники» вышли следующие частушки:
Тип: — Замятин
Род: — Евгений
Класс: — буржуй
В селе: — кулак
Результат перерождений
Сноска: — враг
Подобные строки пришлись бы ко двору в нацистском еженедельнике «Der Stürmer». Эта атака стала кульминацией кампании против Замятина. В сентябре 1929 года он заявил о выходе из Союза писателей, а в июне 1931 года написал письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд за границу. Благодаря поддержке Максима Горького просьба Замятина была удовлетворена. Вместе со своей женой Людмилой он покинул Россию и переехал в Париж, где и умер от сердечного приступа в 1937 году.
На Западе Замятин приобрёл известность в первую очередь благодаря Джорджу Оруэллу. В своей рецензии на роман Замятина «Мы» Оруэлл в 1946 году написал, что книга «представляет собой любопытный литературный феномен нашего книгосжигательского века». В определённом смысле, в своей рецензии Оруэлл приуменьшил заслугу Замятина. Он считал, что книга была написана примерно одновременно со смертью Ленина в 1924 году. На самом же деле, как продемонстрировал биограф Замятина, она была написала в 1918–1919 годах, то есть в годы первой волны террора. «Мы» — это бескомпромиссный анализ зарождения тоталитарной логики советского проекта.
Оруэлл проницательно подметил сходство романа «Мы» с романом Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932). Хаксли описывал мир, в котором свобода была искоренена ради счастья. Оруэлл ставил книгу Замятина выше книги Хаксли за «интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма — жертвенности, жестокости как самоцели, обожания Вождя, наделённого божественными чертами». Все эти аспекты присутствуют в «1984» (1949), который, по признанию самого Оруэлла, был вдохновлён романом Замятина.
«Мы» — первая настоящая антиутопия. Герберт Уэллс, с которым Замятин встречался, когда тот приезжал в СССР в 1920 году, и которому посвятил длинное эссе, создал несколько очень запоминающихся антиутопий. В его первом романе, «Машина времени» (1895), утончённые элои живут за счёт рабского труда обитающих под землёй морлоков. В «Острове едоктора Моро» (1986) учёный создаёт чудовищных гибридов. Американский писатель-социалист Джек Лондон — книги которого переводил на русский Замятин — в «Железной пяте» (1908) описывает приход к власти в США гиперкапиталистической олигархии. Эдвард Морган Форстер в рассказе «Машина останавливается» (1909) пишет о мире, где люди живут в подземных городах, а все потребности человека удовлетворяет всемогущая Машина; коллапс Машины оборачивается смерью людей. Ни одна из этих книг не содержит главного элемента антиутопии — бунта человеческих страстей против тоталитарного порядка.
Замятин родился в 1884 году в Лебедяни. Его отец был православным священником, а мать — пианисткой. Замятин всегда вёл несколько жизней. Бунтуя против царизма, он в студенческие годы вступил во фракцию большевиков РСДРП. Во время революции 1905 года он был подпольным активистом, прятал листовки и оружие, учась на морского инженера в Санкт-Петербургском политехническом институте. Когда его раскрыли и арестовали, он провёл 3 месяца в одиночной камере.
Путешествуя по России и осматривая порты и подводные лодки, он сделал себе имя как писатель, опубликовав несколько рассказов. Он совмещал два дела и когда был командирован в Тайнсайд для участия в строительстве российских ледоколов. В Ньюкасле он написал повесть «Островитяне» (1917), в которой высмеивал классовую систему провинциальной Англии. Со временем он перенял сдержанную манеру и привычку носить твидовые костюмы, характерные для этой страны, за что соотечественники прозвали его «англичанином».
Независимость Замятина вскоре привела к его конфликту с большевиками. Уже через несколько недель после Октябрьской революции 1917 года он начал критиковать советский режим за диктаторские методы. Считаясь потенциальным врагом, он был арестован сначала в феврале, а затем снова в марте и мае 1919 года по подозрению в участии в предположительном заговоре.
Масштаб угрожавшей ему опасности стал очевиден в августе 1921 года, когда его друг, поэт Николай Гумилёв, был арестован по ложному обвинению в участии в антисоветском заговоре, приговорён к смерти и расстрелян вместе с 60 другими предположительным участниками заговора в Ковалёвском лесу неподалёку от Петербурга (всего в братских могилах в этом месте захоронено около 4,5 тыс. человек, расстрелянных в годы Большого террора).
В 1922 году Замятин провёл месяц в тюрьме в ходе кампании, которая закончилась массовой высылкой интеллигенции страны на «философском пароходе». По мнению некоторых, Замятин был включён в списки на высылку по инициативе Троцкого. Однако в итоге Замятин не был выслан. На протяжении нескольких лет он колебался, следует ли ему последовать примеру других русских писателей и покинуть страну. Хоть он и критиковал большевиков с момента их прихода к власти, он отказывался присоединяться к политическим группам эмигрантов в Париже. За границей он остался таким же независимым, каким был в Советском Союзе.
Построенный в форме дневника из 40 записей, который ведёт математик и инженер Д-503, роман «Мы» описывает общество, где правит диктат разума. Единое Государство контролирует каждый аспект жизни своих граждан (включая выбор половых партнёров), которые живут в квартирах со стеклянными стенами, делающими возможной постоянную слежку. Их поведение регламентируется тем, что мы назвали бы алгоритмами — математическими формулами, предписывающими наиболее продуктивный способ провести каждый час дня. Зелёная Стена отделяет людей от дикарей, живущих за пределами города-государства. А всевидящий Благодетель следит, чтобы всё работало без сбоев.
Д-503 встречает свободолюбивую женщину, I-330, к которой испытывает влечение. Вместо стерильного секса, предписываемого государством, между ними разгорается пылкая страсть. I-330 сообщает, что она состоит в Мефи, революционной организации, которая намерена разрушить стену. Д-503 хочет донести на неё Хранителям, однако не решается этого сделать.
В последней записи Д-503 рассказывает о том, что восстанавливается после «Великой Операции», процедуры по удалению эмоций: «… я здоров, я совершенно, абсолютно здоров … Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто».
Он доносит на свою любовницу и наблюдает за тем, как её пытают, без капли сострадания или сожаления. В отличие от Джулии из «1984» Оруэлла, I-330 не предаёт своих сообщников. Несломленную, её казнят вместе с ними. Мефи взрывают Зелёную Стену; целые кварталы города оказываются завалены трупами. Но Д-503 невозмутим: «… я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить».
Замятин был против создания утопии не потому, что считал это неосуществимой затеей. Будь она осуществима, он возражал бы ещё сильнее. Любая утопия — по необходимости антиутопия, так как гармония разума — это смерть души.
Признание Бухарина и страх темноты
Аналогично тому, как последнее желание при обдумывании называется волей, последнее мнение при исследовании истины относительно прошлого и будущего называется суждением, или решительным и окончательным мнением, того, кто рассуждает.
«Левиафан», глава 8
Вечером 12 марта 1938 года на вечернем заседании Верховного суда СССР Бухарин сделал следующее признание:
«Я признаю себя виновным в измене социалистической родине. Самым тяжким преступлением, которое только может быть. В организации кулацких восстаний, подготовке террористических актов, принадлежности к подпольной антисоветской организации… Я признаю себя, далее, виновным в подготовке заговора "дворцового переворота" … я считаю себя ответственным за величайшее и чудовищное преступление перед социалистической родиной и всем международным пролетариатом … в тюрьме я переоценил всё своё прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрёшь, во имя чего ты умрёшь. И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно чёрная пустота … Я, быть может, говорю последний раз в жизни».
Признание Бухарина вдохновило Артура Кёстлера на написание романа «Слепящая тьма». Впервые переведённый на английский девушкой Кёстлера, скульптором Дафной Харди, когда они жили вместе в Париже, роман был опубликован в Лондоне в декабре 1940 года, во время Большого блица. Название книги (буквально — «Тьма в полдень»), позаимствованное из Книги Иова («Днём они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью»), выбрала именно Харди. Кёстлер прибыл в Британию в ноябре 1940 года после заключения во французском лагере, побега из Франции, вступления в и дезертирства из Иностранного легиона. Когда вышла книга, он сидел в тюрьме Пентонвиль за незаконный въезд в страну. Книга быстро стала международным бестселлером.
Необходимо иметь историческое воображение, чтобы понять идеологические страсти, связанные с коммунизмом. Рассматривать шедевр Кёстлера как артефакт минувшей эпохи означает упускать из виду актуальность книги. Политическая религиозность свойственна не только коммунистам; ту же смесь самообмана и непреклонной уверенности можно встретить у либералов периода после Холодной войны. Они также не могут смириться с концом религии, которая стала смыслом их жизни.
Прототипом главного героя книги, Николая Залмановича Рубашова, старого большевика, ожидающего расстрела за измену режиму, выступил Бухарин, с которым Кёстлер познакомился будучи с Советском Союзе в 1932 году. Бухарин был фигурантом показательных процессов, начавшихся после убийства Сергея Кирова, Первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б), в декабре 1934 года. Некоторые считают, что за убийством Кирова стоял Сталин, однако также может быть, что Сталин просто использовал его в своих целях. Как бы там ни было, в ходе начавшегося после этого Большого террора было убито около ¾ миллиона людей.
Бухарин сделал своё признание после года заключения и допросов. В тюрьме он не терял времени зря и написал четыре длинных рукописи: около 180 стихов, мемуары в форме романа и два труда по марксизму — в общей сложности 1400 печатных страниц. Он писал по ночам и в перерывах между допросами в надежде, что после казни бумаги передадут его жене, Анне Лариной, которая их опубликует.
Бухарин не сомневался, что его казнят, однако попытался повлиять на способ казни.
В своём последнем письме к Сталину в декабре 1937 года Бухарин просил советского вождя проявить милосердие и вместо пули в голову позволить ему принять яд. В ответ Сталин распорядился предоставить Бухарину стул, чтобы он мог наблюдать за расстрелом 16 своих сообщников перед тем, как казнят его самого.
Бухарин был реабилитирован в 1988 году в период перестройки, а его труды были обнаружены в 1992. Ларина дожила до их публикации. Гуманистический социализм, о котором мечтал Бухарин, так и остался фантазией, которой был при его жизни. Через 3 года после смерти Лариной Борис Ельцин назначил Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра и выбрал его своим преемником.
То, почему Бухарин признался в преступлениях, в которых его обвиняли, очень важно сегодня. Рубашов, альтер-эго Кёстлера и Бухарина, соглагается с обвинениями против себя в знак последнего акта преданности партии. Некоторые современники Кёстлера сочли данный момент неубедительным. Польско-еврейский поэт, бывший коммунист, а позже католик Александр Ват, который отбывал заключение в советской тюрьме, писал, что большинство признавшихся в преступлениях, которых они не совершали, лишь посмеялись бы над мягкими методами допроса, описанными в «Слепящей тьме». Ват покончил с собой в Париже в 1967 году.
Выбивание признаний в ходе показательных процессов было поставлено на конвейер. Заключённых систематически избивали на протяжении дней или даже недель. К этому добавлялись психологические методы воздействия — лишение сна, инсценировка казни и тому подобное. В своей знаковой книге «Бухарин: Политическая биография» (1971) Стивен Коэн утверждал, что Бухарин не подвергался пыткам. Факты, всплывшие в конце 80-х годов, указывают на то, что ему угрожали пытками. Угрожали также его семье. В районе 2 июня 1937 года ему сообщили, что если он не признает вину, его жену и новорожденного сына убьют. Именно тогда он дал признательные показания, назвав 42 других участников «дворцового переворота», большинство из которых к тому времени уже были арестованы. Его жена оказалась в лагере, а сын — в детском доме. У Анны забрали единственную фотографию сына, и они снова увиделись лишь спустя 20 лет.
Существует стенограмма судебного заседания, но нет ни киносъёмки, ни фотографий, на которых были бы запечатлены лица подсудимых. В некотором смысле это странно. У советских властей не было причин опасаться осуждения мира. Многие западные либералы были убеждены, что процессы и признания — настоящие. Американский философ-гуманист Корлисс Ламонт написал открытое письмо с призывом поддержать процессы. New York Times, Nation, New Republic и посол США в СССР Джозеф Эдвард Дэвис верили, что подсудимые были виновны в попытке государственного переворота. Прогрессивные интеллектуалы наперебой защищали Сталина от обречённого и бессильного Бухарина.
Кёстлер ошибался, думая, будто Бухарин сознался добровольно. Однако Кёстлер проницательно вложил в уста Рубашова признание, что он и остальные старые большевики были виновны в других преступлениях, в которых сознаться не могли:
«Они погрязли в собственном прошлом, запутались в сетях, сплетённых ими же по законам партийной морали и логики, — короче, все они были виновны, хотя и приписывали себе преступления, которых на самом деле не совершали. Они не могли возвратиться назад».
Все подсудимые обрекли невинных людей на тюрьму или смерть, служа делу большевиков, а затем скрыли свои преступления. Во внутрипартийном конфликте 20-х годов Бухарин встал на сторону Сталина, выступив против своих единомышленников Льва Каменева и Григория Зиновьева, которые также были казнены по итогам показательных процессов. Он осуждал некоторые из самых ужасных злодеяний советского режима вроде подавления Кронштадтского восстания в 1921 году и коллективизации. Однако он не сказал ни слова, когда Ленин потребовал расстрелять сотни проституток в августе 1918 года и приказал публично повесить участников Пензенского восстания. Бухарин был безмолвным соучастником первой волны террора в сентябре 1918 года, в ходе которой было казнено от 10 до 15 тысяч человек.
Вместе с другими большевиками он приветствовал принятие Конституции, которой вводилась категория «бывших людей», человеческих пережитков старого порядка, за которыми отрицались гражданские права. Когда невинных людей расстреливали или морили голодом потому что они оказались ненужными в новом обществе, Бухарин не выражал сожаления. Когда их обвиняли в надуманных преступлениях, он делал вид, что верит в их виновность.
Большевизм с человеческим лицом всегда был лишь вымыслом. Тем не менее, ничто не указывает на то, что Бухарин когда-либо задавал себе вопрос, который Исаак Бабель задал в своём «Дневнике 1920», написанном в годы сражений на стороне Красной Армии, за 20 лет до того, как был расстрелян по приказу Сталина: «Мы авангард, но чего?»
Кёстлер знал, как устроено большевистское сознание, так как и сам скрывал правду во имя общего дела. Он провёл зиму 1932–1933 годов в Харькове, тогдашней столице Советской Украины. Международное объединение революционных писателей заказало ему книгу «СССР глазами буржуазного журналиста», историю западного либерала, который после визита в СССР превращается в горячего поклонника советских достижений.
Кёстлер прибыл в СССР в разгар Голодомора, в ходе которого голодной смертью умерло более 4 миллионов человек. Путешествуя по стране поездом, он писал, что «на каждой станции толпились оборванные крестьяне, протягивали нам бельё и иконы, выпрашивая в обмен немного хлеба. Женщины поднимали к окнам купе детей — жалких, страшных, руки и ноги как палочки, животы раздуты, большие, неживые головы на тонких шеях». На тот момент Кёстлер был разведчиком Коминтерна, основанного в 1919 году. В статьях, которые он отправлял в Москву, он хвалил достижения пятилетнего плана. О голоде не было ни слова. Кёстлер обрубил все связи с партией в 1938 году, однако впервые написал правду об увиденном лишь много лет спустя в сборнике эссе «Йог и комиссар» (1945).
Кёстлер написал величайшую белетризированную историю советского режима благодаря тому, что — в отличие от Джорджа Оруэлла — на некоторое время поддался соблазну тоталитаризма. Для него коммунизм был не просто политическим проектом; он был средством придать смысл окружавшему его хаосу.
В 1937 году, работая журналистом в Испании, Кёстлер был арестован франкистами и приговорён к смертной казни по обвинению в шпионаже. Ему удалось избежать казни благодаря обмену. В тюрьме он пережил откровение и уверовал в «существование высшей реальности и то, что она одна наделяет жизнь смыслом».
После окончания Второй мировой Кёстлер стал ревностным антикоммунистом, однако к 50-м годам его интерес к политике начал угасать. Он активно выступал за отмену смертной казни и предоставление образования заключённым, однако главным образом он был сосредоточен на преодолении редуктивного материализма, который он исповедовал в свои коммунистические годы. Он заинтересовался неортодоксальной наукой и хотел создать кафедру парапсихологии.
Большинство бывших коммунистов позже стали либералами. После того, как Советский Союз распался, казалось, что они сделали верный выбор. Но Кёстлер верил, что проблемы современного общества слишком глубоки, чтобы их можно было решить инъекцией либерализма. Последующие события подтвердили его правоту.
Глобальный либеральный порядок кажется сегодня как никогда далёкой целью. Тем не менее, после российского вторжения в европейскую страну, западные страны без устали нахваливали себя за единство. Конец истории, который Фукуяма провозгласил в 1989 году, не наступил. Вместо этого снова, как и в 1917 году, опустился занавес, поставив под сомнение будущее либерального Запада.
В отличие от гуманистического большевизма, либеральное общество реально существовало. Однако оно возникло случайно и не имело шансов стать универсальной моделью. Сегодня оно перестаёт быть либеральным. В этих условиях некоторые снова достают старую, изъеденную молью парчу прогресса в истории. Без веры в закономерности истории либералы XXI века, как и Бухарин, оказываются перед «абсолютно чёрной пустотой».
Было бы разумнее признать, как это сделал Кёстлер в отношении коммунизма, что новый мировой порядок после Холодной войны был иллюзией. Однако, как и коммунисты межвоенного периода, либералы XXI века не в силах отречься от своей веры. Если у либерализма и есть будущее, то это будущее средства от страха темноты.
©John Nicholas Gray
Оригинал можно почитать тут.