Свободное падение
Моим подругам
Я отдаю себе отчет в том, что этот текст никогда не опубликуют ни в каком приличном издании. Он не пролезет в игольное ушко цензуры. Я пишу не без опасения и как бы даже в надежде, что прочтут только свои. Эти мысли идут из самой глубины моего, если можно так сказать, сердца. Нет, слово «сердце» — не то, и «глубина» — не то. Про глубину мы говорим, когда идем ко дну. А эти мысли появляются оттуда, где нет дна. Из бездны: как низко туда не падай, дна не достигнешь. Выворачиваются в свободном падении. Совсем как мы.
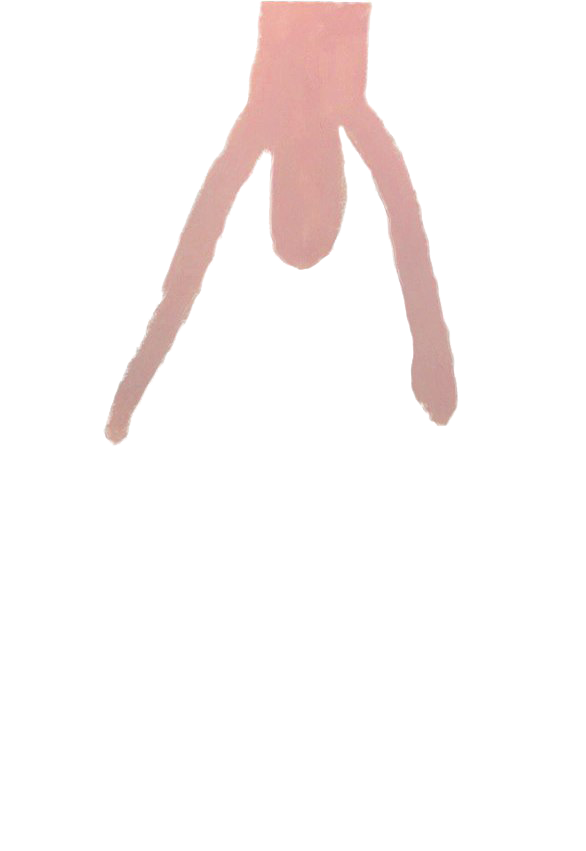
Мы — это те, кого заклеймили в падении. Бляди, проститутки, шлюхи. Мы не сами себя так называем. Нас так называют те, кто думает, что называет вещи своими именами. Но, во-первых, мы — не вещи, а
Мы — те, кто попал в ловушку языка. Злого языка: зря мы не откусили его ещё тогда, когда кто-то засунул его нам в рот.
Ловушка, которая за нами захлопнулась, сделана из двух элементов. Первый элемент — наложение друг на друга желания, наслаждения и вины. От нас ждут доказательств нашей невинности. Её признают, если прежде у нас получится убедить их, что мы не хотели и не наслаждались. Так, жертва насилия не может желать и наслаждаться, но только пассивно претерпевает страдание. Об этом знает любой феминист. Она не хотела, не наслаждалась — значит, она невинная жертва. Насильники, наоборот, оправдывают себя её желанием и наслаждением: она сама хотела, ей понравилось, это её вина. Но и те, и другие исходят из предположения злого языка о том, что желание и наслаждение делают нас виновными.

Второй элемент — жесточайшее табу, существующее в нашей культуре, на женскую полигамию при позитивном или лояльном отношении к мужской. Это табу так же старо, как и легенда о матриархате, при котором его не было, и отголосками которого кажутся вошедшие в историю древнего мира языческие оргии плодородия, культы ненасытных богинь или сохранившаяся в нескольких совсем небольших, редких народах полиандрия.
Этой легенде, вернее гипотезе, от которой ученые уже отказались, опровергнув косвенные доказательства реально существовавшего матриархата, родственна другая — о первобытном коммунизме, все еще признаваемая некоторыми историческим фактом. Одно из свидетельств этого родства — приписываемая первобытному коммунизму, сочетавшему в себе патриархальные и матриархальные социальные практики, общность жен. Обе гипотезы — одновременно и пугающие, и соблазнительные. В начальной точке временной петли они складываются в образ архаичной дикости, позитивный или негативный, а в конечной — в утопию или антиутопию. Если начальная точка временной петли совпадает с конечной, то коммунизм и матриархат представляют собой родовую память человечества о том, чего ещё не было.

Возможно, именно потому, что эта родовая память, мало отличимая от забвения, мерцает на периферии сознания, наша полиандрическая сексуальность, реальная или воображаемая, вызывает у них и возмущение, и возбуждение. Мужчины, которые, когда их никто не видит, мастурбируют на порно в стиле gangbang, а затем обильно извергаются нам в лицо моралином — что творится в их жалкой душе? Что стоит за чувством неоднозначного воодушевления, которое они испытывают, подглядывая за нами, фантазируя о нашем падении, обсуждая и осуждая его, уличая нас в том, что мы сами этого хотели, что нам это нравится? Есенин называет это «горькой правдой земли»:
"Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком."
В этом стихотворении, посвященном Айседоре Дункан, есть и строчки, не вошедшие в официальные сборники: «Пусть целует она другого / Изжитая, красивая блядь». Ревность накладывается на травматическое воспоминание, первосцену, детский театр грубого животного совокупления, в центре которого оказывается любимая — шлюха, богиня, мать.
Есенинская первосцена аналогична тем, о природе которых размышлял Фрейд, и за которыми, по его мысли, не обязательно стоят реальные события. Детские воспоминания — в том числе косвенные, больше похожие на намеки — об актах насилия, совращения или совокупления, подсмотренных ребяческим оком или совершенных над нами в прошлом, могут быть сконструированы. Они приходят из мира желаний, в которых мы никогда себе не сознаемся, которые не пробиваются через инстанцию цензуры, подгоняющую наши влечения под требования человеческого общежития. Даже если этого не было, это все равно было. Просто не в нашей жизни.
Фрейд пришёл к такому выводу, анализируя воспоминания своих пациенток, страдающих истерией, о сценах совращения или пережитом ими в детстве насилии со стороны взрослых «дядь». Вначале он полагал, что эти воспоминания непосредственно относятся к реальным фактам, но довольно скоро масса нелицеприятного материала стала критической — не могла же и в самом деле каждая быть изнасилована своим отцом! — и гипотезу совращения в ее первоначальном, наивном виде пришлось отбросить. Место реальности заняла бессознательная фантазия, заполняющая лакуну непонятно откуда возникающего желания:
«Откуда берется потребность в этих фантазиях и материал для них? Невозможно сомневаться в источниках влечений, но необходимо объяснить факт, что каждый раз создаются те же фантазии с тем же содержанием. У меня готов ответ, но я знаю, что он покажется вам рискованным. Я полагаю, что эти прафантазии — так мне хотелось бы назвать их и, конечно, еще некоторые другие — являются филогенетическим достоянием. Индивид выходит в них за пределы собственного переживания в переживание доисторического времени…»
Фрейд З. Введение в психоанализ.

Что если сопровождаемая бредом ревности любовь поэта к женщине, которую он называет блядью, так мучительна для него потому, что как раз таки выбрасывает его «за пределы собственного переживания к переживаниям доисторического времени»? Давайте только будем мыслить диалектически — и отнесем эти переживания-воспоминания не к тому, что было, а к тому, чего не было. К тревожному образу матриархата, которого не было и при котором полиандрия, конечно, не являлась еще преступлением и грехом.

Фантазии об оргиях Белоснежки с участием семи и более гномов, в центр которых нас помещает их ревнивое желание, рождаются в точке схождения начала и конца затягивающейся вокруг нас временной петли. Оргия в стиле gangbang, главная цель которой — доставить как можно более интенсивное удовольствие женщине, — и групповое изнасилование, причиняющее ей страдание и вред, представляют собой, с антропологической точки зрения, родственные социальные практики. Коллективный гном уже не понимает, наказывает ли он шлюху или служит богине. Даже если наказывает, он одновременно служит — как если бы он все ещё хотел удовлетворить ее желание — вернее, не совсем желание, а то, что стоит за всеми желаниями, — влечение к смерти. Оказываясь в этом театре — то ли как зритель, то ли как действующее лицо — он, сам того не осознавая, отправляет священный ритуал, в котором встречаются эрос и танатос, и суть которого от него ускользает.

Между мужской и женской полигамией существует асимметрия, объясняемая телесной символикой полового различия. Каждое тело — это символ. Тело мужчины — это фаллический символ. Как объясняет Жак Лакан, мужское наслаждение — это наслаждение органом. Орган же, вокруг которого напряжённо собирается мужское тело, единичен и одинок. Значение его в культуре сильно преувеличено. Его главная беда в том, что он не может войти одновременно более чем в одну женщину или, если точнее, более чем в одну какую-то часть тела одной какой-то женщины. Поэтому мужская полигамия связана с очерёдностью женщин, с подсчётом — одна за другой, с натуральными числами.
Сколько у тебя было мужчин? — ревниво спрашивают они нас, имея в голове свой большой или маленький донжуанский список. Этот вопрос кажется нам очень глупым, он ставит нас в тупик, нам надо
«В обители нравственности не “этот” муж, не “это” дитя, а некий муж, дети вообще, — не чувство, а всеобщее суть именно то, на чем основываются эти отношения женщины. Отличие ее нравственности от нравственности мужчины в том именно и состоит, что в своем определении для единичности и в своем чувственном влечении она остается непосредственно общей, а единичности вожделения остается чуждой…»
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа.

При желании, которое они приписывают нам в своих фантазиях, в нас войдёт вся божественная троица и ещё, ещё, ещё. Чуждое единичности вожделения, наше униженное тело оборачивается знаком предчувствия коммунизма. Пока мужское наслаждение прикручивается, прилепляется только к одной какой-то его части, другие не простаивают безучастно. Вы не одни в этой комнате. В каждом акте она невидимо отдается всей мужской половине земли, всему роду, а не
Справедливо называя любовь «полиморфным извращением самца», Лакан пишет, что существует и другое наслаждение — оно лежит «по ту сторону фаллоса»:
«…называют это наслаждение кто как может — кто-то вагинальным, кто-то относит его к зоне за отверстием матки, но все это, простите — слово это здесь в самый раз — пиздёж». Лакан Ж. Семинары. Кн. 20
Мужской символ всё время промахивается, попадает куда-то не туда. Потустороннее наслаждение женщины, по Лакану, вообще не связано с органом. Оно связано с Богом — которого нет, но это уже отдельная история. Гневно обличающий нас ревнивый гном на самом деле, конечно, испытывает зависть к этому недоступному для него наслаждению, имеющему божественную природу. Он никогда о нём не узнает, потому что мы никогда о нем не расскажем — в ловушке чужого языка наш рот все время занят чем-то другим.
Оксана Зверь
Для журнала Шкура№3 ЛЮБОВЬ
