Acephale: от Диониса Ницше к "Мистерии казни" Батая
Только в 1923 году я стал читать Ницше. Его книги наполнили меня
чувством странной решимости: к чему продолжать мыслить,
к чему что-то там писать, если моя мысль — целиком и полностью
была выражена с такой полнотой и великолепием?
Жорж Батай
Судя по моему богатейшему опыту, ни один человек не имеет
представления о том, что я собой являю и какой ношей нагрузил
свою жизнь.
Фридрих Ницше
ГЛАВА 1
Путь безглавого бога
1
Людей издавна влечёт всё загадочное и необъяснимое, и там, где не хватает способности понять, на помощь приходит способность придумать; богатое воображение подчас становится источником не только любопытных гипотез, но и откровенной клеветы. Тайны дворцовых покоев обыкновенно тревожили умы людей, сакральные символы и факелы подземных святилищ — возбуждали интерес, пурпурные мантии и каменные изваяния — приводили в трепет, и вслед за этим порождали пищу для нелепых слухов, возводивших на эшафот тех, кто ещё недавно повелевал стихиями. Множество несуразных домыслов, как правило, окружает тайные общества, члены которых связаны клятвой о неразглашении. Здесь мы намерены говорить об одном из таких обществ. Оно вошло в историю под названием «Ацефал», и было основано французским философом и писателем Жоржем Батаем.
Батай появился на свет 10 сентября 1897 года. В момент зачатия его отец был абсолютно слепым, а после рождения сына его разбил тяжёлый паралич. Невольно Батай оказался свидетелем мучений матери, страдавшей депрессией, и агонии отца, что наложило отпечаток на его мировосприятие и подтолкнуло к поиску спасения в лоне религии. Батай принял христианскую веру и даже мечтал стать монахом (мы знаем, что много позже он не только отвергнет религию, решительно встав на сторону создания нового мифа и так называемой «свирепой религиозности», но и не станет скрывать своего неприятия любых форм аскетизма, став воплощением трансгрессивного актора, устремлённого к пределу возможного). Готовясь к поступлению в семинарию, Батай вёл строгий образ жизни и проводил свои дни в медитации; но вера была для него одним из модусов эскапизма, чем и объясняется его дальнейшее решение порвать с прежним укладом жизни. Тем не менее, вместо семинарии Батай сделал свой выбор в пользу Школы Хартий, приготовившись связать свою деятельность с библиотечным делом и палеографией. Следующим шагом была работа в Национальной Библиотеке. Ей Батай уделил не больше, не меньше, двадцать лет. Именно в этот период французский мыслитель знакомится с сюрреалистами, и сюрреализм мгновенно вводит в его кровь свой магический раствор алогизма и онтологических сверхреалий. Батай начинает вести двойную жизнь: днём он неизменно находится на службе, а ночью — превращается в загадочного завсегдатая фривольных заведений. Что касается философии, то погружение в её стихию произошло сначала благодаря общению Батая с философом Анри Бергсоном, позже — благодаря изучению трудов Фридриха Ницше (1923), далее Батай попал под влияние русского мыслителя Льва Шестова. По признанию самого Батая, он был обязан Шестову «началом своих философских познаний». В конце 1929 года между Батаем и Бретоном развернётся нешуточный конфликт. «Второй манифест сюрреализма» бросит в адрес Батая несколько язвительных эпитетов, в ответ на что сам Батай и группа его сторонников выпустит памфлет «Труп» (характерно, что сюрреалистическое детище с точно таким же названием появилось чуть раньше и представляло собой вызов, брошенный Анатолю Франсу). Памфлет обстоятельно разносил вождя сюрреализма, превращая разгоревшуюся полемику в непримиримую вражду. Бретон первым вышел из игры, между тем Батай провозгласил себя человеком, которому предначертано продолжить сюрреалистическую революцию. В 1930-е гг. Батай интегрируется в коллектив антимарксистского журнала «Социальная критика». В поле политической практики Батай появится как основатель политической организации «Контратака», одновременно это позволит ему преодолеть пропасть, отделившую его от Андре Бретона, который вместе с ним встанет во главе объединения. Эта организация представляла собой Союз Борьбы интеллигентов-революционеров, чьей целью было противостоять единственному своему врагу — фашизму. Манифест 1935 года пестрел от подписей А.Бретона, К.Каю, Ж.Шави, Ж.Батая, Б.Пере, П.Клоссовски, Р.Блена и многих других.
В «Контратаке» были приняты особые эстетически-политические практики, направленные на слияние всех участников союза в единое социальное тело, способное оказать силовое сопротивление противнику. Это был решительный переход от абстракций к конкретике, от многообещающих слов к волевому и насильственному действию.

Сюрреализм вместе со своим отцом-основателем Андре Бретоном неожиданно вышел за границы литературного течения; его вторжение в область политического было незамедлительной реакцией левой французской интеллигенции на события 6 февраля 1934 года, а именно на фашистский путч. Однако быстро выяснилось, что Бретона, возлагавшего особые надежды на коммунистический режим, постигло разочарование, что и послужило причиной разрыва сюрреалистического движения с коммунизмом. Символичной стала пощёчина, нанесённая Бретоном члену советской делегации Эренбургу, отпускавшему в адрес сюрреалистов самые нелестные замечания. 1935 год поставил точку в вопросе близости сюрреализма и коммунизма. Бретон начал поиск другого общественного идеала, одинаково чуждого как старым скрижалям не оправдавшего его надежд коммунизма, так и ничтожным ценностям буржуазного мира. Основатель сюрреалистического движения оказался в точке пересечения с наиболее опасным своим противником — фашизмом. Именно близость с фашизмом и ни с чем иным могла стать своего рода топором, окончательно разрубившим все верёвки, что ещё связывали сюрреалистов с коммунистической идеологией. Бретон, неизменно ищущий середину, некий центр, в котором снимается конфликт противоположностей, не отступил от своего принципа и в этот раз. «Контратака», основанная в сентябре 1935, разделялась на правый берег — так называемую «Группу Сада» и левый берег — «Группу Марата». Собираясь в театре Барро, революционно настроенные интеллигенты произносили полные героического пафоса речи и распространяли прокламации, таким образом, реагируя на события в своей стране. После появления листовки, автором которой был Жорж Батай, стало очевидно, что «Союз борьбы» исчерпал себя, и теперь возникала необходимость перейти на иной уровень. В статье «Психологическая структура фашизма» такие величины, как Гитлер и Муссолини представлены носителями той силы, «которая ставит их выше людей, партий и даже законов, силы, которая разбивает упорядоченный ход вещей, умиротворённую, но скучную однородность…» Принимая к вниманию то колоссальное влияние на народные массы, которое оказывала пропаганда фашизма, Бретон вынашивал мысли о сюрреалистической революции, перевороте в Европе, противостоянии фашистскому режиму. Его намерением было воспользоваться фашистской стратегией для достижения собственных целей. Больше того, можно указать на стремление отца-основателя сюрреализма к созданию своего рода тайного политического Ордена. Определённо, Бретон находился под сильным влиянием Жоржа Батая. Последний как раз и осуществил мечту Бретона сразу после распада «Контратаки». Новый союз говорил дерзкое «нет» как фашизму, так и коммунизму, призывая к революции, к моральной свободе и насилию. Батай практически переступил черту, за которой разница между антифашизмом и собственно фашизмом более не осознаётся, но понимал ли это сам Батай — вопрос, на который сложно найти ответ. Тем не менее, можно утверждать, что Батай, признавая иррелевантность всех существующих политических идеологий, стремился к созданию принципиально новой политической теории. Это было попыткой выйти за пределы всех известных политических парадигм.
Марманд, определяя характер деятельности Батая, употребляет удивительно точное выражение — «политика траты». Она подразумевает собой тотальное самопожертвование, самосожжение, растворение индивидуального начала в сообществе, Едином Социальном Теле. В этом принципиальное отличие новой идеологии Батая от либеральной идеологии, где индивидуум существует как цель и центр. Батай бросает вызов индивидууму, наносит по нему сокрушительный удар, удаляя из политической системы, что означает обретение подлинной свободы; свободы, главным образом, от индивидуальной идентичности. «Контратака» была всего лишь теорией жертвоприношения, к практике же Батай приступил несколько позже, создав тайное общество «Ацефал».
2
Во второй половине XX века Жорж Батай констатировал отсутствие мифа с той же смелостью, с какой много раньше Фридрих Ницше оповестил мир о смерти Бога. Карл Юнг также говорил о «застывании мифа» (имея в виду конкретный — христианский миф), одновременно вынося вердикт: застывший миф умирает. Батай решил создать собственный миф, и для этого обратился к своему другу, художнику Андре Массону, с просьбой, которая может показаться весьма странной: «Нарисуй мне безглавого бога — остальное найдешь сам». Предоставим слово самому Массону: «Я сразу же увидел его — без головы, как и полагается, но куда же девать эту громоздкую и сомнительную голову? Сама собой она расположилась на месте гениталий (скрывая их), в виде мертвого черепа. А что делать с руками? Автоматически получилось так, что в одной руке (левой) он держит кинжал, а в другой сжимает горящее сердце (не сердце распятого, а сердце нашего учителя Диониса). Опять-таки у людей эта голова всегда находит свое продолжение в сердце и гениталиях. Сердце и яички — одинаковой формы. Они этого не знают, а как здорово можно это обыграть! На груди по моей прихоти появились звезды. — Так, отлично, но: что же делать с животом? — Очень просто, он станет вместилищем Лабиринта, который как раз и явился знаком нашего союза».
Сердце Диониса, сама сущность божества, — единственное, что осталось не тронутым титанами после того, как Дионис был растерзан ими, и четырнадцать частей его тела — помещены в треножный сосуд, сварены, поджарены и съедены.
Осиян алмазной славой,
Снеговерхий, двоеглавый, —
В день избранный, — ясногранный, за лазурной пеленой
Узкобрежной Амфитриты,
Где купаются Хариты, —
Весь прозрачностью повитый
И священной тишиной, —
Ты предстал, Парнасс венчанный, в день избранный, предо мной!
Сердце, сердце Диониса под своим святым курганом,
Сердце отрока Загрея, обреченного Титанам,
Что, исторгнутое, рдея, трепетало в их деснице,
Действо жертвенное дея, скрыл ты в солнечной гробнице, —
Сердце древнего Загрея, о таинственный Парнасс!
И до дня, в который Гея, — мать Земля сырая, Гея, —
Как божественная Ниса, просветится зеленея, —
Сердце Солнца-Диониса утаил от буйных нас.
Вячеслав Иванов. Сердце Диониса.
Так был рождён Acephale (букв. «безголовый»), чтобы всего через год стать эмблемой тайного общества, о котором до сих пор ходит большое количество противоречивых слухов. Так кем же было это лабиринтальное, жертвенное (жертвующее?) существо — богом, человеком, сверхчеловеком? Батай писал, что Ацефал тождественен египетскому богу Бэсу, а он, как известно из мифологии, почитался как покровитель рожениц и маленьких детей. Но так стало лишь во времена Нового Царства, — сначала Бэс был змееборцем и стражем, изображавшимся в виде кривоногого карлика —божества с львиной гривой. Несмотря на его неприглядную наружность, Бэса почитали как доброе начало. Он же был богом веселья, державшим в руках бубен, в связи с чем Бэса стали считать вакхическим божеством. Уже в ахаменидский период происходит существенная перемена в восприятии Бэса, которую уместнее всего объяснить энантиодромией: отныне в силу вступает его грозный аспект; изображения Бэса точно так же претерпевают изменения, и теперь в руках он держит оружие, подчёркивающее его воинственность и агрессивность. За год до возникновения общества «Ацефал» появляется первая весточка от безголового бога — журнал, названный его именем, где Жорж Батай вдруг отказывается от обозначения «бог» (равно как и от обозначения «человек») в пользу другого — «монстр» (“des dionysischen Unholds”?!).
В его Лабиринте заблудился и сам Ацефал, и его создатель, ибо равновесие нарушено ab ovo — части тела монстра произвольно расставлены, и остаётся только догадываться, какой ценой ему удаётся сохранять вертикальное положение. Ацефал словно бы смеётся над знаменитой «Фигурой человека в круге, изображающей пропорции человеческого тела» Леонардо да Винчи.
Вне всякого сомнения, внимания заслуживает и тот факт, что на одном из рисунков Андре Массона безглавый монстр назван Сатаной. Следует акцентировать, что Массон характеризовал Ацефала как «чудовище», уточняя, что он не является ни богом, ни человеком. Тем не менее, в правой руке этого чудовища он изобразил огненные языки пламени — сердце (Диониса), которое художник называет также «Сердцем Господним». Среди рисунков, созданных Андре Массоном, встречаются изображения Ацефала, сближающие его с Минотавром. Более того, Массон изображал и «каменноголового» Диониса, вспарывающего себе живот; в общих чертах он похож на Ацефала: на месте его гениталий находится череп, а в руке, свободной от кинжала, он держит виноградную гроздь. На одном из рисунков Массон расположил бычью голову, с черепом между рогов.
Голова быка (как известно, Дионис, а именно Загрей, изображался с бычьей головой) могла бы оказаться на плечах лабиринтального создания, Ацефала. Вероятно, он потерял её, подобному тому, как потерял её философ Ницше; этот случай описывается Батаем: «3 января 1889 года, пятьдесят лет назад, Ницше стал жертвой безумия: на пьяцца Карло-Альберто в Турине он в рыданиях бросился обнимать лошадь, которую стегали кнутом, а затем рухнул наземь; когда он очнулся, он считал себя ДИОНИСОМ или же Распятым».

ГЛАВА 2
Трагическая империя
Батай высказывал мысль о необходимости появления сообществ избранных, что призваны стать строителями империи, которые бы знали ради чего стоит жить и ради чего стоит умирать. Это было бы «обществом заговорщиков», трагичным обществом, а трагедия, как известно, имеет своим истоком дионисийские братства. «…мир трагедии — это мир вакханок, — рассказывает Батай. — Кайуа говорит также, что одной из целей «тайного общества» является достижение коллективного экстаза и смерти от пароксизма. Империя трагедии не может быть реальностью подавленного и угрюмого мира". И совершенно поразительная фраза: «В конце концов, империя будет принадлежать тем, кто будет так разбрасываться жизнью, что полюбит смерть». Субъектом истории новой политической идеологии Батая становится не индивидуум, как в случае либерализма, ни класс и даже ни государство (или раса), как в коммунизме и фашизме, но трагическое сообщество. Прообразом такого сообщества был тайный союз «Ацефал». Не следует забывать, что он имел отношение не только и не столько к политической области, сколько к области религиозной, ибо изначально главной целью Жоржа Батая было создание новой религии.
В июле 1937 года в журнале «Ацефал» появляется «Заявление об основании “Коллежа Социологии». Первое его заседание прошло 20 ноября. Был прочитан доклад Батая и Кайуа «Социология сакрального и отношения между “обществом», «организмом» и «существом”. Возникновение Коллежа началось с категорического отказа от политики и литературы, — единственным ориентиром признавалась наука, а если говорить точнее, та наука, предметом которой был «отталкивающий аспект сакрального” (или как говорил Монро, «жгучие сюжеты»).
Основатели Коллежа Социологии, солидаризируясь с «сюррационализмом» Гастона Башляра, избрали иной метод — неосторожность. Необходимо мыслить опасно, сделать ставкой свой собственный разум, ибо «риск разума должен быть всеобщим». На познание не существует никаких запретов. Мышление — это довольно опасный процесс. Мыслить — значит рисковать, так как в «царстве мысли неосторожность является методом». Продолжая исследования таких известных социологов, как Эмиль Дюркгейм, Люсьен Леви-Брюль и Марсель Мосс, члены Коллежа Социологии ставили перед собой непростую задачу — исследование сакральных феноменов, а также осмысление связи природного и общественного мира. Роже Кайуа утверждал, что регенерация сакральных явлений была, пожалуй, фундаментальной целью основателей Коллежа. К сожалению, приходится признавать, что внутри коллектива имел место неразрешимый конфликт: столкновение различных точек зрения на проект «сакральной социологии», в конечном счете, стал причиной раскола. Мишель Лейрис предлагал устранить всякую двусмысленность и продолжать исследования в рамках официальной науки, что шло вразрез с планами как самого Батая, так и его друга Роже Кайуа. Коллеж Социологии должен был объединить конгениальных друг другу личностей, видевших свою задачу в сакрализации социологии, возведении этой науки в статус сакральной доктрины.
Чтобы приблизиться к пониманию того, что хотел сказать нам Ацефал, обратимся, наконец, к знаковой фигуре и главному персонажу одноимённого журнала, Фридриху Ницше, настолько хорошо знавшему Ариадну, что лишь благодаря ему мы сможем выйти из философского лабиринта Ацефала. С Ницше Батай вёл постоянные «диалоги», доходящие до полного отождествления с немецким философом. Об Ацефале он писал: «Мифологически Ацефал выражает суверенность, обращенную на разрушение, смерть Бога, и в этом отношении отождествление с безглавым человеком сочетается и сливается с отождествлением сверхчеловеческого, которое всецело ЕСТЬ «смерть Бога». Так, сверхчеловеческое возможно лишь после «смерти Бога», ибо, как гласит изречение Ницше, «сверхчеловек есть победитель Бога и ничто». Сверхчеловек возникнет подобно молнии, когда пустыня расширится до размеров вселенной и поглотит собою всё человечество, обречённое стать мостом, сжигаемым сразу после его перехода (Übergang). Перехода к сверхчеловеку. Сверхчеловек в мифологии Батая — ацефалический, «безглавый», «безначальный», нерождённый. Но в книге «Так говорил Заратустра» Ницше говорит не просто о явлении сверхчеловека после смерти бога, — он возвещает о смерти всех богов. По Ницше, Сверхчеловек приходит в обезбоженный, опустыненный мир.
Фридрих Ницше известен своими противоречиями,
ГЛАВА3
Сердце бога Диониса
Мы вплотную подходим к тому, чтобы назвать Ацефала «по имени», и приводим здесь строки «…где жизнь приближается к бездне и где реальный человек чаще всего теряет голову…» , принадлежащие Ницше. Ацефал — монстр только потому, что имел смелость, вырвав собственное сердце (оно же — сердце Диониса!), стать существом, превышающим человеческое понимание зла и добра, вознестись над битвой противоположностей (хотя не снять при этом изначального конфликта, но, напротив, столкнуть «верх» и «низ», «вершину» и «пропасть»), и заглянуть в бездну, — в тот самый сакральный лабиринт, что находится в его чреве. Следует заметить, что по легенде Дионис был также обезглавлен. Мы могли бы удариться в предположения, что Ацефал есть мир без Бога, Древо Жизни без Кетер (и это сравнение довольно точно отражает предшествовавшие появлению нового мифа образы, созданные Массоном: в бумагах Колетт Пеньо (больше известной как Лаура) сохранилось изображение обезглавленного человека, чьё вросшее в землю тело покрыто ветками. Мотив «человек-дерево» был также подчёркнут Мишелем Лейрисом), опровержение целостности и единства, и провести ещё ряд любопытнейших параллелей, однако мы укажем, что фундаментальной целью тайного общества было создание нового мифа. И этим мифом мог стать лишь миф о Дионисе обезглавленном, ацефалическом Дионисе. Дионисе — боге экстаза и чёрного безумия (как писал о нём Евгений Головин), чья отрубленная голова отныне прикрывает его фасцинос. Практика современного дионисизма означает высвобождение находящейся в нас частицы божественного тела Диониса, сокрытой под плотью кровожадных титанов. Отто считал, что определяющей чертой божественного дионисийского бытия было имманентное по отношению к миру неистовство. «Он [Дионис] есть сама жизнь, только речь здесь идёт о её особом состоянии: жизнь, которая становится неистовой в своём переполнении и в своей глубочайшей страсти неотделима от смерти». Дионис был той фигурой, тем символом, который стал центром встречи Жоржа Батая с Фридрихом Ницше. Тонкая интуиция о связи Диониса и Ацефала посетила и автора монографии о Батае, Сергея Фокина, который называет Ацефала двойником Диониса или его трагической пародией. Он пишет: «Итак, сообщество «Ацефал» зиждется на последнем слове ницшеанской философии, мифе Диониса, который владел не только мыслью, но и существованием автора «Весёлой науки» . Одними из древнейших символов Диониса были топор (двуострая секира, лабрис) и бык. В книге Вячеслава Иванова «Дионис и прадионисийство», в главе об островном культе, сказано о почитании Диониса под именем Топор (Pelekys), как островного бога двуострой секиры. И далее мы находим следующий значимый для нашего исследования фрагмент, который мы позволим себе привести здесь, с незначительными сокращениями:
«Идея пола в культовом круге островного Диониса, бога обоюдоострой секиры, создаёт формы своеобразной символики. Здесь, прежде всего, мы встречаемся с представлением об отделённой от туловища голове как о божественном вместилище половой возрождающей силы (вспомним, что Массон поместил череп Ацефала на место гениталий, — примеч. автора). Почитание черепов и священное обезглавливание не чужды, правда, и
Дионисийские женщины в Танагре топором обезглавливают Тритона, привлечённого запахом вина. Согласно древнейшей версии голову отсекает Тритону сам Дионис, — что, по закону дионисийского отождествления, указывает на дионисийскую сущность жертвы, отображающей участь самого бога. […] Обезглавливание самого Диониса приписано в аргивском предании Персею. Голова убиенного падает в озеро Лерну, откуда воскресающего женщины вызывают наверх, на свет солнечный (anaklesis), бросая в воду чёрную овцу мздой Пилаоху, владыке подземных врат. В Лерну сеются, — как это явствует из мифа о Данаидах, — отрубленные мужские головы, как зрелые плоды, несущие в себе зародыш новой жизни, долженствующий возродиться и воскреснуть, — как семена, оплодотворяющие лоно подземной ночи. Так в лернейских Агриониях связывается идея смерти мужской с идеей пола (оплодотворитель умирает), и символу головы явно усвоено значение фаллическое. Правда, Персей, отрубатель головы (и уже по одному этому ипостась Диониса) и владелец головы Горгоны или, что то же в этом культе маски Горгоны, «горгонейона», — отмщает за мужчин, применяя к женщинам ius talionis» .
Вяч. Иванов обращается к известным мифам о «плавающих головах»: приплывшей к устью Стримона пророчащей голове Орфея (на этом месте был возведён храм Диониса), о приплывшей в Библос голове египетского Осириса и обезглавливании Сетом его супруги Исиды. Небезынтересно отметить, что Ацефал как божество (или демон) жертвенное и жертвующее мог бы быть отнесён тем же Ивановым к прадионисийским божествам именно в виду «раздвоения божества на лики жреческий и жертвенный». Так, мы можем задаться вопросом: пришёл ли Ацефал до Диониса или уже после?

Первый номер журнала «Ацефал» содержал строки: «Когда человеческое сердце станет Огнем и Железом, человек ускользнет из своей головы как приговоренный — из тюрьмы». Но ничего не сказано о том, что ускользнуть ему предстояло в лабиринт. «Ариадна, — сказал Дионис. — Ты лабиринт. Тесей заблудился в Тебе, у него уже нет никакой нити; какой ему нынче прок в том, чтобы не быть пожранным Минотавром? То, что пожирает его, хуже Минотавра». «Ты льстишь мне, — ответила Ариадна, — но, если я люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело моё сострадание: во мне погибель всех героев. Это и есть моя последняя любовь к Тесею: я уничтожаю его» (Ницше). Существует страшная тайна о смерти Ариадны. По одной легенде, она умерла, так и не разрешившись от бремени и произвела на свет дионисийское потомство уже в царстве мёртвых. Другие легенды сообщают, что она настигла смерть, забравшую не только её жизнь, но и жизнь ребёнка, и амафунтские женщины похоронили их в священной роще. К.Кереньи, автор труда «Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни», задаётся вопросом, кем же был ребёнок Ариадны. Тайное общество, заявившее о себе в прошлом столетии, не стало скрывать его имя. Жиль Делёз в книге о Ницше высказывает мысль, что супружеская пара — Дионис и Ариадна — порождает Сверхчеловека.
Ариадна, Ты — лабиринт. В дионисийских дифирамбах, стенающая Ариадна обращается к Дионису, который сам становится для неё лабиринтом.
Dionysos:
Sei klug, Ariadne!…
Du hast kleine Ohren, du hast meine Ohren:
steck ein kluges Wort hinein! —
Muss man sich nicht erst hassen, wenn man sich lieben soll?…
Ich bin dein Labyrinth…
Второй номер журнала «Ацефал» был полностью посвящён Ницше; там Батай решительно опровергает связь немецкого философа с фашизмом, раскрывая суть фальсификации, порождённой хитрыми замыслами Элизабет-Фёрстер, сестры философа, его кузена Рихарда Ёлера и человека, имевшего доступ к архиву Ницше.
Спустя год после выхода печатного «Ацефала», появился Ацефал эзотерический. Об этом тайном обществе так и не было сказано ничего ясного и нам точно так же предстоит строить гипотезы, опираясь на собственную интуицию, и те скудные сведения, которые можно вычерпнуть из признаний самого Жоржа Батая и участников его энигматического круга. Мы не знаем точного состава участников тайного общества, до нас дошли лишь некоторые имена: Пьер Клоссовски, Ж.Шави, Р.Шенон, Ж.Амброзино, П.Дюган, П.Вальдберг и близкий к закрытому ацефалическому кругу Роже Кайуа.
ГЛАВА 4
Святость трансгрессии. Сакральное и профанное
На рисунке, созданном Массоном, голова Ацефала заняла место гениталий. Так подчёркивается тонкая связь смерти и эротизма. Она была важной темой в творчестве Батая, и, следовательно, не могла остаться за рамками текста — Жорж Батай считал, что полноты бытия можно достигнуть лишь благодаря экстатическому слиянию агонии смерти и предельного эротизма. В своём стремлении разрушить все традиционные этические нормы, своей волей к невозможному, Батай подобен некоторым гностикам, для которых путь к совершенству заключался в том, чтобы испытать всё возможное и даже сверх того. Нельзя узнать, насколько правдивы слухи о ритуале человеческого жертвоприношения, принятом в тайном обществе «Ацефал», но если предположить их уместность, то целью ритуала было избавление всех его участников от личностного «я» ради полного Единения, иначе говоря, во имя создания одного существа, одного организма, рождённого из энергии страсти и смерти. Вполне возможно, что Батай, одержимый данной идеей, пытался познать смерть в этой чудовищной, на сторонний взгляд, мистерии. В эссе о Гегеле Батай сближает понятия трагедии и жертвоприношения, упоминая о состоянии священного ужаса, что даёт все основания рассматривать легенду о кровавом ритуале на уровне вполне разумной гипотезы, выходя за рамки символического. Зная, что Батай был воплощением трансгрессии, можно полагать, что ради попадания в лабиринт, он готов был отсечь голову. Как свою, так и голову одного из посвящённых, предназначенных для тайного ритуала. В том же эссе есть слова: «В ясном сознании чувство греха связано с идеей смерти, и таким же образом чувство греха связано с удовольствием. В самом деле, человеческое удовольствие не возникает без нарушения какого-либо запрета…» Трагедия и жертвоприношение рассматриваются Батаем как элементы праздника. «У нас нет ничего общего со скупостью христиан, мы свободные люди: безграничная щедрость, и греческая, то есть нервная, наивность, и даже нелепые всплески дурного настроения… Без этой щедрости ребяческая жадность, с какой мы приближаемся к трагическому месту, где является и разыгрывается наше существование, обратилась бы новой христианской скупостью» , — говорит Батай.
Другие ритуалы, принятые в тайном обществе «Ацефал», не были столь необычными. Члены общества не подавали руки антисемитам, праздновали день казни Людовика XVI на пл. Согласия. Мишель Сюриа сообщает, что Батай никогда не пренебрегал ежедневным кулинарным ритуалом (котлета из конины на обед). Ещё одним, пожалуй, загадочным ритуалом была поездка членов общества на станцию Сен-Ном-ла-Бретеш (во время пути полагалось медитировать, не сообщая никому о своих ощущениях), откуда каждый из них в полном одиночестве шёл к упавшему дереву (символ внезапно наступившей смерти) и жёг серу.
Батай утверждал, что на его темени расположен глаз, который смотрит прямо на солнце. Примечательно, что бытующее мнение о том, что третий глаз расположен между бровей, опровергается тем, что давно установлено его истинное местоположение — именно то, на которое указывал Батай. Фактически, на этом же месте у
В 1959 году Батай напишет: «Сегодня ничто так далеко не отстоит от меня, как стремление основать религию» . Он стал считать, что религия — это только поиск, а не открытие. Поиск в лабиринте безголового бога. Строго говоря, сакральное предшествует религиозному; религия возможна и без божества, о чём писали такие авторитетные исследователи, как Эмиль Дюркгейм и Рудольф Отто.
Роже Кайуа, друг Жоржа Батая, создал свою «люциферовскую науку», которая изучала предмет, истолковывая его на языке, изначально ему чуждом: археологию — на языке астрономии, литературу — на языке психологии и т.д., с целью расширить границы изучаемого предмета, максимально его преобразовав. Так для Кайуа проявлялся «люциферовский дух» даже в такой области, как «диагональные науки». На наш взгляд, этот проект был своего рода попыткой умерщвления «больной» науки, как смертоносная «мысль, доведённая до предела» была шагом к «исцелению» больной философии от себя же самой. Подобным образом и мы осуществим попытку заговорить о жертвоприношении на языке агхоры, о Батае — на языке Чиннамасты, об Эросе –на языке Сакральной Ярости. О
Тема жертвоприношения была для Жоржа Батая одной из самых волнующих. Как было сказано выше, принесение в жертву одного из посвящённых, по идее основателя тайного общества «Ацефал», должно было превратить всех участников ритуала в единый организм. Слабость жертвоприношения Батай усматривал в том, что в итоге «оно утрачивало свои свойства и служило для организации особого порядка сакральных вещей, не менее рабски покорного, чем порядок реальных предметов». Ярость, способная возвысить человека до ностальгии по сокровенности, уступила место покорности, что привело к бинеру пробуждение/оцепенение (сон), вместо того, чтоб вывести за пределы дуального восприятия. Батай указывал, что сильная ярость, та ярость, что в силах пробуждать, не может поддерживаться долго, — отсюда переход ко сну был попросту неизбежным. Непреодолённый дуализм — причина полагания ярости как негативной силы; дух же становился носителем добра, а материя — соответственно, зла. Для Батая без ярости нет сокровенности. «Если у меня на глазах реальные силы зла убивают моего друга, то их яростью вводится сокровенность в самой активной её форме». Не следует ли обратиться к концепции жестокости (Антонен Арто), необходимой для того, чтобы сделать шаг к реальности? Жестокости, воспринимаемой не профанически, — но жестокости, как «жажды жизни, космической непреложности и неумолимости». Основатель крюотического (от фр. cruaute — жестокость) театра употреблял слово жестокость «в гностическом смысле жизненного вихря, пожирающего мрак»; Арто обозначил им «ту боль, что за пределами неотвратимой необходимости, без которой жизнь не может существовать». Жорж Батай не делает ярость сакральной, ибо она и так всегда была таковой, — он осуществляет повторную сакрализацию ярости. Невозможность сохранения её силы, маятникоподобное блуждание от пробуждения ко сну, уничтожают разницу между порядком сакральных вещей и реальных, и здесь появляется важное уточнение — порядок этот «рабски покорный». Батай говорит о том, что «ценность человеческих поступков перестала подчиняться обретению сокровенности». Масса, низведённая до состояния вещей, — вот что такое человечество в мире промышленности, где царят подмена понятий и двусмысленные полагания.
Как повернуть сознание к сокровенному (а по Батаю — мифологическому) порядку, если не создать новый миф, который станет мостом в мир трансцендентного? «Нужна большая жертва», — писал Арто, «необходимо жертвоприношение», — размышлял Жорж Батай, когда «безглавый бог» вошёл в мир, неся в руке пламенное сердце. В «Теории религии» говорится: «Слабость всевозможных полаганий религии в том, что они искажены воздействием порядка вещей и не делают попытки его изменить. Религии посредования единодушно оставляли его таким, как он есть, и лишь ограничивали его пределами морали. В конечном счете, принцип реальности возобладал над сокровенностью» .
Поэтому Батай осознал, что нужна иная религия, в основе которой лежал бы принцип освобождения, а он возможен только путём выхода за пределы любой социальной, эстетической, религиозной парадигмы. Иными словами, речь шла о переоценке всех ценностей и, если угодно, жестокости.
Термин «сакральное» (от лат. sacrum) был введён Элиаде и вмещал в себя как святое, так и «скверное»; говоря о святости, люди чаще всего упускают то, что «лучшая мыслящая голова Франции», как отзывался о Батае Мартин Хайдеггер, называла областью, где пропадают и сливаются противоположности. Близко к этому подобрался и другой француз, известный как основатель и теоретик сюрреализма, Андре Бретон. Он утверждал, что «существует некая духовная точка, в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, выраженное и невыразимое, уже не воспринимаются как понятия противоречивые». Похожим образом святость определял такой неоднозначный автор (и тоже, что примечательно, француз), как Жан Жене, отличавшийся весьма холодным, отстранённым отношением к своему читателю.
Батай чётко разделял мир профанный и мир сакральный. Первый есть общество труда, мир, где существуют запреты. Второй — мир богов и праздника, открытый для ограниченной трансгрессии (неограниченную автор представляет лишь в порядке исключения). Оба мира взаимно друг друга дополняют. «Боги, воплощающие сакральное, вызывают трепет у тех, кто их почитает, но те всё же почитают их. Люди, подчиняются одновременно двум импульсам: ужасу, который заставляет отпрянуть, и влечению, которое вызывает зачарованное почтение», — писал Батай. Таков, например, Бхайрава (санскр. «ужасный») — божество, почитаемое многими тантрическими школами в Индии, Непале и Тибете. Такова Кали (санскр. «чёрная») — тёмная Шакти, вызывающая у тех, кто её видит, любовный трепет и ни с чем несравнимый ужас. Следует отметить, что все божества индуистского пантеона амбивалентны, каждое из них, помимо благостного аспекта, имеет аспект, внушающий ужас. Но этот ужас немыслим без экстаза. Анри Буйяр, напротив, анализирует отношения сакрального/профанного в несколько неожиданном контексте, полагая сакральное лишь частью профанного. При этом понятие священного он выносит за скобки, извлекая его из сакрального, и рассматривает его отдельно.
Батай упоминает, что через преодоление ужаса к экстазу приходит и буддист, и христианин. Здесь мы хотим обратиться к древней индийской традиции, известной, как Агхора, где идея преодоления является одной из основополагающих. Сейчас можно наблюдать следующее: помимо людей, проявляющих здоровую долю любопытства, существует не малое количество тех, кто, не утруждая себя пониманием тантрической философии, берётся выносить поспешные суждения, так или иначе оскорбляющие эту древнюю традицию. В первую очередь это имеет отношение к агхорической практике, суть которой — в преодолении двойственного восприятия. Если человеку довольно легко признать божественное в прекрасном, то безобразное, напротив, вызовет у него сильнейшее отрицание и, пожалуй, тот, кто станет утверждать перед ним божественное в куче экскрементов или плоти, подверженной распаду, неминуемо будет обвинён в богохульстве. Таковы особенности бинарного восприятия, свойственного подавляющему большинству. Агхорические практики направлены на преодоление двойственности, выход на иной уровень восприятия, где воспринимающий и воспринимаемое — суть одно, где более не существует разделения на чёрное и белое, красивое и безобразное, приятное и неприятное. Путь Левой Руки — это путь восторга и экстаза, но, прежде всего, это путь сознательного нарушения стадно-социальных запретов, разрушения староэонных скрижалей и ортодоксальных предрассудков. Батай утверждал, что всё, являющееся предметом запрета, становится сакральным, а характер трансгрессии — это характер греха; сакральна даже поедаемая человеческая плоть, ибо это тоже — нарушение запрета. Для Батая сакральным становится воин или охотник, совершивший убийство. Что способно вернуть их в профанный мир? Только покаяние — христианская идея, вырывающая человека из мира богов в мир труда. Нам сложно найти в себе желание вкусить человеческой плоти, но желание убивать не столь далеко от нас и, как писал Лео Перуц в своей книге «Мастер Страшного Суда»: «Мы носим спящего убийцу в своём мозгу», а тот, кто спит, способен пробудиться. Вопрос в том, что и когда его пробудит, заставив войти в область сакрального. В частых побоищах, из которых состоит наша история, Батай усматривает желание убивать, присущее человеческому существу. Вслед за ним мы ставим знак равенства между сакральным миром и миром ярости, чистой ярости, ни в коем случае не сводимой к бытовому пониманию.
Насколько трансгрессивной может быть философия? Батай говорит о её холодности и невозможности достичь пределов своего предмета («крайности возможного»), называя философию «тяжело больной». Она оказывается, по мнению автора, только «выражением среднечеловеческого состояния, отчуждая себя от крайних проявлений человечества, то есть от конвульсий сексуальности и смерти». Самому Батаю хватило смелости бросить вызов всему, что противилось ярости и всячески уходило от предельных состояний. «Трудно вообразить жизнь философа, который постоянно или хотя бы довольно часто находился бы вне себя», — пишет он.
Всегда заходить как можно дальше, открывая вершину бытия в своём опыте трансгрессии — вот кредо Батая. Кажется, здесь как раз уместны слова Карла Юнга: «Секрет в том, что лишь тот, кто может разрушить себя, поистине жив» . Батай утверждал, что в мире не существует такого способа мышления, который бы не был подвергнут порабощению, нет и языка, кардинально иного, не приводящего нас на ту тропу, откуда мы только что ушли. Батай выделяет неподражаемый язык Фридриха Ницше, к которому «никто не смог приблизиться, исходя из обиходного языка». Философ, чья мысль поистине смертоносна, не признавал никаких пределов, ограничивавших жизнь человека. Батай, будучи сам палачом всех пределов, называл это одной из особенностей Ницше. Как бороться с тяжёло больной философией, обернувшийся вокруг себя самой, вбирая сок (сон) своего предмета? «…мысль доведённая до предела, требует жертвоприношения, то есть смерти, самой мысли. Таков, по моему мнению, смысл творчества и жизни Ницше. Нужно в лабиринте мыслей наметить пути, которые через приступы буйного веселья ведут к тому месту смерти, где чрезмерная красота вызывает чрезмерное страдание, где сливаются воедино крики, которых никогда и никто не услышит, и бессилие которых при пробуждении мысли является нашим тайным великолепием» , — пишет Батай.
Не было ничего, что могло остановить Батая, — даже собственная Смерть едва ли могла полагаться за силу, воспрепятствующую его неостановимому путешествию к краю возможного. Если в акте жертвоприношения Батай видел созидание (Super) Homo Totus, коим становились все его участники, то собственная смерть как парадоксальное созидание силой destructio была высшей точкой его победного невозвращения. Во «Внутреннем опыте» Батай признаётся, что главным для него является «не возродиться». Своим отрицанием «человека» Батай подводит черту под всей философией «слабых»: «Ответ приходит в миг безумия: без казнения как услышать его?» Это даже не «приступ разрушенья» Роже-Жильбера Леконта, метафорически начавшийся, чтоб завершиться в капкане столбняка. Скорее, это ближе к пустотности визионера Домаля, но пустотности как порождения испепеляющего Samadhi:
Я мертв, потому что у меня нет желания;
У меня нет желания, ибо я верю, что обладаю;
Я верю, что обладаю, ибо не пытаюсь делиться;
Пробуя делиться, убеждаешься, что ничем не располагаешь;
Понимая, что ничем не располагаешь, пробуешь отдать себя;
Пробуя отдать себя, убеждаешься, что ты сам ничто;
Понимая, что ты сам ничто, желаешь осуществиться;
Желая осуществиться, начинаешь жить.
ГЛАВА 5
«Агхорические медитации» Жоржа Батая
В «Проклятой части» есть одно место, на которое нам хотелось бы обратить внимание читателя. Батай просит представить тибетского монаха, уединившегося посреди горных громад для того, чтобы сотворить «комедию» жертвоприношения. Мы приводим следующий фрагмент, который представляет собой не просто подробное описание ментального принесения себя в жертву, но и является примером того, что названо агхорической медитацией, что ещё раз приводит нас к мысли о бессознательном (над бессознательностью можно поспорить, потому что Батай был неплохо знаком с трудами Элиаде, в частности с «Йога: бессмертие и свобода», который он планировал напечатать в издательстве «Минюи») тантризме Жоржа Батая. Итак:
«Он не умирает, но после продолжительных медитаций его собственное тело всё отчётливее представляется ему «мёртвой тушей, жирной, аппетитной на вид, огромной — заполняющей собой Вселенную». Потом его видение становится подвижным, он «видит» свой собственный сияющий ум в виде «Разгневанной богини» с черепом и ножом: она отрезает голову его трупу. Эта «богиня» — он сам — в ярости сдирает с него кожу, наваливает сверху кости и мясо, заворачивает и, «обвязав её, как верёвкой, кишками и змеями, раскручивает над головой и с силой швыряет наземь, превратив её вместе со всем содержимым в месиво из мяса и костей». Потом медитирующий «видит», как стаи диких зверей набрасываются на эту добычу и пожирают её всю до последнего куска» .
Батай подытоживает, что это испытание происходит всецело в воображении тибетского отшельника, что ничуть не умаляет полученного результата: «И в экстазе этого ужасного видения всё происходит так, как если бы старик и правда был раздроблен на части» . Акт жертвоприношения свершён. Батай просит и нас примерить на себя маску мертвеца, чтобы сквозь «взрыв смеха, причиняющего боль, и рыдания, которое больше нет сил сдерживать», ощутить чувство победы. Победы над страхом.
Здесь мы снова видим не оставлявший Батая мотив обезглавливания, но если при создании нового мифа на сцене мира показался сначала один Ацефал, то теперь появляется и богиня. И они — суть одно. С ними же отождествляется медитирующий, который обезглавливает сам себя, являя наичистейшую ярость.
Медитации Батая всегда имели своим результатом мощный экстаз, он визуализировал разрывы и вспышки, подвергая своё сознание неотрепетированным ударам смертоносных эпифаний сакрального. Для того чтобы соприкоснуться с областью сакрального, Батаю не требовался никакой Бог. В величайшей внутренней тишине он совершал экстатический бросок в вулканическое жерло войны, переживание собственной гибели, в мортидные объятия безымянных суккубов. Как пишет Жан Брюно: «Он принимался медитировать над темами, эмоциональная острота которых по крайней мере выносима. Он предавался созерцанию, снова вызывал в памяти фотографии китайского казнённого или представлял себе, как разрушается, взрывается мир, объятый пламенем. Его «гераклитовская медитация» о войне, опубликованная в последнем номере Ацефала, содержала в себе не меньше вулканической жестокости, чем рисунки Андре Массона, иллюстрирующие тексты Гераклита и Дионисия в последних номерах этого журнала».
Один из основных вопросов, который задаёт Батай, звучит так: «Как могло так случиться, что повсюду люди, независимо друг от друга совершали один и тот же загадочный поступок, что все они испытывали потребность или видели свой долг в ритуальных убийствах живых существ?» Без преувеличения можно сказать, что от ответа на «последний вопрос бытия» зависело понимание того, кто мы есть на самом деле. Для того чтобы внести ясность, Жорж Батай обращается к трудам французских социологов, уделивших немало внимания изучению жертвоприношений. Нам предлагается задуматься о такой вещи, как строение живых существ, отталкиваясь от идеи единого («коллективного») сознания. Батай намеревался найти ответ в той плоскости, где находились жрецы, но сначала он ставит нас перед новым неожиданным вопросом: «Что происходит с теми, кто хохочет, видя, как падает им подобный? Может ли быть, что несчастье ближнего доставляет нам столько радости?» Между последним вопросом бытия и тем, что был задан позже, проходит тень автора труда «О смехе», Анри Бергсона, сыгравшего особую роль в жизни Батая. Падающий и умерщвляемая жертва становятся взаимозамещаемыми, точно как объединивший людей смех способен заместить сакральную общность. Всюду мы можем заметить чувство зачарованности разоблачением: падение человека показывает нам, как иллюзорна устойчивость, смерть человека — как иллюзорна жизнь. Если мы обратимся к прошлому с целью выяснить, какова связь смерти и смеха, то первое, что нам предстоит сделать, так это осмыслить ритуальное осмеяние смерти. Вспомним «Пляску Смерти» Гольбейна: художник изображает смерть уродливой и смешной. Это ли не попытка победить смехом то, что вызывает в нас страх? Между смехом и смертью лежит напряжение; смех освобождает нас от него, смерть — усиливает тревогу, но в обоих случаях сопричастие порождает общность; общность становится сакральной, когда мы покидаем мир труда.
В своей статье «Странный смех погребального обряда» Елена Серова пишет: «Смеялись» язычники на похоронах не веселья ради, а с целью «задобрить» Сакральное (смерть была непонятна, непостижима, а потому воспринималась как вторжение Потустороннего мира). Это была попытка слиться с Сакральным, с его «энергетикой насилия, агрессии, смехового и сексуального неистовства», пропустить его через себя и тем самым избавиться от его разрушительной силы» . Серова суммирует свои впечатления от монографии Светланы Лащенко, мы приведем ещё один отрывок, который считаем важным: «…Люди всегда хотели «преодолеть» старение. Однако древние пытались преодолеть его странным, на наш взгляд, способом: убивали тех, кто стал старым и немощным. Принцип был тот же, что и в Спарте: слабым, немощным и больным не место в этой жизни. Но убийство не происходило «в трезвом рассудке». Убивали, как следует из книги Лащенко, опьяненные и распаленные «смехом», с осознанием приобщения к Сакральному, воспринимая свои действия как Жертвоприношение» . Вам никогда не казалось, что выражение лица смеющегося человека порой слишком напоминает маски гневных божеств, запечатлевшие огонь сакральной ярости? Смех, которым древние славяне пытались задобрить сакральное, жертвы, что были принесены на кровавые алтари с той же целью, выявляют связь между смехом и смертью, но не отвечают на главный вопрос, заданный Жоржем Батаем. Ацефал вызывал у него смех, ибо был без головы и, одновременно, наполнял тоской. «Мы видим все вещи сквозь человеческую голову и не можем отрезать этой головы; а между тем сохраняет силу вопрос: что осталось бы от мира, если отрезать голову?» — вопрошает Ницше. Вероятно, должен был пройти почти целый век, чтобы ответ был дан. И принадлежит он Батаю. Вселенная, являясь не более чем плодом нашего ума, как совершенно верно считают буддисты, обнажает свою суть лишь в момент уничтожения плода и его причины. Голова, будучи отделённой от тела, более не способна взрастить плод, а значит жертвоприношение через ритуал отсечения головы в
Рассуждая о целях человеческих жертвоприношений, обыкновенно упоминают «теорию дара» (попытку умилостивить богов), «кормление» умерших предков, знак преклонения перед божеством, использование мощного выброса энергии в магических целях; «человеческие жертвоприношения в языческой Уппсале также ставили целью возрождение космоса и укрепление королевской власти», — как пишет Элиаде. Цель могла быть и
Но сообществу «Ацефал» был нужен не жрец, а жрица. Безусловно, эту роль могла взять на себя Мария де Нагловская, основательница парижской школы сексуальной магии «Золотая стрела». Тех, кому интересны биографические факты жизни Нагловской, мы отсылаем к соответствующим литературным источникам (в рамках данного исследования мы не станем на них останавливаться). Нагловская действительно могла стать воплощённой Богиней, обезглавившей Ацефала; и поскольку они — суть одно, проявление единой силы, это обезглавливание следует полагать в
После смерти Марии де Нагловской школа «Золотая стрела» перестала существовать, та же участь постигла и тайное общество «Ацефал». Нас занимает вопрос, что могло произойти, пересекись пути Батая и Нагловской, т.е. соединись Ацефал с Верховной Жрицей Храма в хищном сплетении дьявольского Эроса и всесокрушающего Танатоса? Ритуальному убийству «Ацефала» не хватало той инициатической сексуальности, что была у «Золотой стрелы».
Эротический экстаз уподоблялся Батаем предвкушению смерти, сексуальность он считал не больше, не меньше, как началом и истоком человека. Она была тем, что «больше всего противилось низведению человека до состояния вещи», это — область Sacrum, в которой лучше всего познаётся отличие обычной сексуальной деятельности от L`erotisme. Эволюция последнего всегда шла параллельно с эволюцией «скверны»; десакрализация обоих привела к уподоблению их «злому» и «отрицаемому». Чистая ярость, нарушающая запрет, становится единственным доступом к сакральному. Необходимо совершить «грех», чтобы вторгнуться в мир богов. «Бог — ничто, если он не есть превозможение Бога во всех направлениях — в сторону вульгарного бытия, в сторону ужаса и скверны; наконец, в сторону ничто…», — пишет Жорж Батай. Однако наступит время, когда «человек должен рассчитывать на
Учение Марии де Нагловской о Тройственном Божестве (Отец, Сын, Мать) заслуживает большого внимания, поскольку концепция смены Эонов, согласно этой доктрине, предстаёт в ином виде, чем, скажем, у Алистера Кроули (Эон Исиды, Эон Осириса, Эон Гора). По словам Нагловской, Сын двойственен, «он борется с противником единосущным его натуре — Сатаной» и только Мать «есть возвращение к Началу после окончательной битвы и примирение в Сыне двух его противоположных натур — христианской и сатанинской». Цель Матери виделась Нагловской в том, чтобы остановить Битву между Христом и Сатаной. Жрица провозглашала религию Третьей Эпохи, Религию Матери. Все, кто знали или хотя бы однажды в жизни видели Марию де Нагловскую, утверждают, что от этой женщины исходило удивительное ощущение чистоты. Иные подчёркивают её аскетизм, казалось бы, немыслимый в контексте практикуемых «сатанинских» ритуалов. Однако что в действительности представлял собой так называемый «сатанизм» «Золотой стрелы»? Для Нагловской Бог и Жизнь были синонимами, но Жизнь способна к творению лишь в результате диалектического процесса, что и привело Нагловскую к убеждению, что Жизнь должна находиться в перманентной конфронтации с Причиной, с отрицанием самой Жизни, которую она отождествляла с Сатаной. Посвященным следовало служить Сатане, являясь непосредственными участниками сотворения мира (иными словами, выступать на стороне Причины), и только потом, пройдя Испытание Повешенного, удостоиться служить Богу. Как пишет Х.Т. Хакль: «Нагловская сравнивает путь, принятый посвященными, с восхождением на символическую гору, на которую необходимо взбираться под руководством Сатаны. Однажды достигнув вершины, они окажутся повешены, тела же их будут сброшены с горы, однако инициаты должны безоговорочно верить обещанию Сатаны, что переживут это испытание. Затем, согласно Нагловской, в самый момент падения их религиозное служение прекратит быть сатанинским и станет божественным; и таким образом, послужив Сатане, они начнут служить Богу и поймут, что обе их службы есть одно и то же». Нагловская указывала путь на небо, лежащий через ад. Это было не что иное, как апокатастасис, своеобразное искупление Сатаны через очищение и усмирение — посредством сексуальных ритуалов. Кульминационный момент инициации имел своим результатом преодоление дуализма, строго необходимого на первой ступени ученичества. Ритуал Повешенного проходили исключительно мужчины, достигшие высших градусов. Нагловская обладала тем инфернальным светом женственности, которым были наделены наиболее таинственные персонажи произведений Батая, созданные борьбой невинности и преступления.
ГЛАВА 6
Образ Бога. Эрос Бога
Начало Эрософии
Смертельное сияние: эротизм и религия в философии Жоржа Батая
Отрицая односторонность и узость взглядов, Жорж Батай охватывает орлиным взором философа все онтологические сферы, стремясь увидеть «в перспективе образ, которым был одержим в детстве, — образ Бога»; это соприкосновение и взаимопроникновение двух казалось бы, мало сопоставимых областей — религиозной и эротической обнаруживает единство на страницах книги «L`Erotisme», которую Батай посвятил своему другу Мишелю Лейрису. Если мы заглянем в словарь, мы найдем там следующее определение эротизма: Эротизм — (eroticism) — сексуальное возбуждение или желание и их изменяющиеся социальные конструкции. Для Батая эротизм был «утверждением жизни в самой смерти». Философ делает чёткое различие между сексуальной деятельностью и собственно эротизмом; первая направлена на воспроизводство рода и заботу о своём потомстве; сексуальная деятельность в одинаковой степени присуща как животному, так и человеку, чего точно нельзя сказать об эротизме.
Эротизм способен поставить на грань, на остриё гибельно-страстного очарования смертью, придающего сексуальному возбуждению опасный привкус. Эротизм может приблизить человека к подлинной трагедии, переживаемой как мистерия, где изощрённые испытания выливаются в пьянящий экстаз, а порывы чувственности грозят вот-вот перерасти в извращенную жажду. «Если единение двух любовников является следствием страсти, оно взывает к смерти, к желанию убийства или самоубийства. Знамением страсти является смертельное сияние» , — пишет Батай. Возлюбленный есть истина бытия и с этим нельзя поспорить, и эта истина открывается в осознании бессмертия, которое перестаёт быть только одной из интеллектуальных концепций, воплощаясь в Крови как Слово, что было в самом Начале.
О близости любви и смерти сказано так много, что молчание о близости любви и бессмертия кажется, по меньшей мере, подозрительным. Один осознаёт, как он наполняется жизнью, находясь рядом с объектом любви, другой — сгорает в гибельном пламени mortido , но сколькие приближаются к осознанию того, что благодаря Другому, они начали чувствовать своё бессмертие? Истинное бессмертие, убеждённость в том, что «Я пребываю извечно». Существует большая разница между осознанием своего бессмертия на интеллектуальном уровне и глубинным проживанием или, мы бы сказали, примордиальным воспоминанием о мире Духа.… Признания вроде «только с тобой я понял, что такое жизнь» или «полюбив тебя, я вкусил смерти», меркнут рядом с «благодаря тебе я обрёл своё бессмертие»; два первых признания немыслимы в отрыве от земного, человеческого, а значит тленного, преходящего, ибо подразумевают собой Альфу и Омегу, начало и конец, рождённое и гибнущее. Третье — не знает никаких бинарных пар, ему чужда любая дихотомия, оно отвергает время. И если эта любовь вынуждает искать близости с объектом любви, сие объясняется жаждой бессмертия, перманентного пребывания в упомянутой убеждённости, когда сама Кровь чувствует каждое движение, каждый вздох, каждую мысль другого человека. Андреас Копелланус, как пишет Эвола в «Метафизике пола», определял любовь как агонию, рождённую в результате «экзистенциальной медитации» на лицо противоположного пола». Безусловно, эта медитация помещает субъекта на опасную грань, где более нет никакого дела до сохранения бытия и, скорее, череда душевных имплозий возрождает некую необъяснимую тягу к немыслимому разрыву с этим самым бытием — вступлению в область предбытия, стремительному трансгрессивному рывку за предел боли, страха, наслаждения и даже экстаза. В отрицании бытия проглядывает воля к бессмертию, скука от «просто жизни»; любовь действительно может представлять собой агонию, которая, быть может, есть то единственное, что ещё способно освободить нас от «человеческого, слишком человеческого».
Батай противопоставляет сексуальную деятельность эротизму, отпирая врата последнего ключом «игры воспроизводства». Он рассматривает три формы эротизма: телесный, сердечный, сакральный.
Если с телесным и сердечным всё более чем ясно, то эротизм сакральный вызывает много вопросов. Батай имеет в виду религиозный аспект эротизма, подразумевая под ним поиск Бога, любовь к Богу. Он сравнивает жертвоприношение с эротическим деянием, ибо во время ритуала умерщвления жертвы, а точнее, в самый момент её гибели, все участники причащаются некоей Силы, которую Батай называет стихией Сакрального. Сакральный или божественный эротизм имеет отношение к негативной теологии, в основе которой лежит мистический опыт. К слову, сам труд «L`Erotisme» является (запретным) плодом, что вырос на древе опыта внутреннего. «Моя цель, — писал Батай, — сообщить внутренний опыт, то есть, как я понимаю, религиозный опыт — вне какой бы то ни было определённой религии» . Батай был социологом без социологии, теологом без теологии, философом без философии, как барон Юлиус Эвола — традиционалистом без Традиции. Написание подобной книги напоминает внутреннее паломничество, но Батай не берёт с собой ни кувшина с водой, ни узелка с вещами, ни посоха, не желая обременять себя чем-либо. Это одиночное странствие, путь к неизбежному, и философа меньше всего интересует, что скажут о нем историки религий, социологи или этнографы, остающиеся в строгих рамках своей деятельности.
Негативная теология (или апофатическое богословие) была, согласно Дионисию Ареопагиту, одним из двух богословских путей наряду с теологией катафатической. Тот, кто следует по первому пути, обретает некоторое знание Бога, но этот путь Ареопагит называет несовершенным; однако выбирая второй путь, человек получает абсолютное незнание, но именно этот путь является совершенным и единственно правильным, поскольку познание Бога начинается с отвержения всего, что находится ниже Его, иными словами, это отказ от всего сущего. «Если, видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога Самого по Себе мы видим, а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее. Только путем неведения можно познать Того, Кто превыше всех возможных объектов познания. — читаем мы у Дионисия Ареопагита. — Идя путем отрицания, мы подымаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы в Мраке полного неведения приблизиться к неведомому. Ибо, подобно тому, как свет рассеивает мрак, так и знание вещей тварных уничтожает незнание, которое и есть единственный путь достижения Бога в Нем Самом» . Отречься от самого себя, тотально отдавшись «мистическим созерцаниям» означает приблизиться к соединению с Богом, вступив в его Предвечный, Святой Мрак. Но прежде необходимо пройти три стадии очищения:
— катарсис (абсолютное освобождение),
— освещение «Божественным Светом» («иллюминация»),
— «теосис» («обожение»).
Важно обратить внимание, что согласно Дионисию Ареопагиту, в соединении с Богом человек не утрачивает свою личность, при этом обретая божественные качества. Иными словами, автор делает различие между «соединением» и «слиянием», в результате которого происходит полное отождествление человека и Бога (что мы легко можем найти у неоплатоников). Богопознание может быть только внутренним опытом, подлинным проживанием, а не отвлечённой идеей, теоретическими исканиями, оторванными от духовных практических упражнений. Чрезвычайно важно понять, что экстаз у Дионисия Ареопагита подразумевает не поглощение, не растворение субъекта в объекте до полного их неразличения, а, напротив, «выход из себя» (Мартин Хайдеггер указывает, что греч. слово «экстаз» родственно лат. ek-sisteo , что означает «вы-ступаю»), шаг за пределы себя — для встречи с Богом, с Божественным Эросом.
Григорий Нисский также рассматривает три ступени очищения: катарсис, обретение «естественного видения» и теосис (состояние «трезвого опьянения»). Бог абсолютно непознаваем и трансцендентен, и человеческая душа вечно устремлена к Первоисточнику, Первопричине, побуждаемая Божественной Любовью к перманентному восхождению по Вертикали. Божественная Любовь, Божественный Эрос. Григорий Нисский поясняет: «Сие-то и выражает это дерзновенное и преступающее пределы вожделения прошение насладиться красотою не при помощи каких-либо зерцал или в образах, но лицом к лицу».
Сближение религии и эротизма взывает к познанию обоих. По Батаю, оно невозможно без переживания опыта двух антагонистических элементов — запрета и трансгрессии. Рациональный мир, мир разумный, появившийся вследствие трудовой деятельности, прячет в своих глубинах естественную, присущую нам от природы ярость. «В мире природы и в самом человеке остаётся некое движение, которое всегда превосходит пределы и которое может лишь отчасти в них заключаться», и это движение сдерживаемо трудом, возвращая нас к рациональному началу. Мир труда (профанный мир) противостоит миру ярости (сакральному миру); между ними — смерть, чуждая первому и неразрывно связанная со вторым.
Говоря о трансгрессии, нельзя игнорировать присущий ей дуализм. То же самое справедливо и в отношении запрета. Весьма интересно, что Мирча Элиаде, называет сей опыт не экстазом, а энтазом (entasiz — букв. «вхождение внутрь в себя»). Столкновение с нуминозным вызывает у человека наивысший ужас и наивысшее блаженство. Рудольф Отто, который ввёл в научную сферу понятие «нуминозного», выбрал предельно точное для него обозначение — «Misterium tremendum» (лат. «Тайна Ужасающая»). Нуминозное определяют как «динамическое существование или действие, вызванное непроизвольным актом воли <…> Оно охватывает человека и ставит его под свой контроль; он тут всегда скорее жертва, нежели творец нуминозного. Какой бы ни была его причина, нуминозное выступает как независимое от воли субъекта условие. И религиозные учения, и consensus gentium всегда и повсюду объясняли это условие внешней индивиду причиной. Нуминозное — это либо качество видимого объекта, либо невидимое присутствие чего-то, вызывающее особого рода изменение сознания» .
Не смотря на желание увидеть образ Бога, Батай хорошо понимал, что если данный опыт будет пережит и с губ его сорвутся слова: «Я видел Бога», священное незнание, манящая неизвестность уступят место «мёртвому объекту теологии». Не Его ли образ видел Батай во время последней агонии Лауры, Колетт Пеньо, покидающей этот мир, явив трагичный лик царя Эдипа? А может то был вовсе не Эдип, а неизвестный Бог, напугавший Батая так, что поиск ненужных ассоциаций показался единственным способом сохранить рассудок? Следуя за Иоанном Крестителем, Батай желает погрузиться в ночь незнания и достигнуть края возможного. Человек, чуждый эротизму, по мысли философа, далёк от этого края, равно как далёк и от внутреннего опыта, довольствуясь опытом большинства. Батай был охвачен желанием быть сразу всем, но приближение к осознанию невозможности, к пределу человека, делает его пленником удушающей пустоты, и этот пленник низвергается всё глубже, тем самым избавляясь от последних оков сна: «Вот когда начинается необычайный опыт. Дух вступает в причудливый мир, сложенный из тоски и экстаза». Ему было нужно знать, что всё переживаемое им также должно быть пережито Богом, ибо «никто не дойдёт до края незнания, не погрузившись прежде в тягостное одиночество Бога».
Смерть индивида. Сообщество нарциссов как антипод трагического сообщества
Важно отметить, что в любом человеке, вне
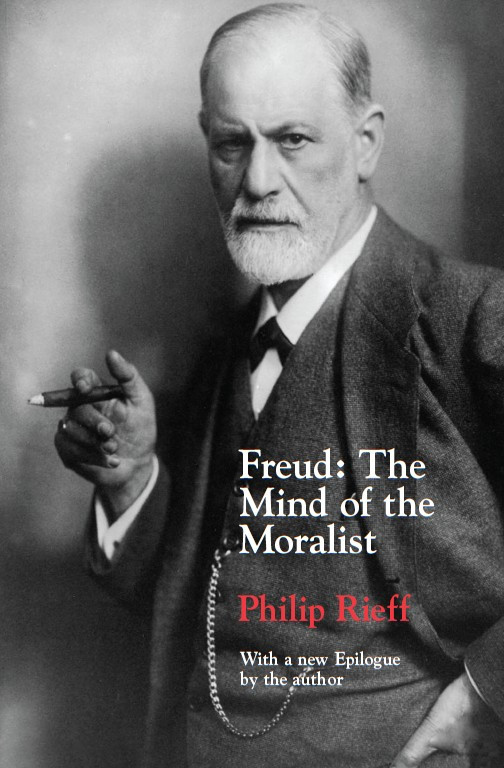
Особенно значительными представляются культурные исследования Риффа: он приходит к противопоставлению современных форм культуры традиционным, исходя из положения, что изначально любая культура была системой «Да» и «Нет», определявших линию поведения человеческих существ. «Смысл культуры состоит в том, чтобы интегрировать индивида в сообщество через передачу ему идеалов, устанавливающих разделяемые самим человеком различия между правильными и неправильными поступками. — пишет Дмитрий Узланер. — Одна из принципиальных задач культуры — научить человека ограничивать собственные инстинкты во имя общей цели, разделяемой всем сообществом» .
Фундаментальную роль Рифф отводит культурной элите, обязанной сохранять культурные символы сообщества (позитивное сообщество формировалось из участников, объединённых некой спасительной целью), однако при парадигмальном сдвиге все символы проходят через неизбежную трансформацию. Так, при переходе от эпохи Модерна к эпохе Постмодерна возникает новый идеал человека. Филипп Рифф пишет о нём так: «Более не святой, но живущий инстинктами das Man (Everyman), недовольно ворочающийся в накрахмаленном воротнике культуры, является тем всеобщим идеалом, к которому люди возносят свои негромкие молитвы об освобождении от доставшихся им в наследство ограничений». С его появления начинается переориентировка психологического человека, забывшего об интеграции в сообщество и усмирении своих инстинктов. Отыне человек стремится к скучному комфорту и безопасности и обретает их в терапевтических кабинетах. В мире Постмодерна не может быть никаких позитивных сообществ и сделаем вполне логический вывод, что в этом мире больше не может быть культурной элиты, уберегающей символы своей культуры. Интеллектуалы встали на сторону масс; этот предательский жест Рифф сравнивает с самоубийством. Американский социолог констатирует рождение антикультуры и «триумф терапевтического» (название одной из его работ).
Антикультура есть то, против чего восставал Рифф. В более поздние годы он стал задаваться вопросом, что может противостоять этому врагу, и его ответ был таким — «харизма», харизматический человек. Сейчас это слово утратило свой истинный смысл, но мы, вместе с Риффом, попытаемся обратиться к истокам: «харизма» происходит от греч. charisma и означает божественный дар и благодать. Дмитрий Узланер заключает: «Парадокс современности заключен в том, что харизматики исчезли, как исчезло само понимание того, кто такой харизматик и что такое харизма. Современная антикультура уже более не в силах отличить харизматика от лжехаризматика» . Какова функция харизматического человека в системе культуры? Прежде всего, он должен разрушить старые скрижали, нарушить прежние запреты во имя утверждения новых, а значит утвердить Вертикаль Власти или Сакральный Порядок. Рифф придерживается концепции трёх культур (трёх миров), которые мы можем сравнить с тремя известными нам парадигмами (Премодерн, Модерн, Постмодерн) или тремя социокультурными системами П.Сорокина (идеационная, идеалистическая, чувственная): мир языческих богов (возникновение космоса из хаоса), мир веры (культура Вертикали Власти), мир выдумки (мир антикультуры), основанный на руинах мира веры. Для обозначения войны, что ведётся между этими мирами, Рифф вводит определение kulturkampf. Рифф признавал только сакральную социологию, а собственную деятельность воспринимал не иначе как вызов современному миру и жёсткое, постоянное ему противостояние.
В своей главной книге «Эра индивида. К истории субъективности» Ален Рено анализирует социокультурную ситуацию на Западе и приходит к заключению о «смерти субъекта». Причину внезапной десубъективации Рене видит в монадологии Лейбница, которую он называет «самой сущностью индивидуализма Нового Времени». Рено концентрирует внимание на оппозиционных отношениях субъекта и индивида, делая строгое различие между независимостью и автономией, считая первую идеалом. К сожалению, автор не даёт точных определений, хотя его призыв к тому, чтобы «выбросить индивида, но сохранить субъекта, пожертвовать независимостью, но сохранить автономность» явно подразумевает внесение предельной ясности во избежание терминологической путаницы. Слово «индивидуализм» восходит к франц. Individualism и лат. Individuum, что значит «неделимое» и определяется как абсолютизация позиции отдельного индивида в его противопоставленности обществу. Философы Нового Времени (Модерна) понимали индивидуализм как самостоятельность и самоценность личности. Для определения автономии мы обратимся к Канту (к которому также апеллирует Рено), представлявшему её как самостоятельное бытие, определяемое собственным разумом и совестью.
В эпоху Постмодерна произошла не только смерть субъекта, отмирание этой важнейшей жизненной доминанты, но и абсолютное разрушение «ментального каркаса», что привело к низвержению иерархии всех ценностей. Ergo: мы запутались в чудовищной ризоме, из которой не видим никакого выхода, ибо в отношении ризомы нельзя говорить ни о Едином, ни о множественном, равно как бессмысленным будет любой разговор об альфе (начале) и омеге (конце). Произошло воцарение хаоса (правление титанов). Процесс персонализации, на котором заостряет внимание профессор философии Жиль Липовецкий, сделал неизбежной переоценку социальных ценностей; в нынешнюю эпоху именно этот процесс становится способом общественной организации: «Отныне общественные институты ориентируются на мотивации и желания. Процесс персонализации поощряет участие в нём, регулирует досуг и развлечения…» За смертью субъекта последовало повторное рождение индивидуума. Мы имеем новую идеологию — «гедонистический и персонифицированный индивидуализм». Нашу эпоху характеризует логика обольщения; под обольщением Липовецкий понимает инструмент персонализации, осуществляющий стратегическое воздействие на все сферы современного общества. К слову, надо заметить, что persona здесь имеет значение не «личности», не «особы», а редко приводимое значение «никто». Поэтому первая работа Липовецкого называется «Эра пустоты», эра, в которую совокупность «никто» более не мобилизуемая ни сверхидеями, ни кумирами, оказывается заложницей бездуховной пустыни, пленницей интеллектуальной ризомы. Достигнута абсолютная автономия, и достигнута она индивидуумом, символом которого является Нарцисс. По Липовецкому, он знаменует собой переход от ограниченного индивидуализма к индивидуализму тотальному. Важно не упускать из виду, что нарциссизм, царящий в обществе потребления, бывает «коллективным» и представляет собой сборище людей, одержимых одними и теми же житейскими проблемами и друг к другу их притягивает ни что иное, как обыкновенное желание находиться рядом с себе подобными. После смерти Бога, наконец, после смерти субъекта, не последовало ни пессимистического уныния, ни всплеска ностальгических настроений, ни революционного бунта против духовного обнищавшего современного мира. Самое страшное заключается в том, что всем вокруг всё равно. «Перед нами равнодушие, а не метафизическая скорбь», к такому выводу приходит Липовецкий. Не возникает никакого трагического сообщества Батая, его заменило сообщество нарциссов. Всё, что мы имеем, так это апатичных «никто», погружающих своих ленивые тела в белые капсулы гостеприимных соляриев. Каждый жест этих «никто», каждое принятое ими решение есть антипод всего «трагического» и дионисийского. Апатия становится очевидной реакцией на переизбыток информации, по существу, совершенно бессмысленной и ненужной.
Обратимся к концепции индивидуализма Луи Дюмона, который противопоставляет традиционное общество, в чьей основе лежит холистский принцип, обществу современному, чьим фундаментом является индивидуализм. История Запада, по Дюмону, может быть представлена как переход от холистского принципа к индивидуалистическому; главная роль в этом может быть по праву отведена западному христианству, воздвигшему на пьедестал универсализм и эгалитаризм, что подчёркивает Ален де Бенуа в одной из глав своей книги «Против либерализма». Ален Рено не может удовлетвориться имеющимися бинерами, а потому ищет нечто третье, «срединное», располагая гуманизм между холизмом и индивидуализмом, а субъект — между холосом и индивидом, соответственно, — путём снятия конфликта между независимостью и автономией. Рено предлагает обесценить автономию как таковую, оставив то что он почитал как идеал, то есть, независимость. Для Батая последняя была синонимом суверенности (souverainete), верховной власти и абсолютной независимости субъекта. Суверенность (которую ни в коем случае не следует путать с
Преступный мир маркиза де Сада. Суверены разврата
Жорж Батай уделяет немало внимания маркизу де Саду, который «предложил своим читателям нечто вроде суверенного человечества, чьи привилегии больше не подлежат обсуждению толпы» . Разумеется, Сад во всём доходит до пароксизма. Эротизм героев де Сада, сотканный из сакральной ярости и неудержимого влечения к смерти, отрицает партнёрские отношения, видя в Другом не иначе как жертву; здесь «бешенство ничем не ограниченного человека находит своё осуществление только в жадности свирепого пса». Отрицание любого «ты», по де Саду, путь к подлинной суверенности. Нет ничего удивительного в том, что он возводил одиночество в Абсолют, ведь его эротико-философская система вызревала в пустоте тюремной камеры. Томясь в Бастилии, де Сад «пожелал остаться с тем, чего достиг в бесконечном безмолвии одиночной камеры, где его связывали с жизнью только видения воображаемого мира». Сексуальная истина этого человека отрицает уважение к другому, полагая, что сей принцип не позволит субъекту пасть жертвой сексуального рабства и приведёт к обретению суверенной позиции. Единственное, что допустимо по отношению к другому — это апатия как полное уничтожение «паразитических» чувств. Всё это вполне справедливо, если мы говорим о той горизонтали бытия, в которой всю свою жизнь находился де Сад (а следовательно и его персонажи), и абсолютно неприемлемо в разговоре о вертикали, где эротизм столь же далёк от человеческой любви и человеческого секса, сколько божество — от животного. Юлиус Эвола писал, что «великий свет» может придти только со стороны метафизики пола, но не со стороны психологии или физиологии секса». Де Сад касается исключительно «человеческих, слишком человеческих отношений», где мужчину влечёт к женщине отнюдь не atma, не принцип «всеобъемлющего света, полного бессмертия», как сказано в Упанишадах, а непрерывность преступления и разрушительная жажда. Персонажи его произведений достигают экстатического пика лишь благодаря той апатии, той трудно обретаемой холодности, что придаёт особую изысканность любому пороку («хладнокровное преступление величественнее, чем совершенное в пылу страстей»); описываемое состояние предполагает саморазрушение, самоопустошение души, ведущее к накоплению огромной силы. Чехов называл равнодушие параличом души. Именно эта болезнь стала уделом героев де Сада. Шаг к тотальному отрицанию других порождает следующий — к отрицанию себя. Другой — не более чем инструмент, позволяющий «умножить» собственные руки надвое и вбросить себя в обитель «остроконечной боли», стирающей всякое самосознание; в грёзах об обмороке, в сексуальной истоме, с обещанием вырваться за пределы замкнутого (рабского) круга, субъект разделяется в себе самом, отныне участвуя и наблюдая: его тело, готовое к испытаниям, сексуальным пыткам и вседозволенности фантазий, извивается перед взором холодного, абсолютно равнодушного наблюдателя, свидетеля коитуса, который не испытывает ничего, даже тени любопытства, и с трудом связывает себя с плотским существом, упавшим в омут добровольной саморастраты. Второй не знает никакой пощады, он не бережлив, не осторожен, его сила, его энергия расплёскивается в пространстве ложа, омывая волнами безудержной страсти того, кто служит всего лишь инструментом; первый, благодаря своему равнодушию, «пьёт», вбирает в себя эту силу, занимая суверенную позицию.

Де Сад учил, что жизнь представляет собой поиск удовольствия, которое «пропорционально уничтожению жизни». Из почвы этого уничтожения прорывается росток садизма, сравнимый Батаем с аппендиксом, который можно удалить, однако неожиданно он задаётся вопросом: «Но что если это, напротив, суверенная и неустранимая часть человека, которая лишь скрывается от сознания? Одним словом, что если это его сердце, то есть не орган кровообращения, а беспокойные чувства, тот сокровенный принцип, знаком которого является этот внутренний орган?» Зачем и почему одинокий, суверенный человек де Сада ГОВОРИТ? Разве сакральная ярость не молчалива, разве она нуждается в словах, обращённых к
Батай подчёркивает, что идеи маркиза могли вызвать лишь очевидную реакцию, а именно отвращение и отторжение большинства; при этом невозможно отрицать, что в узких кругах де Сад стал объектом поклонения и подражания. «Ярость — это расстройство духа, а расстройство духа тождественно сладострастному бешенству, возбуждаемому в нас яростью», — читаем мы в «Эротизме». Противостояние разума и эксцесса, анализируемое Батаем, имеет одну причину — амбивалентность человеческих существ. Разум в своих попытках обуздать ярость, обрести над ней контроль, зачастую терпит поражение, эксцесс подводит нас к суверенной позиции, отдаляя от сознательности.
Описывая общество де Сада, Морис Бланшо указывает на меньшинство, имеющее достаточно энергии, «чтобы возвыситься над законами и над предубеждениями, чувствующих себя достойными природы
Синтез Логоса и Камы. Эротическая космогония Станислава Пшибышевского
Ещё в юные годы польский писатель Станислав Пшибышевский был потрясён словами Шиллера о существовании двух полюсов, между которыми проходит вся наша жизнь — Любви и Голода. Для Пшибышевского такими полюсами стали Любовь и Смерть. Голод, это томительное и вечно мучащее, злорадное чувство, словно бы затаилось «между» ними — падкое до любви, вожделеющее к смерти. Тексты Упанишад говорят нам: «Вначале здесь не было ничего. [Всё] это было окутано смертью или голодом, ибо голод — это смерть». Страшная бескровная «мистерия разделения»: сам Творец, пожелавший быть воплощённым (atmanvin), был Смертью и Голодом; он создаёт мир, дабы пожрать его, тем самым принося себя в жертву. Выходит, что два полюса есть Любовь и…Творец. В понимании Пшибышевского первая всегда была возрождающей стихией, силой воскрешения и обновления, но кем тогда был второй, сокрытый за шиллеровским голодом, за смертью? Любовь являет собой «неудержимое стремление…к полному слиянию двух полов». Противоположный полюс, напротив, тяготеет к разъятию, разделению, нарушению Единства. Травма Целому, наносимая Творцом ощущалась Пшибышевским как рана.
Пшибышевский создавал свою космогонию, правда, нужно отметить, что отправной точкой при этом всё же оставалась Библия, хотя писатель обращался и к иным, отличным от христианской, культурам, исследуя мифы о сотворении мира. В его «Requiem Aeternam» мы находим ссылку не только на Евангелие от Иоанна, но и на древнейший религиозный памятник Ригведу: «Вначале было желание…» Пшибышевский полагал, что до сотворения мира существовало Единство, Полнота, являющаяся первоисточником всего сущего. Возникновение мира произошло в результате дисперсии (или эманации) Абсолюта, причиной чему послужило «желание», которое мы легко можем отождествить с индийским понятием Kama (Кама). Давайте вернёмся к Ригведе, а точнее, к Гимну творения:
«Тогда не было ни того, что есть, ни того, что не есть; не было ни неба, ни небес, которые выше. Что покрывало? Где было это и под чьим покровительством? Была ли вода глубокой бездной (в которой это лежало)?
Тогда не было смерти, следовательно, не было ничего бессмертного. Тогда не было света (отличия) между ночью и днем. Этот Единый дышал сам собой, не дыша; другого, кроме этого, тогда не было ничего.
Тогда был мрак, в начале всего было море без света; зародыш, который лежал, покрытый оболочкой, этот Единый был рожден силой тепла (тапаса).
В начале победила любовь, которая была семенем, исходящим из духа; поэты, поискав в своем сердце, нашли при посредстве мудрости связь сущего в несуществующем.
Проходящий (распростертый) луч был ли внизу или вверху? Тогда были носители семян, тогда были силы, сила я внизу и воля вверху.
Кто тогда знал, кто объявил это здесь, откуда родилось это создание? Боги появились позже этого создания; кто же знает, откуда оно появилось? Тот, от кого исходило это создание, совершил ли он его или не совершил,- Высочайший Видящий в высочайшем небе, он, может быть, знает, или даже и он не знает?"
Пшибышевский рассматривает акт сотворения как яростный, судорожный, жаждущий бросок, некую божественную дрожь, энергетический всплеск, происходящий в тот момент, когда Бог «изливает» мир из самого себя, сталкивая два аспекта — женский и мужской. Рождение мира он сравнивает с половым актом и, в некоторой степени, с родовыми схватками. Таким образом, мир возникает из экстаза и боли.
« Вначале было Слово…» (Библия)
«Вначале был Заговор» (Жан Парвулеско)
«Вначале было Посвящение» (Алистер Кроули)
Космогония Пшибышевского иная, будоражащая, сексуальная: «В начале был пол. Ничего, кроме него, — всё в нём». Пол, отождествлённый с библейским Духом, что носился над первичными водами, Пол как великая мощь созидания, изменения и разрушения и, если можно допустить здесь некоторую вольность, Пол есть бог, а именно «сила, посредством которой Я бросило атомы друг на друга, — слепая похоть, которая повелела им соединиться, которая заставила их создать элементы и миры». Пшибышевский принимает в наследство мудрость Упанишад и повторяет слова о сотворении разума. Согласно Упанишадам, Творец делает это для реализации своего воплощения, по Пшибышевскому — для удовлетворения «вечно голодных демонов его похоти». Интересно отметить, что, описывая процесс возникновения Пола, автор делает акцент на «ярости», «жестокости», с которой изначальное Единство разъяло Себя на Две Части с целью «создать новое, более утончённое существо».

Рождение души Пшибышевский связывал с превращением единства во множество, можно сказать, с трансцендентной дихотомией, беспорядочным смешением; этот процесс знаменовал собой «объективизацию» Пола в бытие и становление его Светом. Сотворение души есть сотворение гибели Пола, ибо всякое чувственное впечатление стало стремиться к автономии и борьбе за господство.
С бесстрашием, присущим лишь Мальдорору бессмертного графа Лотреамона, Пшибышевский изрекает: «Да: я люблю дерзость безумия, твёрдую, как гранит, рождённую из зуба дракона гордость библейского человека, который, издеваясь над жестоким Богом, с угрожающим смехом взывает впервые к своему Сатане-Ягве и отрывает с земли утёс, чтобы швырнуть его в небо, бичующее своё собственное отродье за грехи, которое оно же ему привило» . Мотив богоборчества пронизывает всё творчество Станислава Пшибышевского; он придерживался мысли, что человек и Бог находятся в состоянии перманентной борьбы.
Притяжение полов обусловлено стремлением вернуться к изначальному единству, coincidentia oppositorium, нейтрализации катастрофического «разрыва» внутри Абсолюта. Идея андрогинности, безусловно, восходит к учению Платона, оказавшего значительное влияние на мировоззрение польского писателя. Жорж Батай считал, что бытие существует только благодаря эксцессу, «когда полнота ужаса совпадает с полнотой радости». Смерть он полагал знаком ярости, который вторгается в мир, грозя ему уничтожением. Так, Любовь в воззрении Пшибышевского толкала мужчину к женщине, а женщину — к мужчине, становясь богоборчеством, где ярость — не слепа, но сакральна. Однако эта ярость не может проявиться до тех пор, пока то, что вызывает ужас, не будет преодолено. «Любая эротическая практика нацелена на то, чтобы достичь самого сокровенного бытия, пока не станет страшно», — был убеждён Батай. Нигде более вы не найдете столь утончённого, поэтического и в то же время болезненно-драматического описания Мистерии Воссоединения, как в произведении Пшибышевского «Андрогина». Польский гений показал не только невыносимую муку страждущей души, но и явил перед читателем длинный путь, который преодолевает Он ради магического слияния с Ней:
«Он знал, что идёт к ней, с ней сольётся в одно во чреве вечности, из которого явились он и она. Не отчаяние — лишь больная безумная тоска по этим глазам, погрузившим свои звёзды в бездны его души с такой любовью в страдании, и этим рукам, запечатлевшим тысячи своих роковых линий в его мире, по печальной улыбке, ложившейся в тяжком раздумье, вокруг уст…Да будет. Он и она должны вернуться к первобытному лону, чтобы стать одним святым солнцем» .
Важную роль в космогонии Пшибышевского играют гностические воззрения. Он полагал гнозис «обнажённой душой», знанием, которым могут обладать только люди высокой духовности. Основываясь на концепции Валентина, Пшибышевский разрешает вопрос о происхождении зла, вследствие чего приходит к выводу, что изначальная вина лежит на женщине; страсть, желание (Кама) Софии обрело автономное существование как София Ахамот (низшее, несовершенное и бесформенное порождение женского эона), находящаяся в разрыве с Плеромой и отягощённая порывом к воссоединению.
Т. Зеленский называл Пшибышевского Князем Тьмы, заглянувшим во все бездны бытия, во все пропасти нищеты и преступления, заплатив за каждое написанное им слово своей собственной кровью. Для него не существовало резкого противопоставления «я»-«не-я», «субъекта» и «объекта», «конца» и «начала». Не желая подражать всесильному Космократору, Пшибышевский не разделял, но интегрировал, и разве не красноречиво это признание: «Я — синтез самого опьянённого вдохновения и хладнокровно рассчитанной утончённости, синтез верующих первобытных христиан и
В высшей степени спорным нам видится толкование Валентина. Если стремление последнего женского Эона (Софии) к познанию Первоначала было столь сильным, что она, влекомая неукротимым желанием, пала в Бездну, словом, если означенное стремление стало причиной её разрыва с мужским Эоном и порождением низшего аспекта Софии-Ахамот, то не является ли человеческий порыв к бого- и самопознанию актом, ему тождественным? Ахамот оказывается за пределами Плеромы и, будучи лишена изначальной целостности, она испытывает муку и страдание. За единственный шаг к Познанию женский Эон был низвергнут. В неизданной рукописи «EndKampf» нами была представлена концепция «Nihiladeptus» (от лат. «nihil» и «adeptus», букв. «Ничто достигший»), основанная на понятии Sonnenmench, пути kaivalya и Последней Доктрине Юрия Мамлеева. Согласно этой Доктрине, существует возможность выйти за пределы Абсолюта, мы, в свою очередь добавим, что тот, кто достигает Ничто (а под «ничто» мы подразумеваем Плерому), прежде должен обрести единство, или устранить первоначальный «духовный грех» Софии. Требуется внести некоторую ясность в отношении знака равенства, который мы ставим между «Ничто» и «Плеромой». В сакральном тексте «SEPTEM SERMONES AD MORTUOS» («Семь наставлений мертвецам») гностик Карл Густав Юнг пишет:
«Слушайте же: Я начну от ничто. Ничто, по сути, то же, что Полнота. В бесконечности наполненность равно что пустота. Ничто — пусто и полно. Вы можете сказать равным образом и иное о ничто, к примеру, что оно бело или черно, или что его нет. Бесконечное и вечное не имеет свойств, ибо имеет все свойства.
Ничто или Полноту мы наречем Плеромой. В ней прекращает свой путь бытие и помышление, поскольку вечное и бесконечное не имеет свойств. Там нет никого, потому как иначе некий Тот отличался бы от Плеромы и имел свойства, которые делали бы его отличным от Плеромы» .
Вышеуказанная тождественность является фундаментальным положением наших дальнейших рассуждений. Необходимо обозначить, что, развивая учение Валентина, мы имеем лишь «египетский взгляд» на изначальную драму разделения; мало кто сосредоточивает внимание на том, что первым пал не женский, а мужской Эон. Для приближения к пониманию Изначальной Драмы Разделения нам следует принять к сведению и прямо противоположные мнения. Вл.Соловьёв пишет:
«Последний из тридцати — женский эон, София — возгорается пламенным желанием непосредственно знать или созерцать Первоотца — Глубину. Такое непосредственное знание Первоначала свойственно только его прямому произведению — Единородному Уму; прочие же эоны участвуют в абсолютном ведении Глубины лишь посредственно, по чину своего происхождения, через своих производителей, а женские эоны, сверх того, обусловлены в сем деле и своими мужскими коррелатами. Но София, презревши как своего супруга Желанного, так и всю иерархию двадцати семи эонов, необузданно устремляется в бездну несказанной сущности. Невозможность ее проникнуть, при страстном желании этого, повергли Софию в состояние недоумения, печали, страха и изумления, и в таком состоянии она произвела соответственную ему сущность — неопределенную, безвидную и страдательную. Сама она, потерявши свой внутренний устой и выйдя из порядка Плэромы, разрешилась бы во всеобщую субстанцию, если бы в своем безмерном стремлении не встретила вечного Предела, все приводящего в должный порядок и называемого также Очистителем, Воздаятелем и Крестом. Орос исключил из Плэромы бесформенное чадо Софии, ее объективированное страстное желание, а Софию восстановил на прежнем месте в Плэроме» .
Однако, имеются и другие версии; так по одной из них, охваченная страстью София, начинает творить, не испросив согласия Нуса, что приводит к рождению несовершенства — Ахамот. В Трёхчастном Трактате, как многим известно, «отпавшей» является не София, а Логос, объятый страстным желанием постичь непостижимость Праотца. Как объясняет Виолет МакДермот: «Этот эон вместе с его собственной высокомерной мыслью и порождает образы Плеромы, но образы эти лишены разума и света. У них нет знания об их единственном источнике, а потому они существуют в распрях и «вражде» . Таким образом, налицо различия с валентинианской (египетской) системой, которая занимает центральное место в эротической космогонии Пшибышевского.
Многие сходятся во мнении, что Станислав Пшибышевский был сатанистом, однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение, мы попробуем обратиться к одному из главных произведений польского писателя. В «Синагоге Сатаны» мы встречаем идею двух противоборствующих начал, иными словами, манихейский дуализм, в основе которого лежит концепция существования Двух Богов (Царь Света, Царь Тьмы) — Доброго и Злого, создателя мира совершенства и творца мира материального, ущербного, тленного. Особенно обращаем ваше внимание на то, что Пшибышевский описывает Злого Бога как «высшую мудрость и высший разврат», доводя свои представления до некоего «дионисийского» уподобления, до воплощённой трансгрессии или той силы, что побуждает человека нарушать закон и выходить за все пределы. Добрый Бог, напротив, предстаёт как смирение, послушание и покой, более всего походя на уставшего монаха, закрывшего глаза на этот не достойный внимания мир. Пшибышевский совершает распространённую ошибку, отождествляя Люцифера, Светоносца с Сатаной, едва ли отдавая себе отчёт в том, что Люцифер и Люцифуг — не есть одно и то же. Говоря «Сатана», польский мастер, безусловно, имеет в виду Люцифера, подлинный Свет Мудрости, сакральный порыв к невозможному.
«Ещё не родился в ту пору Сатана-Антихрист. Злой Бог был двуедин. Сатана-отец, Сатана самиаза, Сатана-поэт и философ жил в гордом, всемогущем и всеведущем роде магов. Он жил в молчаливых мистериях халдейских храмов, и жрецами его были гакамим (врачи), хартумим (маги), каздим и газрим (астрологи). Этот Сатана жил в доктринах маздеизма, и дети его, маги великие, охраняли святой огонь, сошедший к ним с небес. От
Единственным противником Сатаны был Сын Доброго Бога, явленный угнетённым и жалким людям, никогда не вкушавшим плодов свободы и «святых радостей Пана». Роскошь отныне приравнивается к непотребству, смех — к богохульству; всюду и во всём видятся демоны («Почти боялись дышать, чтобы злой дух не вселился в тело»). И вот произведения искусства безжалостно уничтожаются, внутренний враг остался незамеченным, хитро избежав позорного истребления. Нет более богоборчества — его сменила «схватка» с демонами. «В фанатическом безумии церковь нападала на глубочайшие и святейшие узы, связующие человека со вселенной. Она насильственно отрывала человека от природы, вешая его между небом и землёй» . Против этого восставал Пшибышевский, видя в Добром Боге источник всякого искажения, и потому он искал спасения в противоположном полюсе, называя его Сатаной. Пшибышевский был и до конца оставался не «дитём Сатаны» и не прихожанином его синагоги, — он был истинным «люциферитом», «сыном Венеры», нашей сокровенной Звезды. «Маг (Сатана) был слишком гордым, чтобы подражать» — ключевая фраза, как ничто иное доказывающая, что Пшибышевский писал о Люцифере, а не о Сатане, ибо последний всегда подражает, стезя его — имитация, демиургический процесс, неведомый Светоносцу. Пшибышевскому не хватило самого малого, чтобы навсегда отбросить это фальшивое пугало — Сатану, отделив «бегущего от Света» (Lucifugus) от «несущего Свет» (Licifer). Сам Люцифер, обращаясь к Доброму Богу (читай: действительному Сатане, Демиургу), обличает Его как «бегущего от Света»:
«Я — Бог Света! Ты, Бог мести, низвергнул меня, потому что я был свет. Твоя ревность к моей красоте, к моему блеску и свету была больше, чем мое могущество, но бойся меня теперь, страшись моей гордыни и ненависти могущественного. Я, вечный свет, не сплю, и дети мои, которых я вскормил вечным светом, никогда не спят. Но твои дети, ненавидящие свет, боящиеся света, твои дети, в низком раболепстве ползающие у ног твоих, твои дети, утомленные борьбой со мною, должны уснуть» .
«Сатанизация» мира начинает означать не только появление многочисленных еретических учений, отречение от Бога и, как следствие, жестокие преследования отступников, но и «искусство отравления», как называл чёрную магию Элифас Леви. Всё смешивается в невообразимом ансамбле, онтологические оси сближаются до слияния в одной точке, взрываясь тысячей извращённых смыслов: человечество заходит в семантический лабиринт, «желудок Демиурга», где бродит до сих пор по извилистым коридорам-кишкам.
Не без интереса можно отметить, что наиболее антирелигиозные бунтовщики средь «покушавшихся на Распятого», воспитывались в атмосфере набожности. Не был исключением и Пшибышевский. От религиозных песен и статей, более всего похожих на библейские проповеди, Пшибышевский делает шаг к «люциферизму», поиску изначальной целостности, вскрытию гноящейся раны (не)бытия. Решающим стало знакомство с сочинениями Фридриха Ницше: теперь польский мастер держал в руках не только факел гнозиса, но и всесокрушающий философский Молот. «Славянский сатанизм Пшибышевского проявлялся в разнузданный жажде истребления, это нигилизм, безграничное разрушение радости и полное уничтожение», — писала о нём Maria Maresch-Jezewicz. Станислава Пшибышевского наградили множеством имён и характеристик:
Всегда неспокойный и умственно активный поляк
Один из божественных жрецов Агни
«Проклятый» физилог
Психофизиологический аналитик
Немецкий сатанист
Славянский мистик
Гений славянской расы
Представитель славянского экзистенциализма
Основатель модернизма
Демон молодой литературы
Новый литературный мессия
и т.д.
Провозглашая принцип «искусство для искусства», Пшибышевский отвергал все эстетические категории. Искусство, находящееся вне мира профанического, «есть воссоздание того, что вечно, независимо от всяких изменений и случайностей, от времени и пространства, следовательно: оно есть воссоздание сущности, т. е. души, притом души, где бы она ни проявлялась: во вселенной ли, в человечестве или в отдельном индивидууме». Станислав Пшибышевский вводит определение «обнажённая душа». Всякое явление, будь то погружение в бездну или наивысший экстаз, крайняя степень аморальности или святое благочестие, уродливые формы человеческих желаний или восхитительные образы небесной чистоты — одинаково были заключены в искусстве, в отражении души, в бытийности и
Для Пшибышевского существовали две противоположности — душа и мозг. Намеренно игнорируя вторую, он бросался в омут первой, доставая из глубин бессознательного целые миры. Положив на весы Мысль и Действие, Гений кладёт свое сердце и писательское перо на чашу Мысли. Центром Вселенной Пшибышевского была Душа, герои его произведений — люди, удостоенные её откровений («Единственное, что интересует меня, это загадочное, таинственное проявление души со всеми сопровождающими его явлениями, бредом, видениями, так называемыми состояниями психоза…»; сравните с ницщеанским определением трагического художника: “…он охотнее берет именно все загадочное и ужасное, он — последователь Диониса”). Попади в руки Дориана Грея не «Наоборот» Гюисманса, а
«С трепещущей, судорожной, разрывающей мозг страстью, с лихорадочным зноем, бушующем в моём мозгу, с бешеной силой моих окрепших от желания членов, я хочу трепетать от землетрясения твоего тела, ничего не чувствовать, кроме раскалённого зноя твоих членов, ничего не слышать, кроме урагана моей крови, ничего не ощущать, кроме колющей, грубой боли любовного пола, в шумящем прибое страшной симфонии тела» .
Он вернул себе пол. И теперь мог его похоронить. Мистерия свершилась. Женщина с чертами Его матери отброшена в припадке отвращения. Так Он обретает свободу от образа. «Заупокойная месса» — это погребение Идеи Пола и Размножения.
В описаниях Пшибышевского много галлюциногенного, нервического, отличающего натуры крайностей, которые любят подходить к обрыву и, борясь с парализующим страхом, предавать бумаге все возникающие в воспалённом мозгу мысли. В произведении «Вигилии» польский писатель, обратившись к теме расставания, развертывает причудливое полотно изысканнейшего мыслепотока, в котором передаёт все колебания души и тела. Что должен был пережить человек, чтобы написать: «из моей крови всё ещё вырастают руки, ищущие, молящие о счастье…»? («У моря»).
Герои произведений Пшибышевского охвачены желанием разрушить мир, их эсхатологическая агрессия достигает космических высот, при этом оставаясь сексуальной; иными словами, сама агрессия содержит в себе некий эротический импульс. В «Детях Сатаны» Гордон провозглашает, что единственной его целью является уничтожение бытия. Та точка, в которой сливаются противоположности, едва ощутима на глубине карающей, непреклонной мысли Станислава Пшибышевского; в этой точке должно произойти невозможное — поглощение одного полюса другим, и кто здесь победит — Любовь или Бог (Голод, Смерть) — вопрос, пополнивший ряд «проклятых» и неразрешимых.
Эрософия
Примечательно толкование Эрота у Платона (которое приводит в своей книге Вл.Соловьёв): «Явилась сила средняя между богами и смертными — не бог и не человек, а некое могучее демоническое и героическое существо. Имя ему Эрот, а должность — строить мост между небом и землёй и между ними и преисподней». Если мы обратимся к средневековой традиции, то неизбежно придём к этимологии слова «демон», которая восходит как раз к Платону, и указывает на значение «знающий, сведущий», что также разделяется и Исидором Севильским. Лишь много позже это слово приобретет негативный смысл. Человек, оказавшийся во власти демона, Эрота, переживает некую метаморфозу, однако вслед за этим в борьбу вступают две души — низшая и высшая, чувственная и разумная (я полагаю, здесь уместно замечание, что под душою «разумной» подразумевается скорее «волевой интеллект», «душа, возвысившаяся над служением смертной жизни», как пишет Соловьёв), и мы совершенно справедливо можем говорить о различии между эротизмом и сексуальностью, понятиями в наш век часто смешиваемыми. Но как и с чего рождается эрософия?
В книге «Любовь и Запад» Дени де Ружмона проводится мысль о синхронном развитии эротизма и войны в рамках общества. Согласно мыслителю, «любое изменение в военной тактике соотносится с изменениями в концепциях любви, и наоборот». Ружмон мог бы заглянуть в вечность и поспорить с Эмпедоклом, для которого единство космоса было основано на борьбе двух противоположностей, антропоморфных сил, а именно Любви (Афродиты; дружбы) и Вражды (Ареса; ненависти). Время от времени одна из Сил начинает доминировать. Когда бал правит Любовь, четыре первоэлемента в своём соединении порождают Космос, Порядок, шар бытия. Затем, по закону энантиодромии (см. Гераклит), в свои права вступает Вражда, что влечёт за собой торжество Хаоса, распад первоэлементов и гибель Космоса. Затем всё повторяется вновь. «То Любовью соединяется все воедино, То, напротив, Враждою ненависти все несется в разные стороны», — как писал Симплиций. Иными словами, для Ружмона существовал синхронный процесс, сосуществование Любви и Войны (Вражды), тогда как Эмпедокл придерживался своей диалектической концепции, не допуская мысли, что Афродита может существовать одновременно с Аресом. «Рождение войны» — так называет одну из глав свой книги «Тайна Запада» Дмитрий Мережковский — следствие любовных отношений между Ангелами и земными женщинами: «И входили Ангелы к дочерям человеческим, и спали с ними, и учили их волшебствам»: тайнам лечебных корней и злаков, звездочетству и письменам, и женским соблазнам: «подводить глаза, чернить веки, украшаться запястьями и ожерельями, драгоценными камнями и разноцветными тканями», а также «вытравлять плод и воевать — ковать мечи и копья, щиты и брони». Убивать и не рождать — это главное, и всё остальное сводится к этому». Эрис и Эрос, первый — в человеке, второй — в человечестве. В точке пола рождается огонь уничтожения. Это таинство, лежащее в основе эрософии. Cultura Daemonum, вскользь упомянутая Мережковским.
ГЛАВА 7
Жертвоприношение как ключ к самопознанию
Древние верили, что голова и волосы содержат не только жизненную силу человека, но и являются хранилищем его духовной сущности, которая возрождалась в новом теле после того, как старое было поглощено смертью, поэтому потеря как волос, так и головы казалась им одинаково опасной. Батай меньше всего хотел вернуться, — его желанием было невозвращение из края возможного. Чтобы ступить за грань невозвращения, нужно было стать Ацефалом, войти в бесконечный лабиринт, свершив жертвоприношение, само-казниться, само-устраниться. Этот ритуал имел для Батая и членов тайного общества ещё один смысл, пожалуй, наиважнейший — жертвоприношение было ключом к самопознанию, к полному, тотальному переживанию своей истинной природы. Но только последующее принесение в жертву себя самого выводило за пределы даже изначальной природы, парапракрити. Если сакральное убийство одного из посвящённых позволяло жрецу приблизиться к смерти, то в тот самый момент, как он занимал его место, происходило его абсолютное вхождение в смерть. Более не существовало никаких приближений и отступлений. Только тотальное яростное вхождение в смерть. Или дионисийский танец-к-смерти.
Авторы исследования о Чиннамасте, одной из Десяти Махавидий, приводят интересные сведения об обряде ритуального самоубийства практиковавшегося в Древней и Средневековой Индии:
«На одном изображении из Виджаянагара (Андхра-Прадеш) мы видим хитроумное устройство, специальную машину, предназначенную для совершения этого акта: она представляет собой нечто вроде гильотины, но рычаг, с помощью которого она приводится в действие, находится в руках человека, приносимого в жертву. Когда жертва нажимает на рычаг, лезвие ножа опускается на шею и голова скатывается прямо к ногам божества, перед которым происходит акт жертвоприношения. На изображении по обеим сторонам от главной фигуры мы видим двух женщин, вероятно — жен человека, совершающего atmayajna; также там присутствует мужская фигура, статус которой не ясен — вероятно, это раб, помогающий в осуществлении ритуала. Существенно то, что, несмотря на присутствие других людей, адепт именно сам, собственной рукой должен совершить решающее движение».
Исследователи склонны придавать этому ритуалу смысл благодарения божества или попытку выторговать у Бога Смерти жизнь другого человека, пожертвовав свою собственную. Мы бы назвали это упрощённым пониманием и осмелились выдвинуть другую версию: совершавший ритуальное самообезглавливание, уподоблял себя божеству, становясь одновременно и жертвенной пищей (казнимым), и казнящим, и принимающим жертву (вкушающим). Сей акт показывал, как жрец и жертва, убийца и самоубийца, человек и бог сливаются в пламенном остром единстве, мгновенно выбрасывая себя из мира вещности. На этом уровне более нет Другого, нет разделения на субъект и объект. С нажатия на рычаг не начинается Песнь Смерти. В этой кратковременной вспышке заключено всё — предел и моментальный «переход за…».
Жертвоприношение, по Батаю, не подразумевало собою жеста, обращённого к Богу, больше того — оно вообще не полагало никакого субъекта, оно изымало жертву из мира профанного, возвращая её в мир сакральный. Собственно, стоит ли вести речь о Боге, если «внутренний опыт» Батая есть опыт после события «смерти Бога»?
Бельгийский художник Антуан Жозеф Вирц практически не знаком даже искусствоведам. Всю жизнь этого мастера занимала тема смерти, но сейчас мы желаем обратить внимание читателя на работу, одно название которой способно вызвать большой интерес — «Что видит голова гильотинированного в первые три момента после казни». Картина стала причиной обвинения Вирца в помешательстве.
Вирц, не обращая внимания на слухи, которыми обыкновенно кормится толпа, свёл дружбу с врачом брюссельской тюрьмы, что, как считал художник, могло привести его к ответу на вопрос: «Сколько длится процесс умирания, когда голова уже отделена от тела, имеются ли в этой голове ещё какие мысли?» Но вскоре стало ясно, что врач может снабдить художника исключительно анатомическими сведениями, но как проникнуть в тело казнённого, как добыть ответ на сакральный вопрос, никто не знал. Вирцу определённо везло, поскольку как раз вовремя в Брюссель приезжает доктор В., одноклассник нового друга художника, имеющий опыт гипнотической практики.
— Я смогу ввести Ваше сознание в оболочку преступника, стоящего на эшафоте, — пообещал доктор Вирцу. Возьмите своего секретаря, а я возьму своего с тем, чтобы они независимо друг от друга вели эксперименты. По рукам?
— А я не умру? — в голосе художника, как он ни старался, проскользнула тревога.
— Вот этого я не знаю, — честно признался гипнотизер…
Доктор и Вирц вместе с секретарями устроились внизу эшафота, чтобы, с одной стороны, не будоражить публику, которая пришла посмотреть на казнь, а с другой, чтобы видеть голову казненного, которая должна была упасть в корзину. После чего доктор «усыпил» художника, внушив ему «войти в «шкуру» преступника, следить за всеми его мыслями и чувствами и громко высказывать размышления осужденного в ту минуту, когда топор коснется его шеи.
Вирц тотчас же уснул. Вскоре палач привел преступника. Его положили на эшафот под топор гильотины. Тут Вирц, содрогаясь, начал умолять, чтобы его разбудили, так как испытываемый им ужас невыносим. На эти мольбы доктор не стал обращать внимание.
Еще мгновение, и голова покатилась в корзину.
— Что вы чувствуете, что вы видите? — спрашивает доктор.
Вирц корчится в конвульсиях и стонет:
— Удар молнии! Ах, ужасно! Она думает, она видит…
— Кто думает, кто видит?
— Голова… Она страшно страдает… Она чувствует, думает, она не понимает, что случилось… Она ищет свое туловище… ей кажется, что туловище за нею придет… Она ждет последнего удара — смерти, но смерть не приходит…
В то время как Вирц произносил эти страшные слова, оба секретаря и доктор внимательно смотрели на голову казненного. Артерии еще пульсировали в том месте, где их перерезал топор.
Доктор продолжал спрашивать:
— Что вы видите, где вы?
— Я улетаю в неизмеримое пространство… Неужели я умер? Неужели все кончено? О, если бы я мог соединиться со своим телом! Люди, сжальтесь над моим телом! Люди, сжальтесь надо мною, отдайте мне мое тело! Тогда я буду жить… Я еще думаю, чувствую, я все помню… Вот стоят мои судьи в красных мантиях… Моя несчастная жена, бедный мой ребенок! Нет, нет, вы меня больше не любите, вы покидаете меня… Если б вы захотели соединить меня с туловищем, я мог бы еще жить среди вас… Нет, вы не хотите… Когда же это все кончится? Разве грешник осужден на вечную муку?
При этих словах Вирца присутствовавшим показалось, что глаза казненного широко раскрылись и взглянули на них с выражением невыразимой муки и мольбы.
Спустя секунды художник заснул окончательно и перестал отвечать на вопросы своего «мучителя». Он, естественно, остался жив и создал свою страшную картину…» .
Бесценный и, как сказал бы Жорж Батай, «внутренний» опыт Вирца, даёт нам возможность понять, что, даже отделившись от тела, голова на
По мнению Жоржа Батая, бытие обретало могущество только достигая небытия, и философ превратил свою жизнь в непрерывное умирание, в непрестанную трату. Природа смерти была для него неотличимой от природы света. Как свет, так и смерть, были (у) тратой, чуждой идее бережливости. С.Л. Фокин так пишет об этом: «Человек, отражая смертный свет, есть зеркало смерти, точно как вселенная — зеркало света. Батай отождествляет свет и смерть, свет и вселенную: из чего вытекает, что человек, умирая, сливается с вселенной. В этом, собственно говоря, и заключается смысл жертвоприношения: его участники, утрачивая границы индивидуальностей, сплачиваются с вселенной» . Когда Лаура (Колетт Пеньо) умирала на глазах своего возлюбленного, Жорж Батай находился во власти непередаваемого ужаса, ибо лицо умирающей напоминало ему «пустое, полубезумное лицо Эдипа». Это явление, unio mystica et physica, сгорающей в костре агонии плоти и ворвавшегося в чувственный мир лика самой Смерти, никогда так и не стёрлось из памяти Батая. «Мир рушился на моих глазах, отнимая у меня последние силы», — скажет Батай, добавив, что «всё кругом проклято». Философия подвергается распаду, когда край возможного достигнут. «Мне предстоит вступить в такое “царство», куда сами цари вступают сражёнными молнией», — это признание Батай сделал в октябре 1939 года. В своей самой личной книге «Внутренний опыт”, в главе под названием «Казнь», он показал, как человек достигает крайности возможного.
Батай призывал похоронить мысль заживо, ибо слова, концепции, определения виделись ему тем, что всё более порабощало его сознание. И слово «тишина» есть шум, и слово «уничтожение» есть всё ещё присутствие. Во «Внутреннем опыте» он пишет: «Поскольку рабство рассудочных форм продолжает усиливаться, жертва, на которую нам надлежит пойти, превосходит жертвы наших предшественников. Уже не нужно заглаживать дарами злоупотребления человека в отношении растений, животных, других людей. Сведение человека как такового к положению раба чревато сегодня (впрочем, уже давно) некими последствиями политического характера (легче покончить со неупотреблениями, чем вывести их религиозные следствия). Но крайнее злоупотребление разумом, на которое в недавнее время пошел человек, обязывает его к последнему жертвоприношению: человеку надлежит отринуть разум, рассудочность, саму почву, на которой он держится. Бог должен умереть в человеке — в этом вся глубина ужаса, в этом гибельная для человека крайность» . Поэт приносит в жертву слова, тем самым извлекая их из профанного мира. Но не только! Сакральность поэзии ещё и в том, что поэт создаёт «некое топическое событие, «сообщение», ощущаемое как нагота. — Это самоизнасилование, обнажение, сообщение другим того, что является смыслом твоего существования», — как писала Колетт Пеньо. Батай разгадывал этот мир как загадку, медитируя (сам он наделял свои медитации эпитетом «тяжкие») над его парадоксами. Автор дошёл до крайности возможного, осознав, что загадка неразрешима. Человек призван быть безответным самоказнением, мир — неразгаданным парадоксальным единством во множественности. «Мой опыт божественного столь безумен, что надо мной будут смеяться, если я вздумаю говорить о нем» , но Батай говорит, отдавая себе отчёт в том, что власть слов ещё слишком сильна. Его опыт подобен казни. Повторить его нельзя, — сей опыт непостижим, и отрицает всякую возможность «стать Батаем». Вполне осознанно он отказывался от возможности быть счастливым и спасённым, ибо это предполагало бы страх перед страданием и желание его избежать, слабость, присущую человеческому существу, для которого подступы к краю возможного невидимы, ибо увидеть чёрный свет и не ослепнуть может только желающий казни. «Прежде всего, следует знать, что на краю возможного все обрушивается: рушится само здание разума, в миг немыслимого мужества рассеивается вся его величественность; из этих руин поднимаются шаткие останки, им не успокоить чувства смятения. Бесстыдно и тщетно кого-то обвинять: так было нужно, ничто не может устоять перед необходимостью двигаться дальше. Иной, если потребуется, заплатит безумием» . Батай не испытывал страха перед страданием, он мог и хотел быть разорванным, расчленённым своим внутренним опытом. Если человек полагает, что достиг края возможного, но при этом остаётся жить, ему нельзя останавливаться. Всё, что он должен — это продолжать себя казнить. Здесь Батай не согласен на компромиссы. Завершение его внутреннего опыта — КАЗНЬ. Сам же опыт — лишь экстаз пред пустотой.
«В “пустыне», где я бреду, царит всецелое одиночество, которое Лаура своей смертью сделала ещё более пустынным», — в этих словах, полных отчаяния и изнуряющей боли, кровавые многоточия венчают несокрытость строк, написанных человеком, вставшим у предела, который он долгое время не был в силах преодолеть. Лишь спустя пять лет после смерти Лауры Жорж Батай встречает Диану Кочубей, но от прежнего Батая приходится отказаться. Ещё через два года на свет рождается Дианус, — не просто очередной псевдоним Батая, а обретшее плоть и стиль двуликое alter ego (Дианус-Янус), сотканное из дионисийства Фридриха Ницше и
ГЛАВА 8
6000 футов по сторону человека и времени
Взглянуть на Диониса и не сойти с ума, дано немногим. Чаще всего смельчакам достаётся жребий Эврипила , легендарного предводителя фессалийских воинств. Вячеслав Иванов в своей работе «Ницше и Дионис» говорит, что в этом боге «жертва и жрец объединяются как тождество». Подобным же образом в фигуре Ацефала объединились смерть и жизнь, преступление и невинность. В создании нового мифа лежала идея преодоления раздвоенности, но ни Батай с его ацефалической жаждой отринуть Единое, ни Фридрих Ницше, не сумели достичь этого объединения. Однако, безусловно, что ницшеанский Заратустра, в отличие от Ацефала, стремился выйти за пределы добра и зла затем, чтоб обрести Единство. Анализируя письма Ницше, трудно не заметить, что философ часто вскользь упоминает о некоей высшей и тайной цели, ради которой он остаётся жить и готов преодолевать любые страдания.
Иной раз кажется, что он только для того и проговаривался своим адресатам, чтобы один из них вдруг поразил его тем, что знает, какую цель преследует Ницше. Жизнь его, «спрятанная под спуд», была подчинена единственной задаче, на которую философ мог лишь призрачно намекать речами об обязательном освобождении от всех цепей, за которым должно последовать освобождение даже от самого освобождения, упоминаниями об алхимическом фокусе и стремлении объединить все слабые и сильные стороны его натуры, разговорами о победе как о «превращении в золото и пользу высшей пробы» всего, что составляет суть его философии. Свою задачу Ницше ставил на неизмеримо более высокую ступень, чем учительство. Порой философ задумывался, не мог ли он уже выполнить свою задачу, написав «Заратустру», — этот Завет, в котором сущность мыслителя предстала во всей своей открытости, — та сущность, что будет обретена Ницше после того, как ниспадут все его маски. «В самом деле, драгоценный друг, — пишет он Францу Овербеку, — временами мне кажется, что я жил, работал и страдал именно для того, чтобы создать однажды эту маленькую книжечку в 7 листов, более того, что ею теперь, задним числом, оправдана вся моя жизнь. И даже на эту зиму, мучительнейшую из всех, смотрю я теперь другими глазами: как знать, не требовалось ли именно столько мучений для того, чтобы я сделал себе кровопускание, каким явилась эта книга?» Тому же Овербеку Ницше признавался, что лишь понимание этой важной цели вынуждает его жить дальше, справляясь с самыми тяжёлыми испытаниями. Бесцельность привела бы философа к единственному решению, на чём настаивал ещё мудрец Силен. Не быть.
Малейшие попытки свернуть с пути обходились Ницше слишком дорого. Часто его одолевали сомнения, достоин ли он возложенной на него цели, силы подрывались осложнениями его недугов; Ницше отдавал себе отчёт в том, что пока он далёк от своей Золотой Звезды, от того Заратустры, что был его истинным Я и ожидал прихода Сверхчеловека. Он также знал, что являет собой клубок змей и это заставляло философа ощущать свою совесть нечистой. Ницше признавался: «О тяжести задачи, которая на мне лежит, не имеет представления никто». Можно долго говорить о том, что пророк, мечтавший расколоть историю человечества надвое, был донельзя противоречив, и все заветы Заратустры были им если не нарушены, то точно проигнорированы, но разве мог он, будучи измучен постоянными болезнями («сильными из возможных средств для того, чтобы призвать меня к самому себе»), помышлять о том, чтобы «жить как Заратустра», когда повторяющиеся приступы приковывали его к постели на целые дни и вынуждали быть затворником? «Заратустру» он называл преддверием к
Печальны строки, которые можно прочесть в его «Утренней Заре»:
«Все эти отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды просто не смогут лететь дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу, — и притом будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Но кто посмеет заключить из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный путь, и что они залетели так далеко, как только можно залететь! Все наши великие учителя и предшественники останавливались в конце концов, а поза человека, остановившегося в изнеможении — не самая благородная и привлекательная; то же случится и со мной, и с тобой! Но что нам до этого? Другие птицы полетят дальше! Наше предчувствие и вера в них влечет нас за ними, возносится над нами и нашим бессилием в высоту, смотрит оттуда вдаль и предвидит стаи других птиц, более могучих, чем мы, которые будут стремиться туда же, куда стремились и мы, и где пока виднеется одно только море, море и море!
Но куда же мы стремимся? Или мы мечтаем перелететь через море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая нам дороже всех наших радостей? Отчего именно в этом направлении — туда, где до сих пор исчезали все светила человечества? Не скажут ли однажды и про нас, что мы тоже, направляясь на запад, надеялись достигнуть Индии, но что судьба обрекла нас на крушение в бесконечности? Или же, братья мои? Или?»
Ницше строил мост для других птиц, но однажды сам пошёл по нему. Дальнейшая судьба философа нам хорошо известна. Этот тот случай, когда внутренний сосуд лопается подобно стеклу от чрезмерного накала. Он, кто дерзнул покуситься на христианство, сознавал, что все муки, которые ему выпали, были необходимыми средствами «для того, чтобы призвать его к самому себе». Можно допустить смелое предположение, что свою задачу Ницше выполнил, именно поэтому в 1888 году, незадолго до наступления безумия (?), он написал, что «всё удалось, с самого начала — всё образует единство и хочет единства». Но не было единства внутри самого Ницше (вопреки его утверждению обратного). И финал был очевиден.
А что же Батай? Фактически, он отвергал саму идею единства, человек для него характеризовался, прежде всего, своей «разорванностью»; снятие конфликта, таким образом, попадало под категорию «нечеловеческого». Батай старался умозаключать, находясь «по ту сторону», но, обнаруживая противоположности, он, в отличие от одного из своих оппонентов, Андре Бретона, не примирял, а сталкивал их, вследствие чего гармония была невозможна. Стремление найти ту точку, в которой противоположности сходятся, Батай, ярый противник идеализма, объяснял тоской по утраченным идеалам. Напомним, что поводом к созданию общества «Ацефал» стала утрата мифа. Вновь вернёмся к мысли Карла Юнга: «Среди так называемых невротиков много таких, кому в другие эпохи невроз бы не грозил — то есть людей, страдающих раздвоенностью. Если бы они жили во времена и в среде, где человек всё ещё был соединён посредством мифа с миром предков, а через него с природой, по-настоящему переживаемой в опыте, а не просто наблюдаемой извне, они были бы избавлены от этой внутренней раздвоенности. Я говорю о тех, кто не способен выдержать утрату мифа. Эти жертвы психической раздвоенности нашего времени являются лишь «факультативными» невротиками; внешние признаки болезни исчезают вместе с исчезновением пропасти, отделяющей их «я» от бессознательного». Тем любопытнее становится замысел Жоржа Батая. Занявшись созданием нового мифа, который, как теперь известно, избавил бы от психической раздвоенности, послужив своего рода мостом между «я» и бессознательным, «папа» Ацефала всячески открещивается от возможности снятия конфликта, упорствуя в том, что человек есть «разорванность». В этом его отличие от Ницше, который сознательно стремился к единству. Эта идея красной нитью проходит через все его письма и труды, и даже, как любят замечать исследователи, его противоречивость ни в коей мере этой идеи не опровергает. «Я противоречу и, несмотря на это, я — противоположность духа отрицания…», — писал Ницше. Батай указывал, что Ницше пытался разрешить сложную проблематику home entire, целостного человека, тотального человека. Для Батая шаг к нему означал безумие. «Осознание тотальности — это для меня прежде всего отчаяние и кризис». Достижение тотальности в состоянии человеческого бытия было неразрывно связано у Батая с «громадным, комическим, мучительным потрясением…потрясением во всех смыслах».
Философ переоценки всех ценностей сравнивал свой труд «Так говорил Заратустра» с проломом в будущее. Он не просто никогда не тешил себя иллюзией, что книгу поймут и оценят, напротив, Ницше нередко высказывал своё пожелание быть понятым превратно, но, не удивляясь ложным толкованиям своих идей, он, тем не менее, приходил в дурное расположение духа, когда тот или иной человек извращал его понятия. В особенности это касалось «сверхчеловека», и мы позволим себе процитировать несколько строк из письма к Мальвиде фон Мейзенбург (20 октября 1888 г.): «…всякий серьёзный читатель моих произведений должен знать, что тип человека, который не вызовет у меня отвращения — это как раз противоположность добрым кумирам прошлого, во сто крат ближе типу Цезаря Борджиа, чем Христа». Ницше был вынужден обрывать связи с людьми, находящимися в заблуждении относительно того, кто он есть. «Заратустра» стоил ему дорого: полная изоляция и одиночество, обреченность на непонимание и нападки, состояние постоянного нервного истощения и, как следствие, постоянные телесные муки. Ницше понимал, что, создавая нечто бессмертное, можно погибнуть, но даже если этого не происходит, предстоит суровая расплата. Четыре года ушло у него на создание «Заратустры». Ницше сочинял его во время прогулок, находясь в состоянии божественного вдохновения, «как если б каждая фраза была громко и явственно продиктована». Вдумаемся в эти строки: «…я бежал прочь в горы, и там, в маленькой лесной деревушке, возник первый набросок — примерно треть моей книги, тогда ещё носившей заглавие «Лемех» . Затем по просьбе моей сестры я возвратился в Байройт, но теперь я уже владел собой, чтобы выносить трудно выносимое — молча, не открываясь никому! Сейчас я отряхиваю с себя всё, что не имеет ко мне отношения: людей — как друзей, так и врагов, — привычки, удобства, книги; я буду жить в одиночестве многие годы, покуда снова, как философ жизни, созревший и устоявшийся, не буду иметь права вступить в круг людей», — пишет Ницше в июле 1878 года Матильде Майер. Не напоминает ли это первую главу книги «Так говорил Заратустра»? Через 10 лет пророк покинул горы и спустился к людям, чтобы учить их о сверхчеловеке. Многих вводят в заблуждение его слова о верности земле. Крайний аскетизм, заставляющий пренебрегать земным в пользу духовного, ведёт к половинчатости, — вот против чего восставал Заратустра. Его орёл и змея есть союз, символ единства воздуха и земли, духа и материи, неявленного света и неявленной тьмы. Жорж Батай проникновенно писал о Ницше, что тому так и не удалось найти «души достаточно глубокой», и обращался к словам немецкого философа: «Встреча лицом к лицу с великой мыслью невыносима. Я ищу и зову людей, которым я мог бы передать эту мысль так, чтобы они не умерли».
Когда Ницше завершил работу над книгой «Так говорил Заратустра», островок Искьи, расположенный недалеко от Неаполя, пострадал от землетрясения; Искья — те самые «блаженные острова», которые можно найти во второй части книги. По завершении первой части скончался Рихард Вагнер.
Отвечая на вопрос «кто такой Заратустра у Ницше?», Мартин Хайдеггер прибегает к определениям «оратор», «защитник» (Fursprecher, заступник), тот, кто держит слово перед
Заратустра не есть тот, кто грядёт. Заратустра — тот, кто прейдёт, успокоится в смерти, как бог, что умер от своего сострадания к людям.
Заратустра ещё недостаточно жесток и героичен, чтобы стать воплощением «доброй воли к абсолютному самоуничтожению».
Заратустра («дионисийское чудовище») ещё недостаточно дьявол, чтобы становиться богом.
Заратустра — учитель вечного возвращения (как становящийся), но не носитель сакрального знания бога Силена, иначе бы его сентенции выжигали существование, а не оправдывали. Он учит о Сверхчеловеке, но сам им не становится. Его философская миссия — в другом.
В черновиках 1883 г. Ницше пишет: «О, Заратустра, защитник жизни! Ты должен быть и защитником страдания! Я не могу освободить тебя от ада; преисподняя должна восстать против тебя, а тени — свидетельствовать: «жизнь — это пытка».
Заратустра не просто оправдывает существование, но называет высшей волей к власти придание становлению характера бытия.
Устами Заратустры говорит не философ Ницше, а сам Дионис, возвещая о своем триумфальном возвращении. Он пожелал бы быть окруженным не менадами (“Я обращаюсь к мужчинам, говорил Заратустра, — прикажите женщинам уйти”), чья одержимость богом начинается с животного разрыва и завершается сакральным богоубийством, — зов Диониса собирает только его преданных жрецов, увитых змеями темного Логоса, отмеченных орлиной отвагой философской мысли — высших людей, презревших «последнего человека”. Пока безмолвствовал Дельфийский оракул, око Заратустры открылось для вакхических прорицаний. Уста его разомкнуты. “Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему”. Так говорит…Дионис. Перед огненным ликом дневного светила, перед взором своего божественного брата темный бог тревожит уста молчавшего десять лет жреца. Прежде чем снизойти к людям, Заратустра, полный мудрости, словно “чаша, готовая пролиться”, просит благословения у Солнца. Готовый изливаться и одаривать, он принимает свой закат, ибо “хочет опять стать человеком”. Заратустра? Нет, философ Дионис, становящийся Заратустрой, des dionysischen Unholds — в новой игре божественных превращений.
Он нисходит к людям и несет свой великий дар — учение о сверхчеловеке. “Я люблю людей”, — отвечает Заратустра первому, кого он повстречает на своем пути, старцу, любящему не людей, а бога (“любовь к человеку убила бы меня”). Это дионисийская любовь Дарящего, чей дар сокрыт в “детях неба и земли” как частица растерзанного титанами бога. Заратустра удивлен тому, что старец еще не знает, что бог умер. Явившись на базарную площадь, он видит толпу народа, которая собралась посмотреть на канатного плясуна. Там, в этой гуще зевак, в этой клоаке торжествующего невежества, Заратустра станет учить о сверхчеловеке: “Человек есть то, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?” Заратустра учит о Логосе, что как молния лизнет своим смертоносным языком человека; и этот Логос есть сам Дионис, который грядет не как бог, но как сверхчеловек, ибо в мире, где бог мертв, никто более не поверит в его воскрешение. Устав от добра своего и зла своего, Заратустра пророчит приход “дионисийского чудовища”.
Его приход есть свершение гибели “последнего человека”, принесенногов жертву земле. “Последний человек”, словами Заратустры, самое презренное существо, чье время наступает. Это время, когда человек больше не родит танцующей звезды из хаоса, который он в себе носит. Род самого презренного существа “неистребим, как земляная блоха: последний человек живет дольше всех”. В мире последнего человека не будет пастырей, останутся лишь стада. Всеобщее равенство, которое утвердит последний человек, сделает сон стада вечным.
Мы увидим шествие
монахов в серых каменных саванах, испытавших запрет и уединение,
шутов, чьи колпаки объяты пламенем последней шутки о человеке,
повешенных, что прячут эрегированные члены в незаживающие раны соблазнов,
слепых с потрескавшейся пергаментной кожей, по которой можно прочесть обо всём, что они не увидели,
писателей, забывших, что писать нужно собственной кровью,
а с ними — поэтов, свергнутых за то, что писали они лишь слюной и млеком.
Заратустра думал, что говорит к пастухам, но на базарной площади внимал ему лишь скот. Он ожидал найти уши, но встретил только щелкающие языки. Учитель и провозвестник должен обращать свои речи не к народу, а к своим последователям, — эту мудрость постиг Заратустра после того, как взвалил на свои плечи холодный труп канатного плясуна. Созидающий ищет созидающих, “тех, что пишут новые ценности на новых скрижалях”. Больными и умирающими называет Заратустра тех, кто презирают тело и землю, пряча голову “в песок небесных вещей”; не изведавшие опасности, не закаленные страданием, они спешат спастись в “иных мирах”; отвергающие вызовы времени, ищущие лишь покоя, уюта и утешения, они никогда не познают, что такое быть “свободным к смерти и свободным в смерти”. “Пусть будут они выздоравливающими и преодолевающими, — говорит Заратустра, — и пусть создадут себе высшее тело”. Они, последние люди, не знают ни верха, ни низа. Тело есть “большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь”, божественное тело Диониса, растерзанного титанами, — бога, настигнувшего смерть, сказавшего победоносное “Да” великой жертве во имя Приходящего Вновь. “Мы не должны выводить себя сами [из тела], поскольку тело наше дионисийское; мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти Титанов, вкусивших его плоти”, — учил Олимпиадор. Заратустра ищет преемников, наследников своей наступающей грозной мудрости, призывая их к войне: “ведите…войну за свои мысли!”, “я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе”. В главе “О свободной смерти” он обнажает не только мудрость Диониса, но и мудрость Силена, чей ответ царю Мидасу прозвучал как приговор “лишним людям”. Да, именно лишним людям Заратустра велит “лучше никогда не родиться”.
…и пришёл седьмой человек в полночь и сказал Им, что мира нет,
и вороны клюют последнюю волю господню.
Умер Бог — Пастухи загнаны в стада, а стада — в стойла.
Поднялись Они, сумма души и плоти, и воскликнули: «Временно!»
Сошёл с ума последний визитёр и Хронос опустил руку свою.
Трижды переглянулись они, разомкнув уста, четырьмя руками своими замесили они тесто семью на семь, и возникла твердь там, где слёзы богов были шагами человека.
Ацефал открыл своё единственное око, горло его закровоточило и появилось новое солнце. Мёртвое же — остыло в луну, напоило союзника своего нектаром забвения.
С тех пор ни один из вас не помнит, как он пришёл сюда и зачем.
И только Они всё ещё кричат о временном и это доносит до вас благую весть о вечном.
Пастухи загнаны в стада, а стада — в стойла.
Приходят стаи!
Время Великого Полдня!
Своим наследникам бросает Заратустра золотой мяч, принимая от них священный посох, “на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца”. Священный эгоизм его наследников — в неуемной жажде вобрать в себя как можно больше богатств души, ибо они — дарящие, расточающие и приносящие себя в жертву. Им чужд эгоизм больных, что насыщаются лишь для того, чтоб успокоить свой голодающий желудок; сей эгоизм в полной мере присущ лишним людям, берущим, но никогда не одаривающим. Эгоизм больных всегда свидетельствует о вырождении. “Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужас для нас — вырождающееся чувство, которое говорит: “Все для меня”. Заратустра любит свои учеников, своих наследников, Заратустра любит людей, но лишь тех, кто готовы для нового Полдня.
“Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути
между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.
И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он
переходящий; и солнце его познания будет стоять у него на
полдне.
"Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил
сверхчеловек" — такова должна быть в великий полдень наша
последняя воля!”
Заратустра любит в них — переходящих мост, называемый человеком — героическое величие и стремление к абсолютной гибели (“мужество потерять себя”). Он любит в них, зараженных его безумием, верность земле и грядущему царству сверхчеловека. Он любит в них, избравших самих себя, ответственность высших людей.
Познан ли Ницше, понят, угадан, или маски, под которыми он обречён был появляться, настолько срослись с ним, что до сих пор истинная суть этого мыслителя остаётся сокрытой? В «Ecce Homo» Ницше сбрасывал свои маски и намеревался предстать перед читателями тем, кем он всегда был. Эта книга появилась в 1888 году. Начиная с 1889 года Ницше подписывается в своих письмах как Распятый или Дионис, возвещая, что Бог вернулся на землю, и это даёт его знакомым веский повод заподозрить помешательство. Но так ли оно было на самом деле? Если отбросить все беспокойные и, надо сказать, очевидные реплики всех, кто навещал его в психиатрической лечебнице Бинсвангера, нельзя ли рассмотреть ситуацию иным образом? Тем более что Кезелиц дважды указывал на ясное мышление Ницше, которое едва ли стало бы соседствовать с полным распадом личности, увиденным эмоциональным Овербеном. Самое время привести выдержки из двух писем Кезелица: «Насколько ясно мыслит Ницше, следует из того, что он продемонстрировал доктору Лангбену математически доказуемый тезис о бесконечном повторении всех стадий развития вселенной и вообще абсолютно сознательным образом обсуждал с ним все свои проблемы» и, наконец, более важные слова: «Я видел Ницше в таких состояниях, когда мне с жутковатой отчётливостью казалось, будто он симулирует безумие». Что, собственно, наводило такой ужас на обывателей, как не ницшеанское шутовство? Неужели забыли все его адресаты, что Ницше, всю свою жизнь скрывался под масками и не обманул ли он на этот раз весь мир? Он умел отрекаться. Даже от свободы, даже от самого себя. «После того как ты меня открыл, найти меня было не чудом; трудность теперь в том, чтобы меня потерять», — как невнимательны были к его словам люди. Человек, признающийся в том, что он есть Будда и Дионис, Александр и Цезарь, лорд Бэкон и Вольтер, Наполеон и Распятый, человек, который поёт и громко смеётся, — разве не постиг он coniunctio oppositorum, разве не стал живым доказательством принципа «Всё во Всём», разве не взошёл он на ту ступень, откуда более нет различия между Дионисом и Распятым? «Я — Бог, нарисовавший сам на себя карикатуру», — может быть, с этих слов и началось рождение Ацефала? Не открывает ли Ницше загадку в словах «Порой само безумие является маской, за которой скрывается роковое и слишком надёжное знание»?
Мы — два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!
Мы — два коня, чьи держит удила
Одна рука,- язвит их шпора;
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.
Мы — двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почиет Красота.
Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единой оба.
Мы — две руки единого креста.
Вяч. Иванов
Об отождествлении Христа с Дионисом говорилось в разное время и, надо заметить, не мало. На рисунке мы видим Диониса, вырастающего из дерева (вспомним уже упоминаемый мотив «человек-дерево», возникавший в ранних рисунках Андре Массона). Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что бог на нём распят. Это так называемый тирс Диониса в виде палки, увитой виноградом и плющом. Сам же Ницше был склонен подчёркивать антихристианский характер дионисического начала. В труде «Рождение трагедии из духа музыки» он пишет: «…против морали обратился тогда, с этой сомнительной книгой, мой инстинкт, как заступнический инстинкт жизни, и изобрёл себе в корне противоположное учение и противоположную оценку жизни, чисто артистическую, антихристианскую. Как назвать её? Как филолог и человек слов, я окрестил её — не без некоторой вольности, ибо кто может знать действительное имя Антихриста? — именем одного из греческих богов: я назвал её дионисической».
Приблизившись к той точке, в которой сходятся противоположности, где корень бытия перестаёт быть раздвоенным, Ницше уподобился верховному богу Одину, который, пригвоздив себя копьём к мировому древу, приобщился к высшей мудрости. Мишель Фуко писал, что его «опыт безумия стоит ближе всего к абсолютному знанию» и, думается нам, он оказался одним из немногих, кто ухватил самую суть.
В январе 1889 Ницше писал Козиме Вагнер, называя её своей возлюбленной Ариадной, следующее:
«Это предрассудок, будто бы я человек. Но я уже не раз жил среди людей и знаю всё, что может выпасть людям. Среди индусов я был Буддой, а Греции — Дионисом, Александр и Цезарь — также мои инкарнации, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Наконец, я был ещё Вольтером и Наполеоном, может быть, также Рихардом Вагнером…В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает Землю праздником…Не сказать, чтобы у меня было много времени…Небеса радуются, что я здесь…А ещё я висел на кресте…»
В письмах к другим людям Ницше называл себя Богом, вступившим во владение своим царством, он утверждал, что является создателем мира. Философ отождествлял себя с каждой исторической фигурой; лишенный индивидуального начала, он проживал тысячи жизней, примерял тысячи имён. Он был всем, что уходило и возвращалось вновь.
«Боги мой ум на совете наполнили мрачною смутой (ate)» — это слова одного из героев Гомера. Мрачная смута, или по-гречески Ate (Ате) имеет значение беды, несчастья, ослепления. Персонификацией Ате является богиня древнегреческой мифологии Ата, помрачающая ум. «Страшная, нежны стопы у неё: не касается ими/Праха земного», — так пишет о ней Гомер. Эрик Робертсон Доддс, автор книги «Греки и иррациональное», описывает ate как особое состояние психики: частичное или временное помешательство, помрачение сознания. Как правило, это состояние вызывается неким внешним «демоническим» актором. Доддс называет это «психическим вторжением». У Гомера мы находим трёх таких акторов, а именно: Зевса, мойру, а также Эринию, что бродит во мраке. Насылаемое ими ate не являлось наказанием за тот или иной проступок; как утверждает Доддс, понятие вины и наказания относится к довольно поздним теориям (пресократики не знали «культуры вины»).
Другим видом «психического вторжения», находимым у Гомера, является menos (греч. мощь, сила). Это состояние сознания, при котором человек «чувствует в груди menos или внутри у него словно переворачивается сердце…он ощущает таинственный прилив энергии; жизнь в нём обретает прочность, и сам он наполняется чувством устремлённости и порыва к новому». Порой menos описывается как «всепожирающаясила огня». Menos не имеет ничего общего с обычным состоянием сознания, — это абсолютно внечеловеческий и анормальный опыт, на время превращающий того, кто его проживает, в существо с другим онтологическим статусом. Доддс сообщает, что в 15 песне «Илиады» состояние одержимости menos представлено как превращение Гектора в своего рода берсерка.
В древнегреческом мире человек представлял собой лишь игрушку неких сил, находясь в состоянии полного подчинения и фундаментальной беспомощности. Как было сказано выше, изначально вопрос о вине и наказании даже не был поставлен. В таком случае, возникает вопрос: по какой же причине зло, вторгаясь в чувственный мир, спешило вовлечь человека в гибельный танец, вплести его экзистенциальные нити в изломанный узор непобедимой агонии?
В своих трагедиях Эсхил касался самой опасной и самой замалчиваемой темы — зависти богов («Давно среди смертных живёт молва, будто бедою чревато счастье и умереть не дано ему, пока невзгодой не разродится»). Ему вторит Доддс: «Истина состоит в том, что боги противятся любому успеху, любому счастью, которые могут хотя бы на миг возвысить наше бренное существование над статусом смертных существ, и, таким образом, позволить нам вторгнуться в сферу их безраздельного господства» . Наше стремление знать, наше желание превзойти человека есть вызов, брошенный богам, не допускающим, чтобы мы «стали как одни из них». Ницше, постулировавший преодоление человека как моста, но не цели, был ввергнут богами в безумие (безумие ли?).
В «Герметической традиции» Юлиус Эвола прямо пишет о том, что боги никогда не были заинтересованы в том, чтобы человек достиг бессмертия (сей постулат был известен всем герметикам). Не были ли изгнаны первые люди из Рая от того, что, вкусив плод от Древа, они увидели свои «кожаные» одежды и устыдились, что их свет сокрыт в «футляре» лжи и подлинным их даром является божественное бессмертие? В этом случае Иблис лишь сделал их зрячими, но уж никак не проклятыми. Описывая суфийский взгляд на грехопадение, Уильям Читтик напоминает, что в Коране «ясно говорится, что Бог сотворил Адама, потому что хотел поставить наместника на земле. Адам не смог бы стать наместником, если бы остался в раю», Читтик приводит фрагмент из Сам`ани: «Адама привели из рая в этот мир не
Жорж Батай не только считал себя единственным человеком, в котором воплотилась мысль Ницше, но и доходил до полного отождествления с немецким философом. В своей самой личной книге «Внутренний опыт» Батай пишет, что по пути своего внутреннего опыта (а в понимании автора этот опыт есть опыт мистический) Ницше «шёл, влекомый лишь вдохновением и нерешительностью», с чем мы не можем согласиться, и парируем: «Ницше шёл, влекомый высшей задачей — подготовить человечеству, говоря его собственными словами, момент высшего самосознания, или Великий Полдень». Если для Батая человек характеризовался, как уже было отмечено, своей «разорванностью» и был в равной степени как несовершенным, так и незавершённым, плюс ко всему не имеющим возможности перестать быть только человеком, то для взора философа переоценки всех ценностей не было ничего более ужасного, чем «видеть человека раскромсанным и разбросанным», о чём говорил Заратустра, сравнивая людей, которых он всюду встречал, с обломками и частями человека. Но для него человек был мостом. Ницше даже в этих обломках видел будущее, и потому его Заратустра обращается к тем, кто ещё не бесплоден, кто носит в себе ещё частицу хаоса и способен родить танцующую звезду — сверхчеловека. Там, где Ницше видел сияние и возможность, Батай зрел лишь тупик. «Быть всего лишь человеком, не иметь никакой иной возможности — вот что душит, вот что переполняет тяжким неведением, вот что нестерпимее всего», — вступая в ночь незнания, движимый одним только экстазом, не имея ни дороги, ни цели, Батай постигает, что человек «призван быть безответным самонаказанием». Трагедией мыслителя стало то, что он не мог видеть дальше человека, как делал это Фридрих Ницше. Причина отчаяния Батая заключалась в том, что, отправившись в путешествие на край возможного, он заведомо ограничил человека, не оставляя ему шанс себя превзойти. Весь «Внутренний опыт» повествует об этом отчаянии. Батай много цитирует Ницше и даже с проницательностью замечает, что немецкий философ «первым достигнул бездны и погиб в победе над ней». Ацефал был казнён. Казнён, ибо встретился с божественным. Батай уверен в том, что подобный опыт сродни казни.
«Внутренний опыт» — это крик того, кто заблудился в лабиринте безглавого бога и столкнулся с невозможным. Батай считал, что нельзя дойти до края бытия в одиночку, и на протяжении всей своей жизни он тяготел к сообществам. Ницше, напротив, известен как отшельник. И каждый из них дошёл до края, но постиг при этом разное: Батай — отчаяние и тягостную немощь, Ницше — что «вершина и пропасть — слились воедино». Что сказала бы Тишина, заговори она с Батаем, как
Заратустра говорил, что грядёт великое, далёкое Царство Человека, и продлится оно тысячу лет. Не Сверхчеловека ещё это Царство, но Царство Заратустры. Всем известно, о «тысячелетнем царствии Христа», однако как часто можно встретить слова о том, что Ницше, ожидая Сверхчеловека, готовил трон Сатане. Знал Заратустра, что люди примут его сверхчеловека за дьявола: «Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! В том сомнение моё в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом! Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей доброте…» Сверхчеловек будет принят за дьявола, и, словно воплощая худшие опасения Ницше, Массон позволяет Ацефалу обрести образ чудовища, монстра, внушающего ужас своей обезглавленной чистотой.
Основной концепцией произведения «Так говорил Заратустра» нужно считать мысль о вечном возвращении. Разве не это имел в виду созидатель и разрушитель Заратустра, предвещая приход Сверхчеловека? Всё случится ещё раз, но там, где разбиты старые скрижали, напишутся новые. «Я должен был оказать честь Заратустре, персу: персы сначала мыслили историю как нечто целостное и великое. Чередование этапов развития, во главе каждого из них — пророк. У каждого пророка своя nazar (перс. тысяча), своё тысячелетнее царство», — пишет Ницше в дневнике 1884 г. Этот же дневник полон признаний, что в своих книгах философ неизменно обращается к ещё не появившемуся виду людей, а именно к «властителям земли». К ним, разумеется, взывает и его сын Заратустра, пророча, что земные владыки («господствующая раса») заменят бога. Может возникнуть вопрос о допустимости такой замены, на что мы ответим: в мире, где «бог умер», иными словами, в мире, превратившемся в пустыню, в десакрализованное пространство, на место бога встают иные могущества, что установят строгий ранговый порядок (пока на их месте титаны, но близится воинство третьего Диониса, приближение которого будет означать низвержение правящих). Заратустра предстаёт как первый отшельник, не возносящий молитв. Однако через ад Заратустры не проходил ни один святой. Он ничего не просит у Бога. Он ждёт, когда явится сверхчеловек, ибо час его прихода настал, — «опаснейшая середина» между временем, когда можно придти к последнему человеку и временем смерти бога. Это состояние мира, которое Зигмунт Бауман называет «inter regnum», или «междуцарствием». Речь не идёт о линейном времени. Скорее, здесь уместно сочетание — «вертикальное время». Время, когда уже явлены скрытые короли, но ещё нет высшего человека. В дневниках 1884-85 гг. мы, прежде всего, должны обратить внимание на две глубочайших философемы: возвращается не только человек, но и сверхчеловек (однако целью является не человечество, а исключительно сверхчеловек, которого ждёт Заратустра); и: Заратустра должен прийти — или на земле всё пропало.
В целом записи в дневнике 1884-85 гг. отличает крайняя степень сакральной жестокости, уставшей от сокрытия в бесчисленных намёках. Немецкий философ знал, что способен превзойти Макиавелли. Он призывает к созданию касты господ, «людей обширнейшей души», которые будут править землёй, сочетая в себе все отдельные человеческие способности. Злая мудрость Заратустры, доставшаяся ему в наследство от Силена, учителя Диониса, и отца своего, Фридриха Ницше, являет собой оформленное учение, задача которого — придать силу сильным, и уничтожить слабых, не способных воспринять и пережить истину персидского пророка. Откровенным тоном Ницше заявляет, что не считается с количеством, ибо масса и уставшие от жизни его совершенно не занимают: «Я интересуюсь первыми и самыми удачными экземплярами — и чтобы они ни в чём не ущемлялись ради неудавшихся (т.е. массы)». Далее он продолжает: «Уничтожение неудавшихся: для этого необходимо эмансипироваться от прежней морали». Его властители, грядущие сверхлюди, стоят над законом, — они есть те, один лишь вид которых оправдывает бытие. Уставших от жизни он приказывает «вытолкнуть, осыпать презрением или заключить в сумасшедшие дома, подтолкнуть их к отчаянию». Полагая, что подавляющее большинство людей не имеют никакого права на существование, Ницше была ненавистна сама идея равенства. «Я позволяю философствовать о жизни только удавшимся людям. Но есть неудавшиеся люди и народы; им нужно заткнуть глотку», — пишет Ницше, приготовившись к негодованию целых поколений, где любой намёк на элитарность и иерархическое устройство будет встречать вполне ожидаемый шум разъярённой толпы. Трудно не согласиться с Платоном, отказавшим толпе в философии. Смелее — у Ницше: боги тоже философствуют, — например, Дионис. Интересно, что Батай, указывая на почти общепринятое восприятие Ницше как философа воли, сам склоняется к мысли, что он был философом зла. В черновиках 1885-1886 гг. Ницше пишет, что «высшее добро и высшее зло тождественны».
Заратустра есть единство противоположностей: «самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из единого источника». Царство Христа, как Царство Заратустры, продлится тысячу лет, и оба они сказали: «Царство моё не от мира сего». Сверхчеловек должен был прийти к Заратустре, дабы порождено было Единство. Не потому ли Ницше подписывался как
Смех сыграл особую роль и в судьбе Жоржа Батая. Напомним, что в годы своей юности он бежал от жизненных трудностей в религиозную веру и после службы в армии даже намеревался поступать в семинарию, но впоследствии его планам суждено было измениться — Батай поступил в парижскую Школу Хартий. После её окончания, он начинает служить в Национальной Библиотеке, посвятив ей 20 лет своей жизни. Знакомство с Анри Бергсоном и его книгой «Смех» послужило причиной отхода Жоржа Батая от христианской веры. «В Евангелии никто не смеётся», — напишет Батай, со смехом прощаясь с былой серьёзностью послушника. Батай — тот, кто входит в лабиринт. Прошедший лабиринт, вступает на мост, ведущий к сверхчеловеку, — от вечных сумерек к Великому Полдню идёт он, провозглашая: «Человек есть то, что я превзошёл».
ГЛАВА 9
Ницше глазами Делеза: философия силы
Жиль Делёз начинает свой труд «Ницше и философия» с тезиса: цель Фридриха Ницше заключалась в том, чтобы ввести в философию понятия смысла и ценностей. При этом Делёз подчёркивает, что философия смысла и ценностей есть не что иное, как тотальная критика. Ницше постулирует переоценку всех ценностей, иначе говоря, «философствует молотом», абсолютно игнорируя связку «причина-следствие», таким же образом поступая и с «видимостью-сущностью», сосредоточив всё внимание на феномене и смысле. Для того чтобы обнаружить смысл того или иного феномена, мы должны прийти к строгому определению того, какая сила им овладела. «Всякая сила есть присвоение, подчинение, использование определённого количества действительности» , — пишет Делёз. По его мнению, история всякой вещи, всякого сущего представляет собой последовательность овладевающих ими сил (но также: сил, борющихся за обладание ими). Сущее присвоено, а значит одержимо. От характера одержимости, от природы овладевшей им силы зависит смысл, которым оно наделяется. Смысл есть множество и многоликость. Таким образом, interpretatio становится подлинно философским искусством. Заметим, что Делёз не даёт чёткого определения, что есть сила; нам известно лишь то, что она присваивает, подчиняет и использует. Философ предостерегает нас от смешения силы и воли: первая есть могущее, в то время как вторая — волящее. «И если мы спрашиваем, кто интерпретирует, то нашим ответом будет: воля к власти; интерпретирует именно воля к власти» . Кроме того, что она интерпретирует, воля также — оценивает.
Говоря о силе, мы должны различать силы активные и силы реактивные. Активные силы Делез называет высшими, властвующими, но отмечает, что «низшие силы могут одержать над ними верх, не переставая быть низшими по количеству, реактивными по качеству, рабскими по способу существования», — и приводит изречение из труда «Воля к власти», которое звучит как: «всегда следует защищать сильных от слабых».
Делёз даёт следующие характеристики активных и реактивных сил.
Реактивная сила:
— Сила полезности, приспособления и частичного ограничения;
— Сила, отделяющая активную силу от её возможностей и отрицающая активную силу (триумф слабых и рабов);
— Сила, отделённая от собственных возможностей, отрицающая саму себя или против самой себя обращающаяся (царство слабых и рабов).
Активная сила:
— Сила пластическая, властвующая и подчиняющая;
— Сила, идущая до предела собственных возможностей (Батай был одержан этой силой);
— Сила, утверждающая своё различие и превращающая его в объект наслаждения и утверждения.
Тотальная критика (или философствование молотом) не реактивна; напротив, тотальная критика — это «активное выражение активного способа существования: нападение — но не месть, естественная агрессивность определённого способа бытия, божественная злость, без которой невозможно было бы представить себе совершенство». Активная сила всегда доходит до крайних последствий своей деятельности. Реактивная сила, воздействуя на неё, способна отделить активную силу от её возможностей, вслед за чем она также становится реактивной. Обратный процесс невозможен: реактивная сила, доходя до предела своих возможностей, всегда остаётся только реактивной силой, поскольку «чтобы стать активной, силе недостаточно достижения собственных возможностей — она должна ещё и превратить свои возможности в объект утверждения». Реактивные силы есть то, что сталкивает активные силы с метафизической задержкой, с «всё ещё не», их функция заключается в сдерживании, в конструировании помех. Активные силы, напротив, всегда ускоряют, «взрывают сотворенное».
Делёз указывает, что философия Ницше останется для нас закрытой до тех пор, пока мы не примем её сущностный плюрализм. Провозглашённая Ницше смерть Бога — это событие с множеством смыслов, считает Делез. Не

Искусство интерпретации невозможно без учёта того, что «у вещи столько смыслов, сколько существует сил, способных ею завладеть». Интерпретация всегда плюралистична. При этом сущее позволяет овладеть собой лишь эйдетически близкой ему силе. Следовательно, мы близки к выводу, что ни один объект не может оказаться во власти силы, радикально ему чуждой. Однако имеется ли возможность для некоей силы овладеть тем или иным объектом, если дистанция между ними достаточно велика? Делёз даёт ответ: «Новая сила может возникнуть и присвоить объект, лишь с самого начала надев маску предшествовавших, прежде уже владевших им сил». Согласно Делезу, жизнь возможна только потому, что она с самого начала стала подражать материи. «Никакая сила не смогла бы уцелеть в борьбе, если бы не заимствовала облик предшествующих ей сил, с которыми она борется. Потому-то философ способен родиться и возмужать лишь при условии, что он овладеет созерцательной внешностью жреца, аскета и монаха, господствовавшего над миром до его, философа, появления». Над нами довлеет шаблон, которому мы слепо подражаем и в мысли, и в действии. Танцующий философ, философ злой мудрости и весёлой науки стал трудно представимым, и на фоне серьёзных седовласых мудрецов выглядит он, по меньшей мере, причудливо. Делёз сетует на то, что по мере своего роста, философия так и не попыталась сбросить с себя аскетическую маску. Для интерпретатора наиболее сложным является проникновение за эту маску. «Кто и почему маскируется?» — главные вопросы, задаваемые Делёзом.
Объект — не только то, что одержимо силой (и, в соответствии с природой этой силы, обретающее смысл), но и сам есть выражение некой силы. Именно родство между двумя этими силами определяет характер отношений субъекта и силы, желающей им овладеть. Делёз утверждает, что ницшеанская сила всегда соотносится с другой силой, и в этом аспекте сила определяется как воля. Воля к власти. Таким образом, она может осуществиться (воля предписывающая) только в другой воле (воля повинующаяся). Согласно Ницше, воля никогда не оказывает воздействия на материю. Только на другую волю. Философия воли всегда (без исключений) подразумевает иерархию.
Философия, считает Делёз, должна освободиться от маски аскета (и здесь он сближается с Жоржем Батаем) и всех форм нигилизма. «Мы издавна мыслили только в терминах злопамятности и нечистой совести. — Пишет он. — У нас не было другого идеала, кроме аскетического. Познание мы противопоставляли жизни, чтобы предавать жизнь суду, превращать её в нечто виновное, несущее ответственность и ошибочное. Мы превратили волю в нечто дурное, поражённое изначальным противоречием: мы говорим, что её нужно очистить, обуздать, ограничить и даже подавить, устранить». Философ сбросит маску аскета, лишь предавшись Дионису. В «Происхождении трагедии» Ницше представляет Диониса как бога утверждающего, бога не искупающего и не оправдывающего жизнь, а приходящего к её утверждению («Бог, для которого жизнь не нуждается в оправданиях»). Дионис утверждает, а значит сила его никогда не реактивна. Дионисийская сила есть чистая активность и чистая трагедия.
С точки зрения Диониса, полагает Делез, «существование само по себе выглядит достаточно святым, чтобы его нужно было оправдывать умножением безмерных страданий». По Ницше, радость трагична, а трагедия — радостна. Немецкий мыслитель откровенно признавался, что постиг трагическое так, как этого не смогли сделать сами греки. Для философа дионисийского существование не греховно, не преступно и радикально невинно. Становление не нуждается в искуплении. И, тем не менее, оно омерзительно, если мы примем утверждение, что вечное возвращение есть, кроме всего прочего, возвращение человека нигилистического; отсюда ницшеанское удушающее отвращение к человеку («Увы! Человек так и будет вечно возвращаться…А вечное возвращение даже самого маленького из людей стало для меня причиной утомлённости от всякого существования! Увы! Отвращение, отвращение, отвращение!») Из этой усталости рождается призыв к сверхчеловеку и его ожидание. Из этой усталости рождается и взывание к злой мудрости Силена с его насмешливым приговором человеку: «не родиться вовсе, не быть». Но маленький человек, человек как реактивная сила (реакция земли) не возвращается, заключает Делёз. «Речь идёт о том, чтобы благодаря вечному возвращению ввести в бытие то, что не может в него войти, не изменяя своей природы». Делёз открыто говорит об избирательном бытии, о новом (сверхчеловеческом) типе бытия, затрагивая тонкие и опасные вопросы философии. Тем поразительнее его неожиданное заявление: «Всё это следует воспринимать как простое описание текстов». Делез приоткрывает тайну Ницше, заявляя, что вечное возвращение является избирательным. Человек реактивный, маленький человек, никогда не возвращается; вечное возвращение подразумевает избирательное бытие, поэтому человек проходит преображение и возвращается как сын Диониса и Ариадны — как Сверхчеловек. Весьма сомнительное убеждение Делеза не находит никаких оснований в философии Ницше и является скорее одной из истинно делёзовских интерпретаций, минующих самого Ницше или, что уже более интересно, вступающих с ним в спор. Ницше называл учение о вечном возвращении мыслью «о безусловном и бесконечном повторяющемся круговороте всех вещей». Тем не менее, такая интерпретация не может не показаться заслуживающей внимания.
Трагический вопрос. Чрезвычайно важным является искусство правильно задавать вопросы. Начинать следует с «кто?». Всегда только с «кто?». Не «что есть прекрасное?», а «кто прекрасен?», не «что есть справедливое?», а «кто справедлив?» и т.д. Делёз утверждает, что подобная постановка вопроса — единственный способ для нас добраться до самой сущности, а значит — смысла и ценности вещи. Вопрос «кто?» вскрывает, какие силы овладели вещью, и какова та воля, что ей овладела. Лишь после того, как мы получим ответ, мы сможем утверждать, что нам известна сущность вещи. По Делёзу, «кто?» — это трагический вопрос. Вопрос, направленный к Дионису, ибо он «обретает свою высшую инстанцию в Дионисе или воле к власти».
Трагический метод. По Делёзу этот метод заключается в соотнесении того или иного понятия с волей к власти, в превращении понятия в симптом воли, без этой воли немыслимое. Трагический вопрос порождает иное, но тесно связанное с ним вопрошание: «Чего хочет тот, кто думает вот это?» «Чего же хочет искатель истины? Таков единственный способ, позволяющий узнать, кто ищет истину», — поясняет Делёз.
Важно отметить, что Ницше утверждал существование активных, жизнеутверждающих богов, а, следовательно, и религий. «Следуя своему методу, Ницше признает множественность смысла религии, зависящую от различных сил, каковые могут завладеть последней». Риск коренится в том, что религией может завладеть сострадание. Именно оно названо «последним грехом» Заратустры, его тяжким испытанием. Делёз определяет сострадание как «терпимость к состояниям жизни, близким к нулю» и, пожалуй, это жестокое определение — лучшее из возможных. «Сострадание есть любовь к жизни, — далее продолжает он, — но к жизни слабой, больной, реактивной. Воинствующее, оно провозглашает окончательную победу убогих, страдающих, бессильных, малых. Божественное, оно дарует им эту победу. Кто испытывает сострадание? Как раз тот, кто допускает лишь реактивную жизнь, кто нуждается в этой жизни и в этом триумфе, кто воздвигает свои храмы на болотистой почве такой жизни. Тот, кто ненавидит в жизни всё активное, кто пользуется жизнью для отрицания и обесценивания жизни, чтобы противопоставить её самой себе».
Δυμανις — dinamis у греков означал возможность, силу, потенцию. Δυμανις характеризовал возможность объекта быть или стать не тем, что он есть, таким образом являясь латентным. Платон придавал dinamis значение знания (направленного на само бытие). В аристотелевской метафизике знание предстаёт как одна из разновидностей dynamis, как начало движения или изменения объекта. Философию Ницше понимал именно как силу. Силу, пришедшую под маской сил ей предшествующих — жреческой, аскетической. Освободиться от этой маски способен лишь философ будущего. Сущность силы заключается в её соотношении с другими силами; это соотношение есть воля. Делёз предостерегает от искажённого толкования ницшеанской воли к власти как желания господства. Воля к власти не стремится брать и завоёвывать, — напротив, она отдаёт. «Власть — как воля к власти — это не то, чего волит воля, это то, что волит в воле (в лице Диониса)». Посредством воли к власти активные силы утверждают своё отличие, тогда как реактивные — оказывают сопротивление всему, что является отличным от них, они — ограничение, задержка и отрицание. Воля к власти проявляет себя либо в утверждении, либо в отрицании (в зависимости от качества силы). Делёз приходит к удивительному заключению: «Однако история ставит нас лицом к лицу с очень странным явлением: реактивные силы одерживают верх, в воле к власти торжествует отрицание! Причем не только в истории человека, но и в истории жизни, во всей истории Земли, по крайней мере, в той ее части, где обитает человек. Повсюду мы видим торжество «нет» над «да», реактивного над активным. Сама жизнь становится приспособительной, регулирующей, она умаляется до вторичных форм: мы даже не понимаем, что значит — действовать. Даже силы Земли изнемогают в унылых местах обитания человека. И эту всеобщую победу реактивных сил и воли к отрицанию Ницше называет «нигилизмом», или — триумфов рабов». В чём заключается причина триумфа слабых? Единственно в том, что они отделяют сильных от их возможностей, изымают их из ситуаций, где возможность ещё возможна.
ГЛАВА 10
Лу Саломе: «Я…видела, как уходит Бог…»

«Интеллектуальная жизнь, — писала Лу Саломе, — это цветение, преобразование и тончайшее преображение великого сексуально определяемого корня всего сущего в абсолютно совершенную форму» . Эта загадочная женщина, царица в «царстве философии», под интеллектуальное обаяние которой попал Фридрих Ницше, в своих высокоэротичных отношениях с мужским полом была далека от cupio dissolvi, жажды растворения, — напротив, залог долгой любви Лу видела в способности оставаться самой собой, не превращаясь в подобие другого; противница платоновской «идеи половинок», она — бежавшая от профанической эротики (par excellence её интеллектуальный мир был изолирован от профанного мировосприятия, как он есть) — представляла себе любовь как встречу одного целого с другим. Половинчатость любого рода чужда тем, кто жаждет полноты бытия, сам являясь воплощением оной. Не зря Ницше написал на другой стороне листа, сохранившего фразу, столь дорогую Лу: «Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии. Выполняйте ваше предназначение, не гнушаясь работы собственными руками» — гетевскую апофтегму «Оставь привычку полумеры ради действительной жизни во всей её полноте и красоте».
Бесчисленные вопросы, обращенные (уже) к тени Лу Саломе, обыкновенно отступают перед одним бесстыдно навязчивым: почему Лу оставалась девственницей столь долго? Десятки психоаналитиков дополняют и опровергают друг друга в попытке объяснить фундаментальные принципы, на которых зиждились убеждения Лу. Указывая на сакральность женского начала, она решается на опасное сопоставление присущей sacer амбивалентности — с образом Мадонны: «Прежде всего, первоначальное восприятие Мадонны оказывается приближенным к восприятию сегодняшних женщин свободного поведения: самоотдача без выбора, непреднамеренно и без обдумывания, в конце концов, означает самоотдачу исключительно из эротических побуждений. Женщины свободного поведения и женщины типа Мадонны, схожие не более чем намалеванная неумелым художником рожица и божественный праобраз, соприкасаются в крайнем. Это то, благодаря чему женщина вообще является женщиной: её чрево как носитель плода, как храм божий, как место потехи и как снимаемое помещение для полового акта, становится нарицательным понятием, символом той пассивности, которая делает её в равной степени способной свести сексуальное до самого низменного и возвысить его до небесных пределов» . Лу Саломе служила Эросу, оставаясь на дистанции от его физических проявлений: призвав Афродиту Уранию, она отказалась от Афродиты Пандемос. Всякий раз, сталкиваясь с предложением вступить в физическую связь, Лу Саломе переживала опыт богоутраты, которым было отмечено её детство. Пастор Гийо, первый учитель Лу, был сразу же опознан как «квинтэссенция действительности», «Господь Бог и орудие Бога». Саломе боготворила своих мужчин, полагая, что это обожествление «было необходимо для её полноценной реализации». Тем болезненнее были разрывы, неизбежные как смерть от пули, попавшей в сердце. Пастор Гийо, попросивший руки и сердца Лу, обратился в павшего, умершего Бога. «Когда подошёл решающий и непредвиденный момент, в который он предложил мне осуществить на земле высшее наслаждение жизни, я почувствовала себя совершенно не готовой, — пишет Лу. — То, что я обожествляла, вдруг одним ударом покинуло моё сердце, мою душу и стало мне чуждым» . В детстве, рассказывая Господу различные истории, Лу довольствовалась его ролью молчаливого слушателя, и так продолжалось до тех пор, пока ей не потребовался ответ. В «Опыте Бога» она описывает свои переживания следующим образом:
«Слуга, который зимой приносил в город свежие яйца из нашей сельской усадьбы, рассказал мне, что он видел посреди сада, перед домиком, принадлежащим только мне одной, «семейную пару», которая хотела войти, но которую он выпроводил. Когда он в следующий раз пришел, я у него спросила о парочке — конечно же потому, что мысль об их страданиях от холода и голода меня беспокоила:
— Куда же они ушли?
— Ну, — сообщил он мне, — они не ушли.
— Тогда они все еще перед домиком?
— И это не так: они полностью изменились… и, можно сказать, исчезли.
Потому что однажды утром, когда он подметал перед домом, он нашел только черные пуговицы от белого манто женщины, а от мужчины осталась лишь совсем мятая шляпа; земля же в том месте была все еще покрыта их застывшими слезами.
То, что взволновало меня в этой истории больше всего, не было чувством жалости к паре, — это была непонятная загадка времени, которое проходит и уносит с собой вещи неоспоримые и реальные…"
На эту загадку не было ответа. Бог хранил молчание. "И это было не только моей личной катастрофой, — пишет Лу, — она разорвала покрывало, скрывающее невыразимый ужас, который нас подстерегал. Потому что не только я одна видела, как уходит Бог, — его потеря коснулась всей Вселенной». Раннее переживание богооставленности позволило Лу значительно позже не сломаться от осознания «смерти Бога», провозглашенной Ницше. Оно пробудило в ней чувство священного почитания, благоговейности.

Для мужчины Лу Саломе была сестрой, но не любовницей, и своё сестринство она ощущала как миссию. Подобно архетипической Диане, Лу являлась женщиной-сестрой, которую мужчина, алхимический оператор должен был извлечь из своей духовной ночи, чтобы слиться с ней в философском инцесте, конечной целью которого было достижение андрогината. В одном из эссе, вошедших в книгу «Эротика», Лу Саломе утверждает, что «должна существовать некая точка, исходя из которой далее их [мужчины и женщины] жизни развиваются как некие целостности, сверхполые андрогины». Евгений Головин пишет: «Вокруг женщины возникают эманации черной магнезии. Составляющая черной магнезии — это эротическое притяжение женщины. Мужчина бессилен перед тягучим притяжением этой магнезии. Его огонь пропадает, и он начинает постепенно умирать. Нужно постоянно откуда-то черпать дополнительные силы. Так вот, в соединении с сестрой, которая называется Диана (тут алхимия говорит о «нашей Диане»), алхимик превращает сульфур арсеникум в белый сульфур или сульфур, который не горит. В алхимии это символизируется единорогом. Здесь кончается «опус в черном» — алхимик приобретает необходимый ему белый сульфур» . Лу Саломе появилась в жизни Ницше, когда он был готов войти в тёмную ночь своей души, nigredo, но тьма поглотила сестру. О Ницше она говорила так: «Неизбежное очарование, которое оказывали на меня характер и слова Ницше, преодолеть было невозможно. И всё же я не стала его ученицей и преемником: я всегда колебалась вступить на путь, с которого мне всё равно пришлось бы сойти, чтобы сохранить ясность мысли» . Вероятно, в Лу продолжал жить страх растворения в другом, страх перед тем, чтобы быть отданной в рабство другому. Грубая правда, ведущая к разбожествлению, заставляла объекты растворяться в сознании Саломе, превращая их из религиозных символов в плотские знаки мирских одиночеств. Была ли Лу прообразом ницшеанского Заратустры, навсегда останется одной из гипотез, впрочем, разделяемых многими ницшеведами. Ницше принадлежит странная фраза: «Если бы я был богом, я бы создал Лу Саломе другой». Не говорит ли она о том, что «другая» Лу Саломе должна была стать ученицей философа Диониса, как сам Ницше? Было ли в «той» (не в «другой») Лу что-то дионисийское или же эта загадочная царица философов оказалась ближе к Ариадне, которую ищет лабиринтальный человек?
из книги Н.Сперанской «Дионис преследуемый».
