Новая, русская, музыкальная
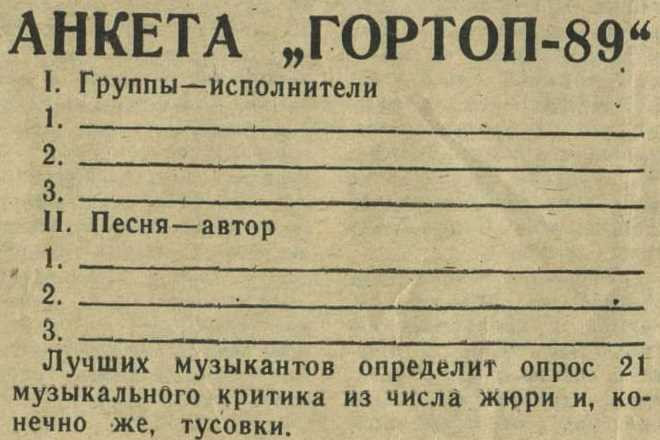
Три монолога
1.
С недавних пор 1993 год считается поворотным в истории российской критической мысли. Составители трёхтомника «Новая русская музыкальная критика 1993-2003» связывают её возрождение с периодом, когда отделы культуры «Коммерсанта» и газеты «Сегодня» возглавили Алексей Тарханов и Борис Кузьминский, а круг авторов Москвы и Петербурга пополнялся именами Петра Поспелова, Алексея Парина, Юлии Бедеровой и Вадима Журавлева. По словам составителей, новая критика ставила перед собой задачу «сформировать новое ощущение музыки, театра, сформировать l’esprit nouveau и выдвинуться в авангард художественного процесса».
Альманах с балетными, концертными и оперными рецензиями позволяет судить, как менялось критическое письмо, но факт документации не убеждает в том, что критика стала новой. В публикациях 90-х появилось больше легкости и темпоральной логики (что в значительной степени связано с увеличением мобильности изданий), однако именно это обнаруживает один из больших пороков постсоветской журналистики: подмену аналитики перечислением фактов.
Сложно отрицать, что в 90-х многое изменилось: эмигрировала часть композиторов, изменились филармоническая и театральная инфраструктуры, отменили цензуру. И если первое критиками и музыкантами осознаётся до сих пор, то последним критика воспользовалась не по делу, упустив момент, в котором была уместна глобальная рефлексия искусства, но не упустив возможности получить рабочие места в «освобождённых» СМИ.
В это время не мигрировавшие музыканты делили между собой опустевшее пространство. В театрах, концертных залах и музыкальных вузах перетасовывались директорские кресла, инициировались российские гастроли европейских музыкантов, появлялись новые ансамбли. Иными словами, в Москве и Петербурге формировались группировки композиторов и исполнителей, к каждой из которых присоединялись компании критиков-друзей, — так сообщество изолировалось и дробилось внутри.
Предположу страшное: в Советском Союзе вообще не было музыкальной критики. Ни новой, ни старой. Её наличие символизировали музыкознание и газетная журналистика, существовавшие в парадигме соцреализма. Изобретение топорного музыковедческого языка и многолетняя политическая обусловленность оставили мало надежды на возникновение критики. Фактически, с отменой цензуры журналисты пытались переоборудовать то, что нужно было менять в корне. Делать что-то на мертвом поле — большой подвиг, однако его значение легко убивается инертностью. В 90-х должны были родиться новая риторика и новая объективность, но этого не произошло, и время рождения «новой» критики можно считать временем ничем не заполненных лакун.
Сегодня актуальная российская музыка и музыкальная критика выглядят как коллаж из мало связанных между собой событий. Всё раздроблено на клубы по интересам: издания с закрепленными авторами, школы и лаборатории, похожие на островные государства, замкнутые PR-механизмы институций и городов, захваченных музыкальной мафией. Мертва печать. Ситуация, в которой несколько молодых критиков штурмуют несколько перспективных изданий, попросту невозможна. Схема 90-х тихо доживает свою странную жизнь, в которой неясно, какой аналитический дискурс можно назвать новым. Зрелые авторы не выходят за очерченные пределы влияния, авторы нового поколения расходятся по лабораториям, в которых преподают первые. На энергии, сгустившейся почти 30 лет назад, все и существует до сих пор. Существует и истончается.
Сегодня в рунете появляется все больше музыкальных СМИ, и с увеличением их числа растет сила, с которой из текстов о музыке вымывается аналитический компонент. Независимый портал Open Space (Colta.ru), одна из колонок которого посвящена академической музыке, все меньше стремится к живой реакции на актуальную повестку вне филармонии. Если в 2014 году в разделе можно было найти тексты про музыку Майдана или жизнь нищих скрипичных мастеров, то сегодня колонка очищена от переживаний социального. Впрочем, рефлексировать происходящее в стране и мире не стремятся и композиторы.
Старшее поколение оставшихся в России композиторов занимается политикой, а не искусством: функционирование инфраструктуры, связанной с актуальной музыкой, полностью зависит от их вкусов и решений. Их ученики ориентируются на идеализированные Дармштадт или IRCAM и обращаются к смежным дисциплинам: импровизации и перформансу. Отдельные миллениалы перешли в зону эксперимента и образовали оторванную от институций, почти теневую субкультуру, вступив в неспешную конфронтацию со своими прежними учителями. О тонкостях взаимоотношений между поколениями критика говорить не взялась.
В 2017 году появился первый специализированный портал о современной музыке Stravinsky.online, который информирует о концертах, но игнорирует жанр рецензии. Возникший в 2019 году журнал ReMusic занимается проблемой принятия новой музыки, а не институциональной критикой. Из анонсированной программы Института театра-2020 (дочерний проект «Золотой маски») исчезли курсы критического письма, которые «Маска» проводила несколько лет подряд.
Трендом двухтысячных стало объяснение основ академического искусства «на пальцах»: развивается просветительский блоггинг, образовательные СМИ заняты курсами по принятию и пониманию сложного искусства, музыковеды читают лекции о том, как устроен велосипед. Современная аналитика усыхает и подаётся как часть новостного медиума, а простое информирование, имеющее опосредованное отношение к музыкальной критике, неумолимо замещает её.
Характерно, что в годы, когда в России утратилась культура разговора о музыке, музыкальной журналистике стали обучать. Специалистам некуда писать и не за что бороться: ни сама музыка, ни профессия не обнаруживают собственных проблем и не призывают к их решению молодых авторов.
При множественности группировок, русская критика гомогенна и похожа сама на себя. Она давно перешла в политкорректную ностальгическую парадигму, в которой все тексты о музыке выстроены по одному лекалу: как это было до нас, как это сделали при нас, и как всё это прекрасно.
В Москве существуют институции, критика которых не возбраняется, и на этом фоне обостряется проблема неприкасаемости: радикальное высказывание о медийном или приближённом к власти композиторе/дирижере/режиссере сразу всколыхнет поле и заденет каждого, кто причастен к жизни обиженного. Но скорее всего такие высказывания просто не опубликуют, и они сольются в пространство сети или стола автора. Таким образом, поднятая в одном тексте проблема останется без ответа надолго или навсегда, а серьезные вопросы будут возникать спорадически.
Я не вижу критики там, где все рецензии на большое событие написаны размытым и однообразным языком, не отражающим личного отношения, высказывание которого является одним из естественных импульсов искусства. Но, наступило время, когда здоровые импульсы становятся умозрительными и лишь декорируют культурную реальность.
Необходимость зарабатывать делом и занятие зависимой конвенциональной журналистикой вымывают у критика способность к суждению и рефлексии собственного переживания искусства.
Критика спрыгнула в удобную нишу мнимых проблем, одна из которых — неприкаянность актуальной музыки. Эта ненастоящая трещина возникла вместе с появлением упомянутого поколения молодых музыкальных журналистов. Тезис о том, что новую музыку боятся и не понимают, нельзя считать точным, если еще 4-5 лет назад её просто играли и о ней просто говорили. Её мало изучают, она бывает плохой, считается элитарной — да; но в случае такого «да» адресоваться следует к институции или композиторам, а пока споры о новой музыке кренятся только в сторону её идеализации и сакрализации.
На самом деле, в разговоре о ненужности актуального важен только один вопрос: почему молодые композиторы, не встроенные в понятные комьюнити, недостойны внимания критики. Ведь критик старшего поколения просто не видит композитора вне институций — а значит, не увидит всего, что его сформировало. А музыкальный журналист может долго паразитировать на фиктивной проблеме, используя выдуманный ландшафт и выдуманный конфликт, продолжая писать в квазикритическом духе. Однако через пять лет существования такой критики мы с сожалением заключим, что никакой критики у нас не было, а через пятьдесят зададимся вопросом, была ли музыка.
2.
До 2014 года на радио «Орфей» выходила программа «Актуальная музыка», в которой Ирина Тушинцева и Леон Акопян вели часовые беседы с молодыми российскими композиторами. Мое сожаление о её закрытии не отсылается к ностальгическому «в советском союзе было лучше», но важна тенденция: иссякают медиумы, через которые можно судить хотя бы о том, что за люди пишут сегодняшнюю музыку. Во второй половине 2010-х годов в СМИ затихают разговоры о культуре: бесследно исчезает ряд проблемных разговорных программ, а остаются и появляются компромиссные, дилетантские. Всеобщий иррациональный страх перед публичным высказыванием прорастает в сферу индивидуального, фактически забирая у общества искусство.
Можно допустить, что призрак цензуры действительно бьет по радио и тв, но препятствия перед текстовым высказыванием выглядят совсем шаткими. Однако в критических кругах давно ведется дискуссия о смерти текста, связанная, якобы, с мышлением слайдами и появлением альтернативных способов работы с материалом в сети. Я не знаю ничего, что заменило бы текст, так же, как не знаю ни одной формы подачи подкаста, который заменил бы радио. Из всей выборки вариантов организации материала, которые выигрывают перед лонгридом, наиболее адекватно выглядят те, которые так или иначе адресуются к нему. А если мультимедизация станет целью, у культуры большого высказывания просто не останется шансов.
Я приветствую преобразование текста, объяснимое преображением, но не диктатурой технического рынка. Я не приветствую исчезновение текста, объяснимое страхом высказаться.
"Обращаясь к публичным концертам, мы обнаруживаем, что в России они проводятся только в течение пяти недель, то есть со второй недели Великого поста до Страстной недели, которая составляет тридцать пять дней. (…) Концертные программы, которые скомпилированы здесь почти механически, составлены в основном следующим образом: две увертюры, две арии или ария и дуэт Россини, Беллини и т. д. в исполнении одного певца, одной певицы или каждого из нашей оперной труппы, затем концерт или вариации для фортепиано и, наконец, концерт для знакомого инструмента и блестящих вариаций в исполнении артиста, который дает концерт. Является ли целью такого концерта предоставление нескольких приятных часов людям, у которых нет других развлечений в долгие вечера Великого поста и которым не хватает собственных музыкальных претензий? Ведет ли он к тому, чтобы одобрить местного художника за усилия, которые он потратил в течение года, чтобы удовлетворить публику; или позволяет выяснить, как далеко продвинулась искусство музыкального исполнения на том или ином инструменте? "
Это отрывок из текста Модеста Резвого, который описывал англоязычным читателям концертную ситуацию Москвы и Петербурга в период с 1840 по 1850 год. Статья напечатана в двухтомнике «Русские о русской музыке», который вышел в 2003 году в Англии, под редакцией Кембриджского университета. В основании такой критики лежит анализ базовых механизмов институции. Повторять эксперимент Резвого полезно, но опасно: ведь современный российский критик не выходит за рамки функционального, и критика институции становится гонкой за поддержание функции её палача, обязанного этому соответствовать. Точно так же, как политика СМИ и внутренняя цензура обязывают играть по правилам, не имеющим отношения к искусству.
В действительности же никто ничему соответствовать не должен, и критика возможна только тогда, когда автор видит больше, чем слышит, и не действует неадекватно проблеме.
В российской критике стёрта культура здорового отношения к профессии, где принципы «про друзей» или «исключительно о врагах» не работают, и динамика суждений существует в согласии моментом — так же, как и репутация артиста. Так образуется профессиональная система ценностей. В такой реальности вечером пройдёт концерт, а утром появится материал, который определит место событию. А в нашей реальности материал появится только для того, чтобы появиться.
Сегодня каждый движется в понятной для себя колее и становится жертвой инерции, критика не уличает музыканта в отчуждённости или репертуарной лени, а институцию — в нечистоплотности и ригидности. Новая русская музыкальная критика и музыкальная культура живут в нарисованном облаке, в котором не существует времени, которое излучает благодать, и в котором еще не родился Кант. В этом облаке возможны либеральные взгляды и критика власти, но они не выходят за его пределы.
Зачем вообще современной России нужна музыкальная критика, если музыкальной критике неинтересна российская музыка? Уверена, что на этот вопрос не смогли ответить молодые музыковеды, сбегающие от этой странной актуальной реальности в кураторство. Бегства хотят не все: единицам интересен их предмет, и они чувствуют, что с предметом что-то не так. Сформулировать это «не так» становится все сложнее, ведь серьезное суждение требует времени и труда, и мы боимся социальной суеты.
Предположение о том, что новая критика начинается с новых медиа, сомнительно изначально и совсем не актуально сегодня. Новая критика появляется вместе с новым критиком и новым высказыванием — не изолированными от непосредственного слухового опыта и внемузыкальных проблем. Автора формируют не СМИ, а, как минимум, новые темы, которые не могут иссякнуть, если критика адекватна времени, в котором живет. Как в глобальном смысле критика прокомментировала культуру десятилетия 1993-2003? А почти двадцатилетия 2003-2020? И как, собственно, музыка реагировала на ландшафт, в котором бытует?
Вероятно, музыкальная критика сегодняшней России должна учиться у психиатрии, в которой понятие критики связано с оценкой состояния, в том числе и пациентом самого себя. Оценкой состояния России через её музыку сегодня не занимается никто. Да и как можно оценить искусство, которое принципиально не охватывается целиком, в котором последовательно игнорируются немагистральные течения? На консерваторском «Московском форуме» молодые композиторы, названные свободными радикалами, вступают в полемику со своим учителем Владимиром Тарнопольским, и когда об этом пишут в прессе, в фейсбуке поднимается волна негодования со стороны поклонников композитора. То есть, российские деятели культуры вообще отучились воспринимать разговоры о собственной шкале ценностей как нечто продуктивное. Но если нет конфронтации, полемики, неудовлетворённости, — то критика, как и ее предмет, становятся фиктивными.
Саботируя реальность, музыкальное сообщество умножает количество слепых пятен. А реальность — это другие города кроме Москвы, Петербурга, Чайковского и Перми, это люди, не встроенные в комьюнити, это разница поколений, мнений, мотивов и позиций, это слуховой опыт и человек, который этот опыт получает.
3.
Привычный, но тревожный симптом: на идентификацию российского музыканта прямо влияет его отождествление с западным. Так, композиторскую академию в Чайковском называют русским Дармштадтом, а балалаечника Алексея Архиповского — русским Паганини. Это похоже на конвейерную раздачу наклеек и лейблов, которые продают изначально обезличенное. Это — рутина критики. Сегодня легко представить русского композитора, которого назовут нашим Лахенманом, но сложнее вообразить немецкого Мартынова.
Исторически европейские критики и музыканты вели полнокровный диалог. Они расходились и сходились, вели многолетние подробные переписки, плели интриги и взаимно разоблачали невежество. Наше взаимодействие с Западом изолировано от таких проявлений его обыденной жизни, и риторика сегодняшних зазывал европейского мастера до сих пор не отличается от риторики советских учебников по музыкальной литературе. Мастер приезжает в Россию, чтобы передать нам какое-то мистическое знание, чего-то не договорить о себе и заставить нас млеть. Мастер об этом не догадывается, потому что такими свойствами себя не наделял и не подозревал у себя эзотерических способностей.
Погоня за нерефлексируемым знанием из–за морей тянется через всю историю нашей культуры, и мы продолжаем перенимать мертвые формулы, не разбираясь в том, почему они не могут родиться в России, и что такое русская музыка вообще. Музыканты вторят Европе собственного сочинения и растаскивают ее на хаотичные фрагменты, а этому запросу вторит критика. Мистический запад хорошо укладывается в задымлённое сознание русского человека: это легко наблюдать на примере отношения к навсегда нашему, элитному мистику Теодору Курентзису.
Российскую культуру можно сопоставлять с чем угодно, но это лишает критику возможности найти точку, из которой можно говорить о нашей музыке, которая не звучит, а приноравливается, мимикрирует и маскируется под другое, чтобы говорить из условной западноевропейской страны. Она постоянно самоустраняется, и сегодня это чуть ли не единственный способ ее бытования.
__________________________________________________________________________________
Сегодня не принято говорить о музыкальной культуре. О музыкальной культуре не говорят на радио и телевидении, не пишут в специализированные СМИ. В России появляются факультеты музыкальной журналистики, но их выпускники не знают, зачем и о чем говорить, чувствуя, что получили профессию, мало связанную с
Идеология музыкальных СМИ сводится к удержанию аудитории, которая финансирует академическую индустрию. Небольшой платёжеспособный пласт до сих пор определяет происходящее, и ему до сих пор некому противостоять. Он потребляет музыку как услугу, но не жаждет музицирования и других форм ее бытования.
Разговор о музыке в России сугубо декоративен: вроде как, эта ниша существовать должна, и заполнять ее надо, но проблема заполнения для наращивания капитала перекрывает доступ к предмету критики. Я не могу размышлять о российской музыкальной критике, как о
Новая русская музыкальная критика не осознается как вещь, существующая в конкретном пространстве. И если искусство и критика, искусство и место, критика и время — нераздельны, то нашей академической музыки не хватает на всю площадь России. Вероятно, состояние российской культуры следует рефлексировать через неакадемический компонент; академический нерепрезентативен и полностью оторван от социального.
Этот текст вырос из двух вопросов, заданных в никуда, и мой ответ на первый автоматически исключает второй. Есть ли в России СМИ об академической музыке, которые существуют по реальному социальному запросу? И если да, то каков этот запрос?
весна 2020
