Грэм Харман. Странный формализм
Осенью в издательстве Polity Press выходит новая книга Грэма Хармана Art and Objects. Публикуем перевод отрывка из заключительной главы книги, сделанный специально для «Художественного журнала» №110. Публикуется с разрешения автора.
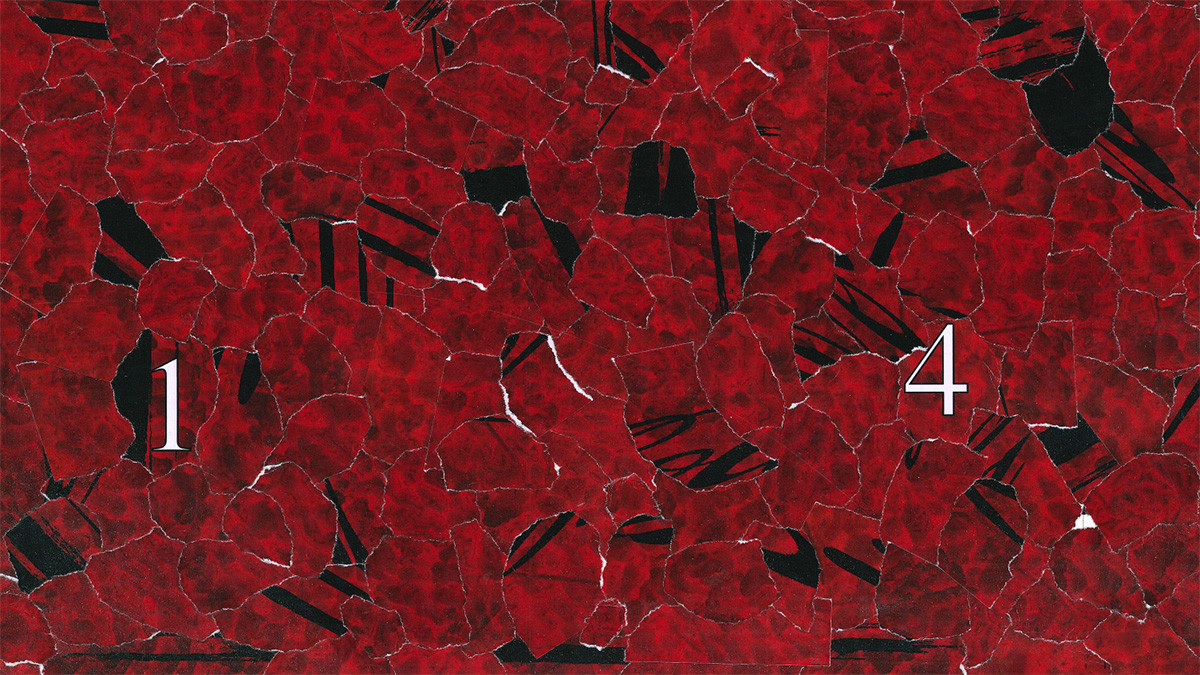
Философы способны прогнозировать будущее искусства даже в меньшей степени, чем будущее философии. Что они могут сделать, так это актуализировать проблемы, относительно которых дебаты по теории искусства завязли в окопных войнах, уже успевших утратить свою философскую значимость; породить новые идеи, которые явятся полезными для художников; а также указать на некоторые традиционные идеи, которые могут внезапно оказаться не столь архаичными, как кажутся. В этом смысле моя роль в отношении искусства схожа с моей задачей в школе архитектуры, где я сейчас преподаю несмотря на отсутствие профессиональной подготовки или опыта работы проектировщиком. В чем я уверен, так это в том, что новое значительное искусство вряд ли возникнет в результате дальнейшего стука по антиформалистскому, политическому или этнографическому барабану или же в результате продолжающегося отказа от эстетики или даже прекрасного. Все вышеперечисленное относится к долгоиграющим 1960-м, из которых искусство, равно как и континентальная философия, до сих пор так и не смогло выбраться. Те или иные разновидности теорий деконструкции, нового историзма или Франкфуртской школы мне как философу кажутся сегодня малопригодными. Философия реализма, которая вращается вокруг эстетической оси, — такова моя профессиональная ставка, равно как и значительной группы молодых художников и архитекторов. Я предлагаю поговорить о тех возможностях, которые появляются, когда мы придаем новый смысл понятию формализм. <…>
Пять следствий
Центральная идея этого текста, без сомнения, является весьма странной: это представление о том, что зритель и произведение искусства сливаются вместе в некий третий, более высокий объект, который, в свою очередь, становится ключом к новому пониманию онтологии искусства. Ниже я перечислю пять следствий, вытекающих из этой идеи, но перед этим нам потребуется ввести кое-какую новую терминологию.
В то время, как фиксация Хайдеггера, Гринберга и Маклюэна на медиуме отсылает к
Идея никогда не является чем-то совершенно новым, способным появляться из ничего, без
Наряду с концепцией Гуссерля, есть две особенно важные сопутствующие теории, которые несут в себе всю ту же опасность идеализма. Первая — это теория аутопойэсиса чилийских иммунологов Матураны и Варелы, вторая — теория социальных систем немецкого социолога Лумана. В обоих случаях особое внимание уделяется тому, каким образом система оказывается отрезана от внешнего мира, и все названные авторы делают явно пессимистичные выводы о возможности коммуникации. С точки зрения ООО, эти теории обеспечивают необходимый противовес моделям, которые предполагают легкую повсеместную доступность коммуникативных отношений — таким как
Новое значительное искусство вряд ли возникнет в результате дальнейшего стука по антиформалистскому, политическому или этнографическому барабану
В любом случае, нам требуется термин для внутреннего (interior) у объекта, поскольку я не могу сказать, что проблема когда-либо ставилась именно таким образом: даже Лейбниц мало говорит о динамике внутри монады как таковой. Начиная со своей первой книги «Инструмент-бытие»[2] я часто использовал термин «вакуум», хотя это больше относится к отделению объекта от его соседей, чем к жизни внутреннего этого объекта. Для описания внутреннего у объекта слово «вакуум» не до конца подходит, поскольку оно ошибочно дает отсылку к пустоте, тогда как внутри любого объекта происходит очень многое. В то же время термин Лумана «система» слишком сильно склоняется в сторону общей, объединительной функции с недостаточной степенью автономии для своих элементов. По этой причине я предлагаю на время обратиться к вокабуляру Матураны и Варелы и использовать термин «клетка»: аналогично тому, как клетка имеет множество независимых одна от другой органелл, мы увидим, что внутреннее объекта содержит несколько независимых образований. Единственная сложность, которую я вижу, говоря о клетках, состоит в том, что, подобно тому, как многие идеалисты бывают разгневаны «антропоморфными» метафорами в отношении действий неодушевленных вещей, другие оказываются возмущены, когда биологические метафоры используются за пределами сферы живых существ. Но мы, как никогда ранее, должны отвергать любое пуританство в отношении использования метафор, за исключением тех случаев, которые включают либо явно вводящие в заблуждение сравнения, либо бессмысленный политический выпад. Пусть это будет выражено достаточно ясно — если это еще не так — называя внутреннее объекта клеткой, я не хочу этим сказать, что объект в буквальном смысле оживает. На этом месте мы можем перейти к перечислению пяти следствий из того, что я назвал странным формализмом — случая, при котором автономией обладают ни субъект или объект в отдельности, а скорее их соединение.
Следствие первое: гибридные формы искусства
Следствие второе: критическая теория — не путь вперед. Типичный антиформалистский диссидент, неважно гегелевского или постмодернистского типа, скажет, что ни зритель, ни работа не могут быть отрезаны от более широкого социально-политического, биографического, лингвистического или психологического контекста. Такой антиавтономный жест — это именно то, что имеют в виду Фостер и прочие, когда превозносят «критическую теорию». Вместо того, чтобы позволить нам наивно прислушиваться к нашим эстетическим переживаниям, нас просят преодолеть личные предрасположенности и выносить отстраненное критическое суждение, как правило на основании какого-нибудь хорошо знакомого левого принципа. Следуя такой логике, нам следует отказаться от расположенности к объектам в духе Данте или Шелера и вместо этого поддержать кантовское отделение мыслящего субъекта от того, с чем он связан. По иронии, такой подход указывает на то, что критическая теория — это, по существу, просто еще один вариант таксономического формализма, который дистанцирует человека от всего разнообразия его искренних отношений с объектами. Подобное отношение позволяет таким как Кошут и де Дюв утверждать, что некая трансцендентная фигура художника в порядке некоего предписания может решить, что именно считать произведением искусства, как если бы сам объект не мог свидетельствовать, удачен он или нет. Среди прочих сложностей, такая позиция не проходит испытание цепной кошки Данто, которая всегда напоминает нам, что, даже если мы не можем заранее знать, где заканчивается скульптура, де-факто она всегда где-то заканчивается. Независимо от того, окажется ли эта скульптура кошкой, цепной кошкой, или кошкой, прикованной к железным перилам, это, конечно, не будет скульптура Вселенной, даже если художник будет пытаться утверждать, что это так.
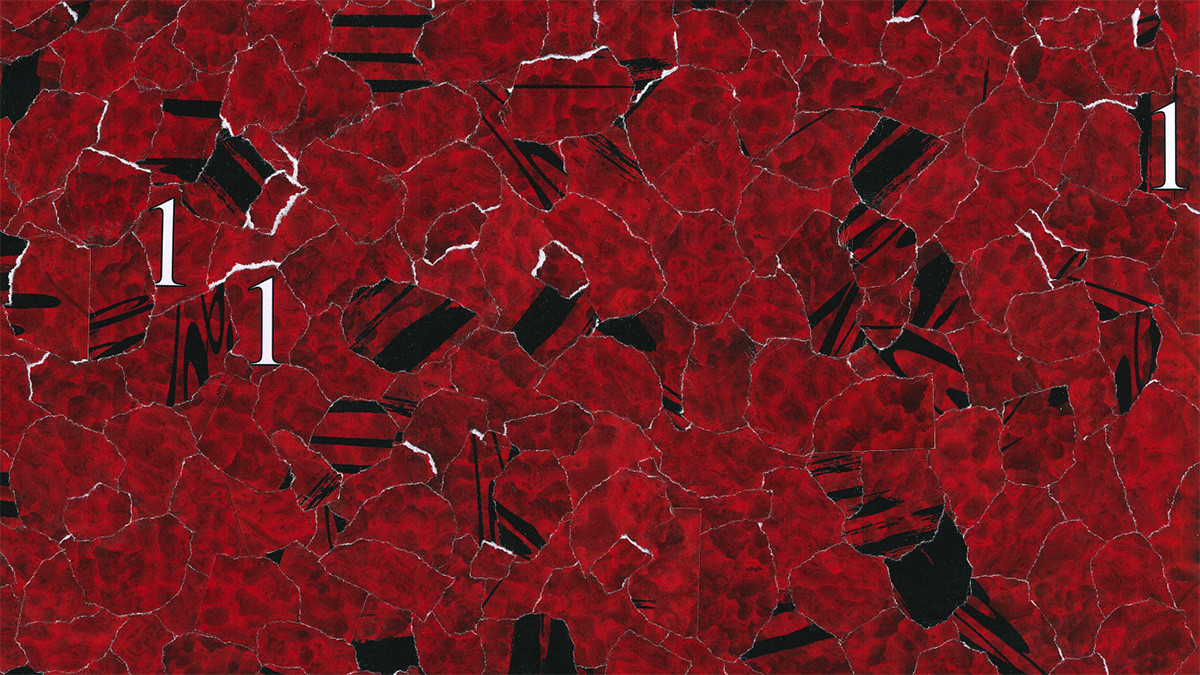
Следствие третье: антиформалистское искусство — не путь вперед. Господствующие тенденции в современном искусстве, которые выделил Фостер, представляют собой попытки противостоять изолированности произведений искусства, позволяя либо социально-политическим проблемам, либо отвратительной бесформенности просачиваться сквозь них. Я утверждаю, что отвратительное терпит неудачу по той же причине, что и его более аристократический родственник, возвышенное, просто потому, что не существует вещи, которая не имела бы определенной формы. Пауки, плевки и менструальная кровь — в конце концов, они суть то, чем они являются, а не «что-то еще», и уж точно не это, и только это. Что касается общественно-политического содержания, то оно, как правило, настолько ожидаемо и банально, когда транслируется с помощью того или иного произведения искусства, что я предлагаю прямо противоположный подход. А именно, вместо того, чтобы экспортировать сообщения из произведений искусства в политическую сферу, для искусства, вероятно, было бы более плодотворно поглощать политику по кускам и давать ей эстетическую жизнь, которая, возможно, могла бы даже «перераспределять чувственное», по выражению Рансьера. Это кажется более многообещающим, чем простое осуждение капитала или государства тотальной слежки, возможно, уже в миллиардный раз.
Следствие четвертое: исключая внешнее искусства, мы подчеркиваем множественность его внутреннего. Настаивать на автономности художественного произведения кажется скучным только в том случае, если мы противопоставляем его предполагаемому бесконечному богатству окружающего мира. И все же этот внеэстетический мир так часто оказывается скучным, угнетающим и отупляюще знакомым, что это, как правило, и становится одной из причин, по которой мы начинаем искать в мире искусство. Как только мы перестанем так уж сильно беспокоиться о контексте, окружающем искусство, и в целом забросим бесполезное требование того, чтобы искусство являлось спасением этого контекста, мы сможем уделять больше внимания внутреннему разнообразию искусства, с которым сталкиваемся.
Формалистская критика в искусстве склонна к предрассудку целостности, что, в частности, можно было наблюдать в недостатке интереса Гринберга к разнообразию, содержащемуся на поверхности. Однако, если закрыть глаза на излишнюю зависимость Фрида от языкового холизма Соссюра, его синтактическая интерпретация Каро открывает путь к большему вниманию по отношению к свободному взаимодействию между отдельными элементами. В противовес неубедительному дуализму единой основы и множественной поверхности Гринберга и Хайдеггера, я выступаю в пользу индивидуализированной основы для каждого элемента произведения. Если мы рассмотрим яблоко в натюрморте Сезанна, яблоко — это объект, изъятый из фона, на котором находится его изображение, и нам не нужно смотреть на весь холст, чтобы найти более глубокий план яблока. Это значит, что каждое произведение искусства имеет несколько планов, и не только в гринбергианском смысле множественных плоских планов кубистского коллажа.
Как только мы перестанем так уж сильно беспокоиться о контексте, окружающем искусство, и в целом забросим бесполезное требование того, чтобы искусство являлось спасением этого контекста, мы сможем уделять больше внимания внутреннему разнообразию искусства, с которым сталкиваемся.
Следствие пятое: поскольку множественность внутреннего не является целостной, она «холодная». Теоретики медиа много обсуждали, по большей части подходя к вопросу с негативной стороны, то, что Маклюэн обозначает термином «холодные медиа»[3]. С его помощью он описывает медиа, которые передают недостаточное количество информации, так что часть ее должна быть воспроизведена получателем, что в свою очередь производит эффект схожий с гипнотическим. Например, даже если огонь в камине является «горячим» в буквальном смысле, это очень холодное медиа в смысле Маклюэна: учитывая, как мало информации он предоставляет, требуется, чтобы мы добавили наши собственные переживания к опыту его наблюдения. Здесь я хотел бы предложить исторический тезис о том, что Новое время было периодом, когда в высоком искусстве преобладали горячие медиа, в которых всегда предоставлялся избыток информации. Я хотел бы далее выдвинуть предположение, что избыток информации всегда влечет за собой сверхопределленность отношений между различными элементами, что, в свою очередь, подавляет их автономию.
По сравнению с византийскими иконами, декоративными узорами исламского искусства или туманной атмосферой китайской пейзажной живописи — все из перечисленного является холодными медиа — западная постренессансная иллюзионистская живопись изображает элементы в четко определенных отношениях со всеми остальными. Поскольку каждый из этих элементов занимает определенную позицию в изображаемом трехмерном пространстве, его существование полностью определяется отношениями со всеми остальными графическими элементами. Разум может быть поражен красотой таких картин, но никогда не будет загипнотизирован так, как перед камином. В маклюэновском смысле иллюзионистская масляная живопись — горячее медиа, в то время как абстрактная живопись Кандинского, Пауля Клее или Поллока должна рассматриваться как гипнотически холодное. В случае литературы, мифы — это холодные медиа, поскольку они предусматривают несколько больше, чем конечное число персонажей и историй с возможностью их вариации при каждом пересказе. Роман, напротив, является настолько горячим медиа, насколько это возможно в литературе, поскольку каждое слово в нем учтено в оригинальном тексте, в котором нет места для изменений между одним переизданием и другим. Кино — горячее медиа, так как нам всегда показывают каждый кадр одним специфическим образом, без возможности смотреть на вещи с любого понравившегося нам ракурса: мы всегда видим Богарта одинаково в каждой сцене, независимо от того, сколько раз пересматриваем фильм. Иными словами, в кино нет автономных объектов, вместо них — только объекты, сверхопределенные четкими отношениями со всем остальным. В отличие от этого, видеоарт имеет тенденцию быть намного холоднее, хотя бы потому, что повествование в нем, как правило, гораздо менее прозрачно.
Я упоминаю об этом, подозревая, что по мере того, как мы уходим из современной эпохи во что бы то ни было, что придет после — постмодерн представляет из себя скорее задымленный беспорядок, чем подлинную эпоху — мы будем наблюдать охлаждение многих горячих форм, доминировавших в Новое время. Как утверждает Гарольд Блум, не все жанры в одинаковой степени присутствуют в каждой эпохе, и мы должны ожидать сдвига в доминирующих эстетических медиа по мере разворачивания наступившего столетия[4]. Иногда предполагают, что видеоигры могут оказаться более холодной заменой кино, однако едва ли этому жанру удастся приблизиться к статусу искусства. Инициативу может взять на себя и намного более старый жанр, который философы никогда особенно не ценили: я говорю об архитектуре, которая по своей природе холодна, поскольку мы свободно перемещаемся внутри и вокруг нее и никогда не схватываем ее всю целиком, что, в свою очередь, означает, что архитектура по своему эстетическому воздействию не может быть уравнена с иллюзионистской живописью, романом или кино.
Де Дюв напоминает нам о знакомом историческом тропе, где «каждый шедевр современного искусства <…> сначала всегда встречался с возгласом возмущения: “Это не искусство!”»[5]. Но мы также поступим правильно, если вспомним и обратный принцип: любой стиль, в настоящее время встречаемый восклицанием «Это искусство!», вероятно, находится на грани своей отправки в музей или провала в забвение. Реляционное, политическое, обусловленное, неэстетическое, непрекрасное: все это седлает одну и ту же волну в течение более пятидесяти лет.
Примечания:
1. Brentano F. Psychology from an Empirical Standpoint. Trans. A. Rancurello, D.B. Terrell, L. McAlister. New York: Routledge, 1995.
2. Harman G. Tool-Being. Chicago: Open Court Publishing, 2002. P. 256.3 Существует, однако, некоторая неопределенность в том, как Маклюэн использует термин «холодные медиа». См. Harman G. Some Paradoxes of McLuhan’s Tetrad // Umbr (a) 1 (2012). P. 77–95.
3. Bloom H. The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Riverhead, 1995. P. 20–22.
4. de Duve T. Kant After Duchamp. Cambridge: The MIT Press, 1996. P. 303.
Перевод c английского Натальи Серковой
Впервые опубликовано в «Художественном журнале» №110 (2019).
