Александр Погребняк: Незнайка, или истина коммунизма. Введение
Есть смысл рассматривать Н.Н. Носова как продолжателя гоголевской линии в изображении капитализма. Скажут, что Гоголь и Носов — авторы явно разных весовых категорий. Но аргумент «равновесия» не единственный. Переход от Гоголя к Носову мотивирован, конечно, не столько «фамильным сходством» (имя автора «Незнайки» производно от излюбленной части тела его великого тезки), сколько их верностью некоему общему чувству, внешним выражением чего может служить, к примеру, обращение к лунной тематике, которая занимает важное место в творчестве обоих. Конечно, есть и просто открыто выставляемые напоказ «заимствования»; так, И.Кукулин правомерно называет описание Носовым внешности лунных миллионеров «ремейком» начала гоголевской «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [1]. Говоря об интриге цикла о Незнайке в целом, М.Загидуллина отмечает, что «внутри сюжета путешествия у Носова спрятан классический сюжет самозванства — гоголевский “Ревизор”» [2]. И Незнайка, и Хлестаков сходны в том, что оба воплощают некие непрерывно действующие «машины желания», однако важнее различие, обнаруживаемое между ними в моральном плане — если Хлестаков для Гоголя это «ноль» как пустое «место проекции», позволяющее вскрыть механизмы жизни провинциального городишки, то «Носову важно, что его персонаж с “нулевым” именем постоянно всерьез переживает происходящее с ним, пусть с трудом, но подчиняясь своей “подружке” совести, как он сам ее называет» [3]. Таким образом, Носов начинает там, где заканчивает Гоголь — Незнайка есть воплощение бессознательного как такового, а его имя есть, если угодно, имя имени, нечто «невозможное»: «Я знаю, что я — Незнайка».
Кроме того, важным является принципиальное созвучие, если угодно, внутренних голосов, или даже призваний, которым следуют герои Гоголя и Носова. Возьмем только один пример — попытки Незнайки поднатореть в поэтическом ремесле, как они похожи на опусы капитана Лебядкина, этого предтечи обэриутов и «ябеды на капитана Копейкина» (по выражению А.Скидана)! Сравните незнайкино «Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку» и хармсовское «Иван Торопыжкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор», а в качестве основания возьмите ну хоть «Краса красот сломала член и стала вдвое краше» из Лебядкина, а главное, обратите внимание на реакцию публики, которая опять-таки так напоминает знаменитую сцену из «Ревизора» с чтением письма… Незнайка изначально позиционируется Носовым как радикальный новатор и революционер — как тот, кто непрерывно трансгрессирует границы общепринятого, смысла и традиции, как принципиально неуместный субъект.
Вот почему надо с самого начала отмежеваться от оценки, данной «Незнайке на Луне» Р.С. Кацем, автором не имеющего пока аналогов фундаментального исследования «История советской фантастики». Вкратце, позиция этого ученого мужа сводится к следующему: с самого начала выставляя этот роман как «созданный в соответствии с социальным заказом образец “контрпропагандистской” литературы» (хотя и отмечая при этом талант автора, его нежелание «опускаться до злобствований и халтуры»), проф. Кац усматривает его основной подтекст в том, что «главные герои романа, глупые и нахальные коротышки Незнайка и Пончик («мистер Понч»), захватывают космический корабль, построенный умником Знайкой со товарищи и таким вот контрабандным путем попадают на Луну»; поскольку же «описание высадки приятелей-жуликов на поверхность Луны было точной, мастерской и, надо признать, смешной карикатурой на высадку американцев с “Аполлона”», постольку роман оказывается сведен исключительно к своей идеологической функции: «Целое поколение школьников, взахлеб читающее “Незнайку на Луне”, приучались к мысли, что первенство Незнайки, ступившего на Луну, — ворованное, ненастоящее. Что прав не тот, кто успел раньше, а тот, кто долгим, честным трудом заслужил победу. Очевидно, сам Носов, работая над книгой, надеялся, что правда о полете “Аполлона-11”
Текст «Истории советской фантастики» проговаривается, однако, на счет того, что сознание его автора не могло (не хотело?) иметь в виду. В книге Р.С. Каца Незнайка, выходя из ракеты, произносит напыщенную фразу: «Смелее, Пончик! Теперь каждый наш маленький шаг войдет в историю человечества!» — после чего презабавно падает прямо в яму; эти слова Незнайки, по мнению исследователя, являются парафразом того, что в действительности сказал Армстронг в момент выхода из модуля: «Маленький шаг человека, огромный шаг человечества» [5]. Показательно, что в оригинальном тексте «Незнайки на Луне» ничего похожего главным героем не произносится, и вовсе не в яму он презабавно падает, а вполне драматично проваливается в глубокую пещеру, ведущую внутрь Луны.
Симптоматичность этой «оговорки» заключается в том, что на свет выводится глубинная сущность миссии Незнайки: своим умением «попадать в истории» он призван историзировать бытие, выводить его из состояния природного равновесия [6]. Падение Незнайки — сродни падению Фалеса, которым открывается история философского (то есть контр-мифологического, «беспочвенного») отношения человека к своему бытию; в «яме», куда падает Незнайка-Фалес, виртуально содержится вся последующая топография «одиссеи Духа», будь то пещера Платона, ад Данте и т.д.; а в самом имени Незнайки разве не то озвучено, что со времен Сократа составляет единственно возможную формулу подлинности бытия в мире?
То, что с самого начала упускает из виду проф. Кац, это постепенно раскрываемый Носовым неподлинный характер земного существования [7].
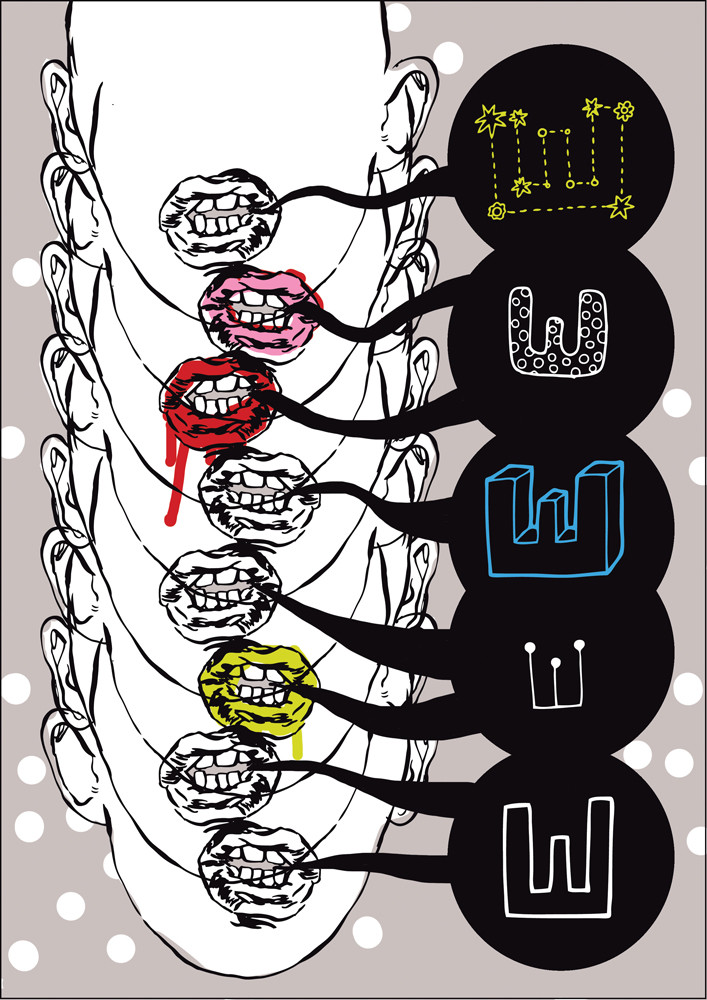
Земля изображается как мир сущего изобилия: «гигантские растения», жизнь, напоминающая вечный праздник, постоянно возникающие избыточные элементы — вертящиеся дома, например. Однако, синонимично ли это изобилие подлинной полноте бытия? Едва ли, скорее, в нем есть что-то болезненное (как и в тех образах коммунизма, на которые способно наше сознание) — эта болезненность рефлектируется в фигуре Пончика, который, будучи озабочен уместностью сущего изобилия, выбрал потемней ночку, завязал свои старые костюмы в огромный узел, вынес тайком из дома и утопил в реке, а вместо них натаскал себе из магазинов новых костюмов. Показателен итог: борясь с разведшейся молью, Пончик так пропах нафталином, что превратился в совершенно асоциальный элемент: все его прогоняли, чтобы не упасть в обморок или сойти с ума, так что в результате все ненужные костюмы пришлось отнести на чердак. Здесь узнается тот мотив чрезмерности, который составляет вечную тему мысли, порождающей самые различные способы реагирования (классическая «экономия», то есть именно приведение к мере — например, Афины против Атлантиды в платоновском «Критии»; или неклассическая «растрата» — бытие по способу потлача, как это описывает Батай), сводимые, однако, к единому диагнозу: изобилие — это проблема, и, следовательно, оно внутренне дефицитарно.
Наиболее точно такую ситуацию (под именем бытия-в-себе) охарактеризовал Сартр: «Оно — имманентность, которая не может осуществляться, утверждение, которое не может утвердиться, действенность, которая не может действовать, потому что вконец заросла жиром [курсив мой — А.П.]» [8]. Основания — вот чего не хватает бытию для того, чтобы из модуса в-себе перейти в модус для-себя; или иначе: дисциплинирующая сверхзадача — вот что следует вменить «в-себе» избыточному (бесполезному) изобилию, чтобы оно могло выступить в роли «для-себя» вполне целесообразного Богатства. Для этого «классического» решения «архаической» задачи у Носова служит антагонист главного героя с соответствующим его функции именем Знайка [9].
Еще одна оплошность, которую допускает проф. Кац — это совершенно поверхностное противопоставление «жуликов» Незнайки и Пончика и «тружеников» Знайки со товарищи (так и просится: Знайка & C); дело в том, что различие Знайки и Пончика — это различие крайних членов единой оппозиции, отражающей суть земного существования, а вот Незнайка — это поистине внеземной элемент. В самом деле, как Знайка, теоретически осознавая сущностный дефицит земного изобилия, заставляет последнее работать на достижение «полезных» целей научно-исследовательской деятельности и технического прогресса (они, конечно, и вправду полезны — как картина из мультфильма о Простоквашино, закрывающая дырку на обоях: человек ведь тоже «дырка в бытии»), так и Пончик, реально переживая вполне явленный дефицит лунной жизни, быстро находит «рыночную нишу» для незнакомой доселе лунатикам соли.
Изобилие архаично, однако, еще и постольку, поскольку воплощает в себе абсолютный характер жеста начинания: в этом смысле, не только мудрец Знайка «научно познал», что именно необходимо предпринять, но и «простец» Незнайка всегда уже достиг уровня «ученого незнания» того, что (не) следует делать. В этой связи нужно помнить сказанное о начале Хайдеггером: что подлинное начало есть «неуютнейшее», которое «есть то, что оно есть, ибо оно скрывает в себе такое начало, в котором из преизбытка все сразу вырывается в сверхвластительное, коим надлежит овладеть»; что «необъяснимость этого начала не есть недостаток или несостоятельность нашего познания истории»; наконец, что это познание «не есть ни половинчатое, ни целое естествознание, и если оно вообще что-то и есть, то — мифология» [10]. Если научное познание («естествознание») движимо потребностью воспроизведения некоего архетипа, картины мира, то ученое незнание («мифология») движимо желанием производства изначально нетипизируемого в составе этой картины — и вопреки ее рамкам. Для изображения этого различия Носов находит превосходные образы: если Знайка все силы прилагает к тому, чтобы целесообразно использовать «открытую» им космическую силу невесомости, изобретая соответствующий «прибор» — то Незнайка использует последний (взятый, конечно, «без разрешения») совершенно «бесцельно»: ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости («Неизвестно, — добавляет Носов, — почему ему в голову забралась такая мысль»; Незнайка — это субъект, непрерывно совершающий редукцию принципа полезности, ведь единственное, чего он действительно не знает — это то, для чего он делает то, что делает. Так что «Отрицательность» имени «Незнайка» есть нечто радикально отличное от того псевдонимического «Ничто», с помощью которого Одиссей обманывает Циклопа: как показано в «Диалектике Просвещения», данный жест отречения от имени собственного делает Одиссея «Робинзоном до Робинзона», прототипом хитроумного буржуазного субъекта, избирающего ускользание в качестве стратегии выживания. Одиссею в «Незнайке» соответствует, конечно же, Знайка, покоряющий Луну с помощью техники («прибор невесомости»). Но «эмпирические» лунатики уже до этого оказываются внутренне освобождены антибуржуазным и нетехническим присутствием в своих рядах лунатика «трансцендентального» — Незнайка ведь и для них есть «свалившийся с Луны». Важны не столько «гигантские растения», сколько солидарность (вспомните рассказ Колоска о коллективной покупке акции всей деревней).
Показательный момент: когда Колосок рассказывает прилетевшим спасать Незнайку и Пончика землянам об акционерном обществе гигантских растений, никто из коротышек не понял, что это за акции такие и как их можно покупать или же продавать — но Знайка, пишет Носов, который знал очень многое, сразу все понял — поэтому он сказал, что бедняки правильно делают, что не теряют надежды, и что семена на самом деле привезены. Лунный капитализм и земное изобилие соединяются Знайкой точно так же, как камни в приборе невесомости — речь о чисто техническом решении проблемы; что до других коротышек, то они, оказываются, даже и не знали о своем незнании (на предмет капитализма) — зачем им это, если есть Знайка, эксперт-технократ? [11].
Стратегия Знайки в итоге оказывается стратегией дефицита, понятого в качестве сущности изобилия, отсюда заинтересованность в открытии все новых пространств для экспансии, все новых точек приложения своих сил; Незнайка же постоянно «ускользает» в автономные зоны чистой самодостаточности, что, конечно, с точки зрения первой стратегии может быть описано только в терминах воровства, маргинальности, подпольности. Однако, собственное имя этой стратегии, предложенное выше — это историчность, ибо материя историчности не соткана из сплошных переходов к бесконечно отсроченной «цели», но состоит из островков самоцельного существования, обретаемых в разрывах сетей и потоков мира чистой функциональности (именно в этом суть критики гегельянства в философии истории — например, борьба Хайдеггера против сведения вот-бытия к простой наличности, концепция «гетеротопии» Фуко и т.п.). Это выражается, в частности, еще и в том, что если научный подход Знайки (пресловутая «блинная теория», подвергнутая критике профессором Звездочкиным — в данном случае открытым, да и не принципиальным вопросом остается, кто из них «Вавилов», а кто «Лысенко») предусматривал отношение к Луне лишь как к физическому телу (пусть и полому — пустота лишь знак отсутствия «внутреннего»), то Незнайка, движимый своим ненаучным «предчувствием космоса», оказывается способным проникнуть в ее «внутренний мир». Если воспользоваться различением, которое предложил Р.Бультман, то позиция Знайки — это, в конечном итоге, позиция своеволия, тогда как позиция Незнайки — не своеволие, но нечто гораздо более подлинное, а именно – самоотдача («если подлинная жизнь есть жизнь в самоотдаче, то она ускользает не только от того, кто вместо самоотдачи живет из распоряжения находящимся в наличии, но и от того, кто рассматривает самоотдачу как доступную его распоряжению цель и не видит, что его подлинная жизнь может быть дана ему только как дар» [12]).

Дар — противоположность проекту, ибо последний всегда уже предполагает фетишизацию некой «преимущественной» формы данности, тогда как первый — открыт для трансформаций. Радикальный поэзис Незнайки выглядит совершенно неуместным в земном обществе тотального изобилия, где никому не нужны летающие рыбы и стихи без рифмы и смысла, но сколь востребован оказывается таковой на «внутренней Луне», этой сущностной изнанке «земного рая» (Незнайка может жить лишь там, где, по формуле Д. Джармуша, будет «страннее, чем в раю»), где бессмысленно вовсе не то, что и вправду лишено смысла (даже напротив: всегда пользуются спросом «непонятные» картины, ибо те, кто их покупают, вовсе не желают, чтоб «какой-то художник чему-то там их учил»; модны также вечеринки с приглашениями, где среди прочего обещается, что «будут разломаны двенадцать кресел, четыре дивана плюшевых, два рояля, раздвижной стол и разбиты все окна» — короче говоря, псевдо-потлаческий дух «демонстративного потребления», в котором рефлектируется всеобщая дефицитарность лунного образа жизни) — нет, бессмысленно там единственно то, что «бесполезно», т.е. не может послужить источником получения прибыли! Так, невозможно не заметить, насколько внешним, преходящим оказывается для Незнайки предприятие по доставке на Луну семян гигантских растений — при этом речь вовсе не идет о безответственности, напротив: в
Незнайка свято следует заветам Гоголя, этого первого русского на Луне — помните его озабоченность судьбою этого «необыкновенно нежного и непрочного» тела в случае столкновения с Землей? Носов тонко подчеркивает, что и внутри Луны (место, которое тамошние жители, естественно, считают Землею) Незнайка оказывается лунатиком. Трансцендентальный лунатизм, если следовать Гоголю, заключается в желании спасти Луну как место обитания наших носов от «тяжелой» земной материи; будет ли натяжкой заключить, что речь идет об озабоченности судьбою особого рода опыта — опыта, цель которого не здравомысленное извлечение «полезных свойств» предметов, но всегда только с ума сводящее своей неуместной самодостаточностью приобщение к «сути вещей» (каждая продуцирует миры, а не располагается «в мире»?). Вот, например, типичная сценка из вполне себе «лунной» жизни («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»):
«– Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька! — сказал Григорий Григорьевич.
Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?
— Вы водку пили? — спросила старушка.
— Вы, матушка, верно, не выспались, — сказал Григорий Григорьевич: — кто ж спрашивает гостя, пил ли он? Вы потчуйте только, а пили ли мы, или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу, золототысячниковой или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывшем весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке.
Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ей хорошенько во рту, после чего уже проглотил и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу.
— Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?».
Наверное, такого рода события-встречи порождают затем ритуалы, как машины поминовения невоспроизводимого (того, что способно обитать лишь на Луне). Луна — это карнавал, где всякая «сценка» работает сама на себя, по своему распределяя и перераспределяя роли (оттого и могут там жить одни только «носы»): слова и вещи, имена и отчества, огурцы и опеньки, друзья и соседи, дочки и матери — все приглашены на бал к Ее Величеству Рюмке Водки, вокруг которой и кружат в своем немыслимом танце… Закон этой сцены — «ученое незнание», как принцип прозревания абсолютного максимума непосредственно через событие единичной сущности; или, согласно гениальной формуле Бруно Шульца: «Всякому жесту — свой актер!». Противоположность этому — «ад», который Николай Кузанский описывает как «темный хаос пустой возможности», прибавляя: «Мучительность такой жизни превосходит все, что только можно вообразить: ведь это значит жить в смерти, существовать в небытии, мыслить в безмыслии» [13].
Таким образом, Незнайка своим способом бытия как нельзя лучше выражает сущность коммунизма, который есть, согласно знаменитому определению из «Немецкой идеологии», «не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность», но то «действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние» [14]; а следовательно, картина общества, где «никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли», где есть «возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» [15], играет роль не более чем структурного фантазма, формально необходимого, но содержательно — вполне произвольного. «Противоречие», воплощенное в этой сущности, не подлежит разрешению, оно есть «неопосредуемый парадокс» (Кьеркегор), что так здорово схвачено в словах одного из персонажей Жана-Люка Годара: «С коммунистами я готов идти до самой смерти, но дальше — ни шагу» (или, еще лучше — в словах Великого Комбинатора: «Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно!»). Вот и для Незнайки Земля, где «все ладно», это даже не стартовая площадка, а пересадочная станция, консервативный элемент радикального приключения.
«Наконец он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную Землю.
— Ну вот, братцы, и все! — весело закричал он. — А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие!
Вот какой коротышка был этот Незнайка».
[1] См.: Кукулин И. Игра в сатиру, или Невероятные приключения безработных мексиканцев на Луне// Веселые человечки: Культурные герои советского детства: Сб. статей/ Сост. И ред. И.Кукулин, М.Липовецкий, М.Майофис. М., 2008. С. 228.
[2] Загидуллина М. Время колокольчиков, или «Ревизор» в «Незнайке»// Там же. С. 207.
[3] Там же. С. 215.
[4] Кац Р.С. История советской фантастики. — 3-е изд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004. С. 145-146.
[5] Там же. С. 146.
[6] Ср.: «Однако построение книг о Незнайке никак не исчерпывается ориентацией автора на модель утопического текста. Жанр романа приключений неизбежно заставляет автора обращаться к динамичным сюжетным структурам, разрушающим застывшее время утопии. Традиционная утопия всегда статична: идеальный мир достаточно просто подробно описать» (М. Загидуллина. Там же. С. 206).
[7] Ср.: «Это страна вечных детей, которые никогда не вырастут из своего (примерно) восьми-девятилетнего возраста. Жизнь в этой стране налажена раз и навсегда. Проблемы, возникающие перед героями, разрешаются с помощью освоения пространства, но не времени» (Там же. С. 206).
[8] Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2000. С. 38.
[9] Ср.: «В текстах Носова очевидна прозрачная, проницаемая граница между “идеальным” и “катастрофическим”. Любой позитивный момент, любое достижение в мире малышей и малышек чреваты печальными последствиями для отдельно взятых героев. Стоит вспомнить отношение героев к изобилию — например, пожираемые молью горы натасканных из “магазина” шерстяных костюмов (история Пончика, рассказанная в начале “Незнайки на Луне”) или неостановимое обжорство. Казалось бы, Носов борется с “пережитками прошлого”, но в действительности он освещает “светом естественного разума” детские мечты и представления. Давай помечтаем! — как будто говорит он и тут же наводит на эту мечту микроскоп, под которым видно, как милое сердцу мечтателя явление оскаливает хищные зубы. Опрокидывание идеала в катастрофу становится школой для читателя, своеобразным адаптивным экспериментальным полем» (Загидуллина М. Там же. С. 220).
[10] Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб., 1997. С. 231-232.
[11] Можно пофантазировать, что если бы Носов написал третий том «Незнайки», то в нем Знайка в
[12] Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия// Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Т. I-II. М., 2004. С. 29.
[13] Николай Кузанский. Об ученом незнании// Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1979. С. 172.
[14] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 3. М., 1955. С. 34.
[15] Николай Кузанский. Об ученом незнании// Николай Кузанский. Соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1979. С. 172.
В основу текстов о Незнайке, опубликованных в Кабинете Ш, легли выступления в рамках семинара «Экономика и культура» Центра исследований экономической культуры Факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Руководитель — Д.Е. Расков. Тема встречи — «Незнайка на Луне» Николая Носова как путеводитель по капиталистической культуре.
