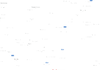Татьяна Никольская. Стиляги и стилевики: к истории одной ленинградской субкультуры
Весь прошлый год исследовательница русского и грузинского авангарда, мемуаристка и литературовед Татьяна Львовна Никольская читала в «Порядке слов» лекции в авторском цикле «Театрализация жизни и авангардное поведение. Россия/Грузия, первая половина XX века». Первую лекцию цикла — о стилягах и стилевиках — мы решили выпустить в серии «Петербургский текст» специально ко Второму Санкт-Петербургскому международному книжному фестивалю «Ревизия», который пройдет с 5 по 8 сентября 2019 года на острове Новая Голландия.
Небольшой гид по фестивалю можно посмотреть в нашем телеграме.
В этом году для серии «Петербургский текст» мы выбрали трех петербургских авторов, тексты и биография которых стали частью мифологии города: прозаик 1920–1930 годов Леонид Добычин, культовый киновед и режиссер девяностых Сергей Добротворский и исследовательница ленинградских субкультур 1950–1960-х Татьяна Никольская. Отдельным проектом внутри серии, осуществленным совместно с Библиотекой для слепых и слабовидящих, стало стихотворение Николая Олейникова, набранное шрифтом Брайля.
Это издания удобного карманного формата выпущены небольшим тиражом и распространяются бесплатно в «Порядке слов», а также на других культурных площадках города, в барах и кафе.

Стиляги и стилевики: к истории одной ленинградской субкультуры
Стилягу классического образца я видела только один раз, в конце 1950-х. Мы шли в кинотеатр «Хроника» на Невском с классной руководительницей Софьей Давыдовной, и на углу Невского и Литейного Софья Давыдовна резко сжала мне руку и прошипела: ¬ «Смотри, стиляга!» Я увидела проходившего мимо юношу, одетого, как на плакатах «Боевого карандаша», которые вывешивались в витрине около кинотеатра «Титан» на нечетной стороне Невского. На молодом человеке был длинный зеленый пиджак, укороченные брюки-дудочки, контрастировавшие по цвету с пиджаком и носками, туфли на очень толстой подошве, длинный галстук с крупным рисунком. На голове возвышался тщательно уложенный кок. Народу днем на Невском было много, на стилягу поглядывали, но никаких реплик вслед не отпускали.
В
Мне хочется подробнее рассказать о ранних ленинградских стилягах, определявших себя как «стилевики» и название «стиляги», вошедшее в обиход позднее, отвергавших. Они считали, что термин «стиляги» относится к тем, кто появился в период хрущевской оттепели и московского Фестиваля молодежи и студентов 1957 года, когда носить яркую одежду и слушать джаз стало практически безопасно.
Как пишет продюсер и ведущий радио Би-Би-Си Леонид (Лео) Фейгин, принадлежавший к последнему поколению ленинградских стиляг, у его старшего брата Ефима (Фимы) Фейгина «была компания самых первых стиляг. Помню человека по имени Кирилл. Он ходил в форме чешского офицера, где он ее достал, одному Богу известно». «Все началось, — вспоминает Ефим Фейгин, — с Валентина (Вальки) Тихоненко, однорукого молодого человека, водившего мотоцикл. Он первым начал носить прическу с коком. Этот высокий кок он скопировал с исландского моряка — они заходили в порт. Прическа была тщательно выполнена и выглядела потрясающе. Он носил туфли на толстой подошве, сделанные сапожником по заказу. У него было много последователей, подражателей. Он был настоящим антисоветчиком и не сел в тюрьму только потому, что потерял руку на войне. Он придумал, как популяризировать западную моду, и сам был очень популярен на Невском».
Возникновение первых стиляг совпало по времени с периодом холодной войны, начавшейся в 1946 году. Одним из ее проявлений стала борьба с космополитизмом в литературе и искусстве, которая коснулась и джаза. Во время Великой Отечественной войны джаз-оркестры выезжали на фронт для поднятия боевого духа солдат, была даже выпущена пластинка джазовой музыки под названием «Британский союзник». У песен Утесова «Барон фон дер Пшик» и «Мы летим, ковыляя во мгле» были западные оригиналы, и они пользовались огромным успехом. С 1946 года джаз был запрещен, расформированы почти все джаз-оркестры, а оставшийся оркестр Утесова переименован в Государственный эстрадный оркестр РСФСР. На концертах Утесов произносил полностью новое название и неизменно добавлял: «В девичестве — „Джаз“».
На экранах советских кинотеатров в военные годы демонстрировались трофейные западные фильмы, в которых звучало много джазовой музыки. Например, английский фильм «Джордж из
Ленинградские стиляги каким-то образом достали копию этого фильма и сельскую киноустановку и устраивали платные сеансы по рублю для «своих» и по 15 рублей для детей торговых работников. Юные стилевики копировали манеру игры актеров, благодаря чему пользовались успехом у дамского пола. Историк джаза Владимир Фейертаг вспоминает, что показы проходили в большой квартире на улице Пестеля, у сына известного гинеколога Лени Абрамсона. Попасть туда можно было только по рекомендации. Стиляга Владимир Яцкевич пишет: «Известность Леня приобрел еще в молодые годы, когда достал сельский проектор и три фильма — „Серенада солнечной долины“, „Сестра его дворецкого“ и „Джордж из
Играть джазовую музыку на открытых площадках в период борьбы с космополитизмом, да и позже, до второй половины 1950-х годов не разрешалось: она клеймилась как идеологически чуждая. В качестве тяжелой артиллерии критика использовала очерк Максима Горького 1928 года «О музыке толстых», опубликованный в газете «Правда». Пролетарский писатель рассматривал джаз как
Исполнение более одного фокстрота или танго, переименованных соответственно в «быстрый танец» и «медленный танец», могло повлечь неприятности для музыканта. Самой известной танцплощадкой города долгое время оставался Мраморный зал дворца культуры им. Кирова, в который, в частности, приходили и стиляги. Они, наряду с хулиганами, оказывали, по мнению фельетонистов, тлетворное влияние на молодежь. После фельетона «Сорная трава», опубликованного в газете «Вечерний Ленинград» в 1954 году, западный джаз можно было слушать только на закрытых вечерах, где, как правило, выступали самодеятельные оркестры. Об одном из таких вечеров, организованном в 1955 году студентами пятого курса Военмеха с участием самодеятельного оркестра Станислава Пожлакова, председатель комитета комсомола А. Толмачев писал: «Музыканты попросили несколько десятков пригласительных билетов, по которым прошли их друзья стиляги. Ближайшие подступы к оркестру быстро заняли молодые люди со всевозможными коками, надменными лицами, в узеньких брючках». Автор упрекает оркестр в том, что даже популярные мелодии давались в джазовой аранжировке. Он называет фамилии стиляг и призывает гнать в шею, как самих бродячих музыкантов, так и их друзей, «обожателей и совратителей, которые развращают вкусы нашей молодежи». Однако количество самодеятельных джазовых оркестров постоянно увеличивалось, и уже через три года критики сетовали, что эти оркестры заняли все возможные ниши в городе, включая универмаг «Пассаж».
Послушать джазовую музыку и можно было и в ресторанах. Известный стиляга 1950-х годов Арсений Березин писал: «В „Европе“ на гитаре играл Джон Данкер, а на саксофоне — Орест Кандат, в „Астории“ за фортепьяно сидел Анатолий Кальварский и от души импровизировал бибоп, закрыв глаза». Другим источником были джазовые радиопередачи
На Невский проспект, он же Бродвей (или сокращенно Брод), стиляги выходили практически каждый вечер. Здесь можно было увидеть знакомые лица, других посмотреть и себя показать, похвастаться обновкой, получить информацию о новых пластинках и радиопередачах, познакомиться. «В 1950-е годы я ходил на Бродвей — так называли четную сторону Невского от Литейного проспекта до улицы Маяковского. Я знал в лицо почти всех завсегдатаев вечернего Невского, — пишет музыковед Фейертаг, — иногда знакомились, встречались на квартирах. В то время отдельных квартир было мало, но мы находили и, конечно, слушали джаз, танцевали под джаз».
Стоит напомнить, что жаргон стиляг был позаимствован именно у джазовых музыкантов-лабухов. Друг друга стиляги называли «чуваками» и «чувихами», гулять по Невскому переводилось как «филять по Броду». Ряд слов пришел из английского языка, например, «олдовый», «шузы», «дринкать» (выпивать), «траузеры» (брюки). Впоследствии некоторые слова вошли в общий молодежный жаргон, а некоторые, например, «бердять» (есть) или «бораться» (заниматься сексом, трахаться) — канули в Лету.
Время от времени по Невскому проспекту проходили рейды добровольных комсомольских дружин, помогавших милиции. Иногда они отводили стиляг в штаб, где разрезали узкие брюки и остригали коки. Однако чаще их просто фотографировали, а затем фотографии с обличительными подписями печатали в газетах. Например, в газете «Смена» от 29 мая 1954 года был опубликован отчет об одном из таких рейдов под названием «Мусор» с фотографией стиляги Валентина Тихоненко, стоящего у зеркальной витрины магазина. Точнее, была сфотографирована его прическа: «Через всю голову бежит невообразимый хохол. Он называется не то гонзасским, не то техасским». Подпись под фотографиями гласила: «Пусть посмотрят на вас студенты и преподаватели, ваши соседи, знакомые и совсем незнакомые. Вряд ли какие-то чувства кроме омерзения и презрения выразят они, глядя на этот снимок». Участники рейда А. Островский и Д. Мамлеев призывали к борьбе с носителями ультрамодной одежды: «Мода меняется, но стиль остается, и он один — это стиль попугаев. С ним нужно бороться, срывать пеструю одежду со стиляг и выводить их на чистую воду». Валентин Тихоненко вспоминает, что после статьи в газете «Смена» и
По своему социальному составу стиляги были разнородны. В Ленинграде, в отличие от Москвы, реже встречались дети богатых родителей — партийной номенклатуры или торговых работников, но чаще дети представителей интеллигенции, инженеров и преподавателей. Арсений Березин утверждает, что среди ленинградских стиляг было много детей репрессированных. Всю эту молодежь объединяло стремление разнообразить свою жизнь яркой одеждой, выделиться из толпы, слушать американский джаз. Алексей Козлов в книге «Козел на саксе» делит стиляг на три категории: «золотая молодежь», «убежденные чуваки» и пижоны, увлекавшиеся только модой. Выше всех в этой иерархии он ставит «убежденных чуваков», которые верили в западную культуру. Самые рискованные из них — держали дома запрещенную литературу, слушали постоянно джаз, интересовались импрессионистами, экспрессионистами, абстракционистами. Лидер ансамбля «Арсенал» пишет о московских стилягах, но «убежденные чуваки», конечно, существовали и в Ленинграде.
К ним в начале 1950-х годов принадлежал, к примеру, Арсений Борисович Березин, ныне известный физик, автор рассказа «Майк-плантатор», в котором он описал свою компанию ленинградских стиляг: «Раз в неделю Майка отпускали из казармы. Он приходил домой, снимал с себя все синее и полосатое, надевал узкие горчичные „дудочки“, надевал клетчатый пиджак, повязывал шею косынкой или накидывал на нее кожаный шнурок с серебряными кончиками, водружал на голову широкополую шляпу — стетсон — цвета прелого сена и выходил прошвырнуться на Бродвей. Там уже кучковались друзья и приспешники: Файма по прозвищу Аскарида в обмороке, Же-Ба-Ри — Культурист, Боб — Граф Парижский, Кира Набоков — дальний родственник никому не известного писателя. Навстречу прогуливались другие узкобрючники — Юра Надсон, он же Дзержинский, Чу-Чу-буги — танцор Владимир Винниченко и Жора Патефон — знаменитый коллекционер джазовых пластинок. Все это были стиляги». Автор вспоминает, что Майк при первой же встрече поинтересовался, читал ли он Хемингуэя, Дос Пассоса и Селина. Услышав отрицательный ответ, он посоветовал ему записаться в библиотеку Дома ученых.
Из стиляг чаще других мемуаристы вспоминают первого ленинградского культуриста Женю Борисова, экзотическую личность, известного также как Граф Жебори. Напомним, что культуризм, как и карате, находился в СССР под запретом. Арсений Березин и Ирина Цимбал также рассказывали о белокуром, похожем на Есенина, стиляге Юрии Надсоне, родственнике поэта Семена Надсона по материнской линии и одновременно пасынке композитора Ивана Дзержинского. Юрий Надсон учился на филологическом факультете Университета, откуда был исключен, затем восстановился, вскоре перешел на юридический факультет, закончил его и стал работать в МВД, где занимался делами стиляг и фарцовщиков.
О Файме Фейгине я впервые услышала от Мии Гильо, которая в начале 1950-х годов была девушкой стиляги Боба, упоминавшегося в рассказе «Майк-плантатор». По словам Мии (друзья называли ее Микой), в одном из фельетонов про стиляг они фигурировали как «Боб со Смикой». В 1952-1953 годах Боря и Мика тесно дружили с Фимой, которого называли Файма. Он закончил физкультурный институт им. Лесгафта, работал тренером. В этом же институте работали его родители. Отец был преподавателем, во время войны он попал в плен, бежал, участвовал во французском Сопротивлении, уже из Англии вернулся в Советский Союз. Жена с двумя сыновьями — Ефимом и Леонидом — поехали встречать пароход с возвращенцами. Они увидели, как отца вывели под конвоем. Только через двенадцать лет, после реабилитации он вернулся к семье и продолжил работу в институте Лесгафта. Мама Фимы-Файна работала в библиотеке института. В начале 1950-х в библиотеке прошла чистка. Книги, которые запретили к выдаче читателям, складывали в отдельной комнатке. В это помещение Фима мог заходить как сын библиотекаря и водил туда близких друзей. Они брали «вредные» книги для прочтения, а потом возвращали. Так Мика прочла роман «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина, вышедший в русском переводе в 1934 году. Книга произвела на нее сильнейшее впечатление. Прочла она и роман Джона Дос Пассоса «42-я параллель», опубликованный на русском в 1931 году.
Стилевики ходили по Невскому в одежде, которую шили сами, фарцовщики появились позже, да и денег у студентов совсем не было. По воскресеньям в 12 часов дня ходили в гости к Арсению Березину и слушали у него по приемнику джаз из Швеции. Американская передача «Час джаза» с ведущим Уильясом Коновером стала выходить только в 1955 году. Приемник был большой ценностью: когда Мике кто-нибудь давал на прокат приемник, все собирались у нее и часами танцевали.
Брат Фимы — Леонид в своей мемуарной книге «All that jazz. Автобиография в анекдотах» характеризует Фиму как блестящего знатока русской литературы и поэзии: «На Невском, как мы говорили — на Бродвее, брат встречался с себе подобными юношами и девушками, которые своим внешним видом, манерой говорить и одеваться очень отличались от простых советских граждан. Все они были интеллигентнейшими, эрудированными, начитанными, талантливыми людьми, жадно ловившими любую информацию, пробивавшуюся с Запада. Это первое послевоенное поколение не интересовалось политикой. Они запоем читали Селина, Марселя Пруста и все, что случайно проскакивало сквозь сети жесткой цензуры. Они смотрели американские трофейные фильмы и слушали джаз. Меня всегда поражала их смелость: страна ковала чугун под громкие лозунги и марши, а вся эта компания умудрялась существовать вне системы. Интуитивно ощущая ее фальшь, они слово бросали вызов всей советской действительности». Лео Фейгин вспоминает, как по воскресеньям компания брата собиралась у культуриста Жени Борисова. У Графа Жебори была большая комната на улице Рубинштейна, а главное — трофейный радиоприемник, по которому они слушали джазовую программу финской службы Би-Би-Си. После программы все это собрание вываливало на Бродвей обмениваться впечатлениями.
Среди друзей брата Леонид Фейгин выделяет юного Рому Каплана, которому было в 1953 году 16 лет. Он характеризует его как блестящего знатока литературы, поэзии и кино. Через десять лет Роман Каплан стал героем фельетона Н. Медведева «Навозная муха». Несмотря на то, что он работал на двух работах (преподавал английский язык и водил экскурсии), его хотели выселить из Ленинграда, а над его родителями и братом устроили общественный суд. Судьями были комсомольцы завода «Электросила». Романа обвиняли в низкопоклонничестве перед Западом, продаже иностранцам абстрактных картин молодых ленинградских художников (Алексея Хвостенко и Олега Целкова), фарцовке, а главное — повседневном общении с иностранцами, вплоть до сожительства с некими дамами
Харизматической фигурой среди стилевиков все считали саксофониста, знатока и коллекционера джазовой музыки Георгия Фридмана. Он был удостоен фельетона «Сорняк» в газете «Смена» еще в 1952 году, при жизни Сталина! Фельетон написал, как гласила подпись, некто В. Иванов, студент Ленинградского университета им. Жданова. В фельетоне сообщалось, что «Жора Фридман, сменивший за короткое время много учебных заведений, в том числе институт физкультуры [отсюда, видимо, знакомство с Фимой Фейгиным — прим. автора] и стоматологический, в настоящее время учится в музыкальном училище при консерватории, очень хорошо разбирается в джазовой музыке, но едва ли слышал хоть раз „Пиковую даму“ или „Евгения Онегина“. Жора любит ходить в рестораны, а когда денег нет, то на танцы в Мраморный зал или Дом культуры работников связи. Каждый вечер он фланирует по Невскому от Литейного до Московского вокзала и обратно, встречает других молодых людей, бесцельное шествие которых напоминает выставку велюровых шляп, замысловатых галстуков, модельных причесок и укладок». Из знакомых Фридмана автор фельетона упоминает Петра Лейбмана и школьника Юру Дзержинского (Надсона). Фельетон заканчивается сентенцией: «Праздношатающиеся бездельники типа Жоры Фридмана — редкие музейные экспонаты прошлого! Такие сорняки позорят советскую молодежь».
Георгий Фридман оказывал сильное влияние на окружающих. Всегда красивый, элегантный, спокойный, с мягкой улыбкой — таким его запомнила книговед магазина «Букинист» Валентина Костылева, куда он часто приходил вместе с Геннадием Гольдштейном и Родионом Гудзенко. В отличие от обладателей одной модной вещи, у Фридмана был весь джентельменский набор: и пиджак, и брюки, и галстук, и туфли на толстой подошве. Валентин Тихоненко вспоминает, что всю одежду Жоре шила мама: «У него мать была очень культурная женщина, добрая такая, домовитая. Она очень хорошо шила. Все его костюмы — совершенно роскошные, я считал, что он был стилягой номер один. Это мама его шила, надо было только материал купить».
Жора Фридман открыл саксофониста Геннадия Гольдштейна. Услышав однажды игру студента дорожного техникума, он посоветовал Гольдштейну сделать музыку основной профессией. Вскоре они оба играли на саксофонах в любительском оркестре, а с 1958 года работали в оркестре Иосифа Вайнштейна, который приютил в свое время многих стиляг. Фридман вспоминает, что ему был необходим штамп в паспорте, чтобы не выслали из города за тунеядство, поэтому он устроился на постоянную работу к Вайнштейну. В 1957 году Георгий Фридман проходил свидетелем по делу своего друга художника Родиона Гудзенко, обвиненного по статье 58.10 «Антисоветская пропаганда и агитация». Дома у музыканта был проведен обыск, перед обыском он успел спрятать чемодан с пластинками у Березина, напугав его родителей, затем перепрятал пластинки в лесу. В последствии Жору месяц продержали под арестом за попытку переплыть Финский залив и сбежать в Финляндию. «Меня не пытали, но нервы потрепали изрядно», — вспоминал он. В 1960 году художник Родион Гудзенко освободился из лагеря и вернулся в Ленинград, на зоне он подружился с литовским ксендзом Альгирдасом Моцюсом, отбывавшим срок за веру, и принял католичество. Вслед за художником приняли католичество Жора Фридман с женой и Геннадий Гольдштейн. Жора Фридман стал отцом Георгием и с 1979 года служил в соборе Святой Екатерины на Невском проспекте, Геннадий Гольдштейн был его прихожанином. Лишь несколько лет назад отец Георгий вышел на пенсию.
Женщины-стиляги были известны в основном как жены или подруги. Мия Гильо вспоминает о Люсе Мэм (Машуне), подруге Жоры Фридмана, ставшей его женой, и Тане Волынкиной, подруге Березина. Кинорежиссер Александр Шлепянов рассказывает о своей жене Нине, носившей стиляжную прическу «венчик мира» и юбку с разрезами, которую ей сшила мама по выкройкам из польских журналов, она неизменно вызывала раздражение у комсомольских патрулей.
Говорят, что самой яркой из
Вызывающе одетым стилягам, расцвечивающим свою жизнь и эпатирующим окружающих, подобно русским кубофутуристам, совершавшим костюмированные прогулки по городам России, были не чужды и другие способы театрализации жизни. Самой распространенной была игра в иностранца. Арсений Березин в рассказе «Майк-плантатор» пишет: «Комсомольские патрули обычно ошивались на улице у входа [у ресторана „Европа“ — прим. автора]. Но мы с ними были предельно вежливы, переводили Майку, косившему под иностранца, с русского на английский их вопросы, сажали его в такси, прощались с патрулем и дружной стайкой уходили в сторону Невского». Анатолий Кальварский вспоминает, как один из стиляг регулярно выходил на Невский с раскладушкой и спрашивал у всех встречных: «Нет ли свободной хаты?» Художник Михаил Беломлинский, посещавший джазовые вечера в комнатке одного коллекционера джаза, который страдал клептоманией и выгребал мелочь из карманов пальто гостей, рассказывал такую историю: «Гости однажды сговорились и сами вытащили содержимое, а вместо мелочи и носовых платков положили в карманы записки „Сегодня ничего нет“. Вышедший в прихожую за уловом хозяин вернулся в комнату весьма раздосадованным». Алексей Козлов описывает популярную игру московских стиляг «очередь». По условиям этой игры за ничего не подозревающим старичком выстраивалась очередь, которая следовала за ним по улице Горького. Если старичок замечал «хвост» и начинал ругаться, то очередь рассасывалась, но через некоторое время возникала опять.
С середины 1950-х годов, после смерти Сталина, давление властей и подначиваемой ими общественности на стиляг стало постепенно смягчаться. Поворот произошел после поездки Хрущева в Америку в 1956 году. По возвращении из страны кукурузы Первый секретарь на Пленуме ЦК КПСС публично заявил, что нигде в мире, кроме Советского Союза, не носят таких широких брюк, и посоветовал промышленности, поскольку узкие брюки экономичнее по расходам материала, перейти на их производство. В прессе стали появляться фотографии моделей в молодежной одежде и даже критические материалы об однообразии ассортимента в ленинградских магазинах, а затем и статьи о домах моды в странах народной демократии. Послабления касались и манеры танцевать. Хотя в начале 1960-х еще случались инциденты, когда танцующих рок-н-ролл удаляли с танцплощадки, объявляя в рупор: «Пожалуйста, покиньте танцплощадку за искривление рисунка танца!»
После Фестиваля молодежи и студентов 1957 года удивить жителей больших городов яркой одеждой стало труднее. А среди самих стиляг произошло расслоение на поклонников американской моды — «штатников», к которым принадлежали в основном музыканты, и «бундесов», ориентировавшихся на Западную Германию, также существовали «юги», одевавшиеся во все югославское, и последователи финской моды в Ленинграде, у которых была возможность покупать одежду непосредственно у финских туристов, хотя за это им и грозило тюремное заключение.
Во второй половине 1950-х в Советском Союзе начали появляться записи рок-н-ролла на использованной рентгеновской пленке, так называемые «записи на костях». Внимание идеологов переключилось со стиляг и джаза на фарцовщиков и борьбу с
Все участники событий утверждают, что стилевики — это не организованное движение, а субкультура, состоявшая из маленьких кружков, представители которой узнавали друг друга по внешнему виду на Невском. Общим для всех было увлечение джазом, западной модой, а для некоторых западной литературой XX века и французской живописью, мало известной в то время широкой публике. Арсений Березин вспоминает об одной большой компании, объединявшей молодежь не по профессии, а по интересам. Например, музыкальные стилевики дружили со