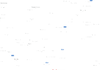Михаил Ямпольский: Без будущего. Культура и время
Пару недель назад в издательстве «Порядок слов» вышла новая книга
историка, философа, киноведа и теоретика культуры Михаила Ямпольского «Без
будущего. Культура и время».
Нашу эпоху, считает автор, характеризует ускоряющееся производство прошлого. Обращаясь ко множеству мыслителей, от Хайдеггера до Башляра, он подробно описывает процесс «утраты будущего» и превращения его в разрастающееся настоящее. Отдельно автор останавливается на том, какую роль в восприятии времени играют ритм и полиритмия, и на истории искусства, для которого воплощением неопределённого настоящего является музей. С некоторыми сокращениями мы публикуем фрагмент первой главы книги.

1. Утрата будущего
Интенсивное и ускоряющееся производство прошлого, исчезновение актуального и направленного в будущее характеризует нашу эпоху. Но прошлое, которое откладывается в музеях, архивах и мемориалах, может быть двояким. Оно может входить в состав того, что в обществе понимается как история, а может и не находить в ней места. Чтобы стать частью истории, недостаточно занимать место на хронологической линейке событий. Как показали Зиммель и Хайдеггер еще в начале XX века, дата события не имеет для историка существенного значения. В лекции 1915 года «Понятие времени и историческая наука» молодой Хайдеггер говорил: «Обращаясь к понятию “голод в Фульде в 750 году», историки ничего не могут поделать с простым числом 750. Как количество, как некое определенное место в числовом ряду от 1 до бесконечности или как число, делимое на 50, оно не представляет для них интереса. Число 750 или любое другое историческое число для науки истории имеет значение только по отношению к исторически значимому содержанию. ‹…› Когда я спрашиваю об историческом событии [Ereignis] «когда”, я спрашиваю не о количестве, но о его месте в качественном историческом контексте»[1].
Иначе говоря, прошлое событие может вписаться в историю только тогда, когда оно занимает место в определенной смысловой конфигурации некоего периода. А это значит, что история представляется нам не линейным континуумом, но некой наделенной смыслом совокупностью событий и фактов. Историки, по мнению Хайдеггера, интересуются прежде всего «объективацией духа в течении времени»[2]. Как мы видим, определение это в значительной мере предвосхищает формулировку Таубеса. Если же то или иное событие не может вписаться в конфигурацию, которую принимает эта «объективация духа», оно остается в странном чистилище не востребованного историей прошлого. Я называю это чистилище памятью.
В полном согласии с Хайдеггером и примерно в то же время Георг Зиммель говорил о том, что событие, чтобы вписаться в историю, должно обладать внятной атомарностью, отличимостью и индивидуальностью. Только такие атомарные события могут войти в структурные смысловые взаимодействия с другими событиями. Он писал: «Можно сказать: событие является историческим, если по объективным причинам, не имеющим никакого отношения к их положению во времени, оно занимает отчетливую и неизменную позицию во времени. Так, то, что некая реальность существует во времени, не делает его историческим; как и то, что оно подвергнуто пониманию. Она становится исторической лишь тогда, когда оба эти измерения накладываются друг на друга и когда эта реальность темпорализируется пониманием вне времени»[3].
Это замечание Зиммеля перекликается с наблюдениями Хайдеггера, но добавляет к ним важный момент. Историзация прошлого происходит не только из будущего, но и из момента приостановленного времени, позволяющего собрать атомарные факты в констелляцию. Приостановка времени — важный аспект историзации. Но именно необходимость совместить смысловую констелляцию со шкалой времени делает невозможной историзацию огромного массива произошедшего. В качестве примера Зиммель приводит битву при Цорндорфе (вполне сравнимую с голодом в Фульде), случившуюся в 1758 году. Сама эта битва между русской и прусской армиями, понимаемая как некая атомарная смысловая тотальность, легко вписывается в историю семилетней войны, в то время как «подлинное» (а не сконструированное) событие поединка или гибели двух солдат под Цорндорфом выпадает из истории. Зиммель говорит в связи с этим о фрагментации, когда из факта «исчезает характер живого единства, соединяющего вместе начало и конец хронологической таблицы»[4]. Факт поединка двух солдат становится не историческим событием, но элементом индивидуальной памяти, выпадающим из любой хронологии и истории как смысловой структуры прошлого и настоящего.
Массовая архивация прошлого сегодня производит все большее количество таких не входящих в исторический нарратив фактов и артефактов. При этом некоторые из них (как миллиарды любительских фотографий) относятся к индивидуальной памяти и заполняют индивидуальные архивы, а многие относятся к тому, что сегодня обычно называют коллективной памятью, которая хранит прошлое, лишь смутно входящее в смысловые структуры историографии. Историк в основном занимается извлечением документов прошлого из архивов и включением их в новые смысловые структуры. Существенно то, что «создание» истории обязательно предполагает наличие некоего виртуального хранилища прошлого вне времени. Я и называю это хранилище памятью, потому что память не знает времени как линейной цепочки событий, как связного нарратива.
Вальтер Беньямин считал, что история должна стать продуктом озарения, в котором смысловая конфигурация задается не метафизическим конструированием историков, но проекцией смыслонесущего мгновения, которое запечатлено в памяти. Именно таким образом память становится историей, и это превращение невероятно важно: «Подлинная картина прошлого проскальзывает мимо. Прошлое можно удержать только в образе, вспыхнувшем на миг в момент его постижения, чтобы больше никогда не появиться. ‹…› Исторически говорить о прошедшем не означает понять то, „как это все было собственно говоря“. Это означает овладеть воспоминанием в момент опасности»[5]. Такой подход позволяет не исключать из истории индивидов, подобных двум солдатам под Цорндорфом, но основать историческое «понимание» на конфигурации памяти, которая, по мнению Беньямина, может вызывать к жизни некую слабую мессианскую силу, способную возродить ушедшие поколения. Институция, переводящая память в историю, — это музей, и, соответственно, он же в глазах некоторых мыслителей оказывается местом воскрешения, возрождения, то есть, если использовать терминологию Таубеса, одухотворения, внедрения духа в мертвую ткань прошлого. В таком ключе понимал историю Жюль Мишле, приписывавший историку функцию воскресителя мертвых. Сходную эсхатологическую модель музея обрисовал когда-то русский космист Николай Федоров, для которого музей — это институция возрождения прошлого, преодоления смерти: «Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления; но именно потому-то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченых; потому музей и представляет утешение для всего страждущего ‹…›. Для музея самая смерть не конец, а только начало; подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Для музея нет ничего безнадежного, «отпетого», т. е. такого, что оживить и воскресить невозможно; для него и мертвых носят с кладбищ, даже с доисторических; он не только поет и молится, как церковь, он еще и работает на всех страждущих, для всех умерших!»[6] Уже в наши дни сходное мнение о музеях высказывал Петер Слотердайк. Согласно этому немецкому философу, эпоха Просвещения положила конец возвращению покойников в виде призраков и духов. Теперь их возвращением ведают музеи, которые старательно отбирают для нас тех, кому разрешено вернуться в мир живых. Музеи оказываются институциями оживления и фильтрования: «…музеи, подобно невротическим симптомам Фрейда, — это компромиссные формации между возвращением и защитой — одновременно возрождением и ликвидацией прошлого. Они находятся в центре взаимоотношений с прошлым, в том неуловимом смысле, что они сопротивляются завоеванию нас мертвецами, вещами прошлого, бывшими и обветшавшими вещами»[7]. И эта стратегия возрождения и сопротивления, если принять ее не просто за готическую метафору или утопию в духе Федорова, реализуется на основе сложного баланса между темпоральным и вневременным, смысловым, духовным и как бы вписанным в движение времени.
С самого появления музеев после Великой французской революции возникла дилемма организации экспозиции как иллюстрации к истории искусства или как коллекции вневременных шедевров, воплощающих в себе абсолютный триумф духа и идеала. Ханс Бельтинг так сформулировал возникшее противоречие: «Желание представить историческое развитие искусства было подорвано тем фактом, что искусством восхищались как воплощением совершенства, которое, как опасались, могло в результате исчезнуть. Ход истории выявлял красоту, которая отличалась от любых претензий на художественное чудо, трансцендирующее историю»[8]. Эта ситуация внеисторичности шедевров (о ней еще пойдет речь в дальнейшем) любопытна, так как отражает странность формирования и сохранения ценности (value) в контексте истории. Альберто Савинио, брат художника де Кирико, в своей книге «Мопассан и „Другой“» рассуждает о Гомере, Данте и Шекспире как о писателях, не способных быть включенными в любую культурную генеалогию. Он говорит о том, что их невероятное величие превратило их в острова, совершенно изолированные от хода истории: «Если бы творчество этих людей, — замечает Савинио, — и одновременно всякое воспоминание об их существовании вдруг исчезли из мира, мир бы потерял в ценности, но его судьба не претерпела бы никакого ущерба»[9]. Шедевры полностью изолированы от истории. Любопытно и то, что Савинио говорит об исчезновении не только самих произведений, но и памяти, связанной с их творцами. Гомер, Данте и Шекспир относятся именно к области, трансцендирующей не только историю, но и память.

История и память, конечно, связаны, но выполняют разные, хотя и взаимодополняющие функции. При этом сегодня они как будто исключают друг друга. Важно также и то, что производство коллективной памяти и производство истории в значительной степени доверены институциям, принадлежащим государству: музеям, архивам, коммеморативным комплексам и университетской историографии. Вообще роль государства в организации коллективной темпоральности и ценностей общества постоянно возрастает и абсолютно уникальна. Государство не только хранит память и «переводит» ее в «историю», оно часто ответственно за переход от вневременного к смысловым структурам. Этот переход чаще всего носит характер «нормализации» прошлого.
<…>
Пьер Бурдьё определил государство как «принцип ортодоксии, консенсус о смысле мира, совершенно сознательное согласие о смысле мира»[10]. В своем курсе лекций о государстве он приводит пример такого государственного консенсуса — всеобщее признание календарей и стандартизированного государством времени, устанавливающие никем не оспариваемый порядок. Но порядок этот только кажется хронологическим, в гораздо большей степени он совпадает с качественным историческим контекстом, о котором говорил Хайдеггер. Это, скорее, всеобщий порядок, чем фиксация движения времени из прошлого в будущее.
Чрезвычайно ярко абстрактно-упорядочивающая роль государства, поддерживающего временную перспективу в будущее, проступает в иных его функциях. Именно государство обеспечивает людей пенсиями, пособиями, образованием, приобретающим значимость лишь по отношению к будущему. Государство озабочено обеспечением роста национального продукта, обеспечением ценных бумаг и надежности банковских кредитов и вкладов. Все это в самом практическом смысле нуждается в вере граждан в будущее.
<…>
Одним из признаков кризиса будущего сегодня как раз и оказывается слабеющая способность государства его обеспечить: силу валюты, надежность облигаций и кредитов, значимость дипломов, уровень пенсий и т.д. Проявлением этой слабости становится и исчезающая харизма лидеров, все менее способных внушать к себе доверие.
Между тем поддержание государством веры в будущее нуждается в утверждении незыблемости самого государства. Будущее оказывается прямо связанным со способностью государства «удерживать» — быть катехоном, преодолевать свой собственный временный характер. Жерар Мере заметил, что современная нация, опирающаяся на идею суверенности, постулирует принцип неизменности этой суверенности, трансцендирующий конечность входящих в нее граждан. А потому государство призвано длиться вечно и создает для себя то, что Мере называет «своего рода искусственной вечностью»[11]. Это, возможно, и есть шмиттовский катехон.
Именно здесь, в земном мире, вдали от эсхатологической перспективы, и обнаруживается функция государства как «удерживающего». Оно может открыть и поддерживать будущее лишь в той мере, в какой оно само находится вне времени, то есть действительно может «пронизывать вечностью ход истории», как говорил Шмитт. Именно тут и начинают играть особую роль острова атемпоральности, которые обнаруживал Савинио в Гомере, Данте и Шекспире. Эти острова атемпоральности я бы назвал культурным наследием.
<…>
Искусство, трансцендирующее время, — незыблемые шедевры — начинает входить в круг объектов, гарантирующих легитимность государства и его функцию катехона. Историческое в государстве удваивается абсолютно внеисторическим. Музеи, как и все, что связано с культурным наследием, оказываются сегодня таким двойником историчности, часто помещающимся в горизонте мифической памяти.
Мне кажется также, что в тот момент, когда государство исчерпывает свои возможности по гарантированию будущего, начинает непропорционально возрастать роль памяти и наследия, этих островов прошлого, не организованных в серии, цепочки и хронологии. Связано это, конечно, с тем, что ослабление гарантии будущего почти целиком смещает акцент на прошлое, на фиктивные основания (исток) государства как главную форму его легитимации. Это хорошо видно в сегодняшней России, где распад горизонта будущего ведет к образованию целого архипелага несвязанных между собой элементов прошлого. Невозможность конструирования «стрелы времени» почти автоматически ведет к возрастанию роли памяти, а также пространства, и даже к подмене будущего простой территориальной экспансией[12].
_____________________________
[1] Heidegger M. The Concept of Time in the Science of History // Journal of the British Society for Phenomenology. Vol. 9. 1978. No 1. P. 10.
[2] Ibid. P. 8.
[3] Simmel G. Le problème du temps historique // Revue de Métaphysique et de Morale. 1995. No 3. P. 300.
[4] Ibid. P. 308.
[5] Беньямин В. О понимании истории // Озарения. М: Мартис, 2000. C. 229–230.
[6] Федоров Н. Музей, его смысл и назначение // Федоров Н. Сочинения. М: Мысль, 1982. C. 578.
[7] Sloterdijk P. The Aesthetic Imperative. Cambridge: Polity Press, 2017. P. 239.
[8] Belting H. The Invisible Masterpiece. London: Reaktion Books, 2001. P. 32.
[9] Savinio A. Maupassant et l’ “Autre” suivi de Tragédie de l’enfance etde C’est à toi que je parle, Clio. Paris: Gallimard, 1977. P. 20.
[10] Bourdieu P. On the State. Lectures at the Collège de France, 1989–1992. Cambridge: Polity, 2014. P. 6.
[11] Mairet G. La Fable du monde. Enquête philosophique sur la liberté de notre temps. Paris: Gallimard, 2005. P. 58.
[12] Шпенглер в «Закате Европы» так объяснял этот феномен: «Экспансивность всякой цивилизации, империалистический эрзац внутреннего, душевного пространства пространством внешним также характерны для нее [диатрибы]: количество заменяет качество, углубление заменяется распространением. Не надо смешивать эту торопливую и плоскую активность с фаустовской волей к власти. Она лишь свидетельствует о том, что творческая внутренняя жизнь пришла к концу и духовное существование может поддерживаться только внешне, в пространстве городов, только материально». Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1998. C. 547–548.