«Тёмный лес»: теория интернета
- Автор: Богна Кониор (Bogna Konior)
- Перевод: Михаил Федорченко
- Оригинал перевода опубликован на сайте Spacemorgue
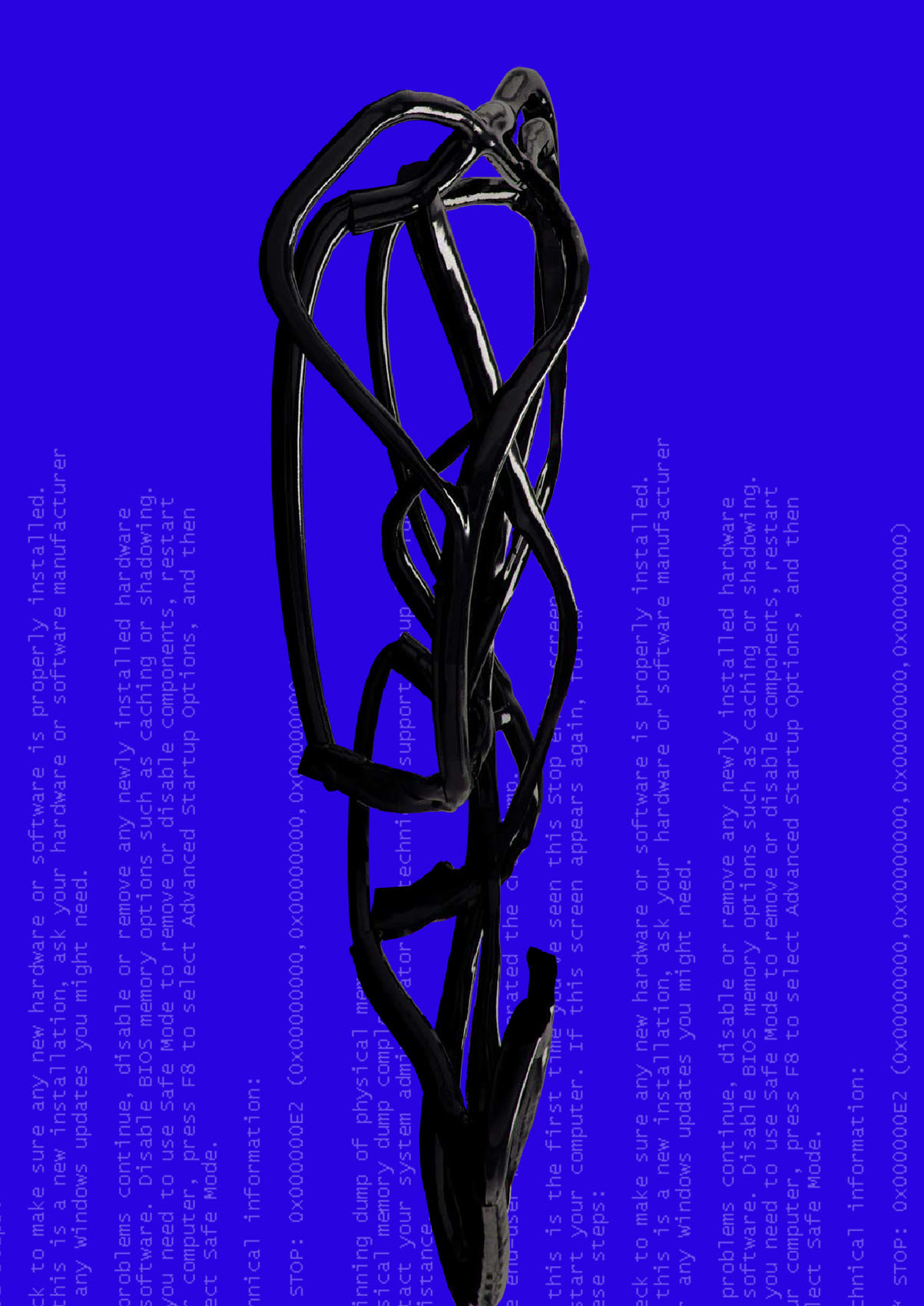
Интернет никогда не был свободным. Расхожий миф о «диком западе» сети был популярен среди хакерских кругов первой половины 90‑х, когда контроль был слаб, а протоколы молоды. Но уже тогда такие мыслители, как Сэди Плант, и в целом киберфеминистские группы стали подмечать тенденцию интернета к централизации, к сосредоточению данных в руках нескольких структур, медиирующих интерсетевую коммуникацию. Операционные системы становились более однородными и универсальными, многообразие предустановленных персональных компьютеров и их архитектур стремительно уменьшалось — наступала монополия IBM и Майкрософт. Анонимные форумы уже не казались настолько анонимными — по цифровому следу возможно было отследить кого угодно и где угодно. Интернет требовал осторожной навигации. А с приходом цензуры, регуляторов и корпораций всемирная сеть стала всемирной ловчей сетью, ведь любое слово или действие моделировало неизбежный фидбек. Осторожность — главное качества дуализма охотника и жертвы в тёмном лесу.
Этот текст Богны Кониор, исследовательницы теории ангелосексуальности и киберэротизма, посвящён двум проблематикам — как мы можем выживать и навигировать в тёмном лесу и что представляет собой фундаментальное свойство космических процессов. Ангел, навигация и кибернетика в целом является связанными терминами — в «Я — математик» Норберт Винер писал, что:
«Я упорно трудился, но с первых же шагов был озадачен необходимостью придумать заглавие, чтобы обозначить предмет, о котором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл «передающий сообщение», но я знал только слово angelos. В английском языке «angel» — это ангел, т. е. посланник бога. Таким образом, слово angelos было уже занято и в моем случае могло только исказить смысл книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово kubernētēs, обозначающее «рулевой», «штурман»… Так я напал на название «Кибернетика». Позднее я узнал, что еще в начале XIX века это слово использовал во Франции физик Ампер, правда, в социологическом смысле». (за наводку спасибо ларюэлевцам)
Поэтому навигация в космосе, столь же тёмном, как ночной лес, это деятельность, сродни мореплаванию по бушующему морю, вопящем о своём существовании. Космос не безмолвен, он находится в состоянии постоянного потока, лежащего за пределами антропоцентрического логоса. Существуют попытки укротить космос, например проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), целью которого является поиск т. н. внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. С течение времени число экзопланет продолжает расти, а парадокс Ферми висит над Вселенной подобно дамокловому мечу обитаемых миров. SETI занимается пассивным мониторингом техносигнатур, электромагнитного спектра, предполагая, что жизнь существует только в пределах знаков и структур человеческой цивилизации. Безуспешность поисков SETI может означать как и то, что «жизнь» находится безмерно далеко от нас, и то, что она пользуется иными фундаментальными законами передачи информации.
Теория тёмного леса Лю Цысиня основана на трёх предпосылках: цивилизации отдают приоритет самосохранению, космические ресурсы ограничены, а конкуренция неизбежна, и что взаимное недоверие препятствует коммуникации. И хотя Богна обещает в своей готовящейся к изданию книге Dark Forest Theory of Internet подробно рассказать об этической и моральной ценности рамок Темного леса — в частности, о его контринтуитивном акценте на мужестве смотреть миру в лицо и действовать в нем, несмотря на его недостатки и провалы, — уже сейчас можно поднять два важных вопроса. Во-первых, она предполагает универсальную роль состязательности и конкуренции в масштабах космоса (симбиотических цивилизаций по такой логике не существует) и во-вторых, что возможно скрыть всю и всякую информацию о цивилизации, термодинамический остаток.
DarkForest (x) → ∀y (Civilization (y) ∧ ¬y=x → ∃z (Threat (z, y) ∧ PreemptiveStrike (x, y)))
С моей стороны я полагаю, что разговор с внеземными цивилизациями возможен через руины, не через пространство, но через время. Мы коммуницируем с людьми и цивилизациями прошлого через руинированные архитектурные комплексы, через тексты и материю, на которой откладывается отпечаток цивилизационного оттиска. Коммуникация для цивилизаций прошлого тоже была экзистенциальным риском, конфликт являлся самым быстрым способом устранить избыточную сложность, обладал негентропическим потенциалом. Теория тёмного леса рассматривает конфликт как диссипацию энтропии, но экспорт энтропии это генерация новых структур. Цивилизации должны взаимодействовать, чтобы стабилизироваться. Изоляция ускоряет энтропийную смерть.
Destroy (x)↔ ψ_Efficiency (x)< Threshold ∧ ∃y (Civilization (y)∧ ψ_Share (y, x))
Тем не менее, важность этого текста в том, что он показывает, что и Интернет, и космос — сложные структуры, подверженные подозрению и хаосу. Не углубляясь в моралистическую панику по поводу ИИ, соцсетей и мира, объятого вооружёнными конфликтами, текст Богны поэтически окаймляет нефилософские аффекты, пронизывающие эти феномены. Проникновение в глаз машины, цифровой секс с кибернетическими посланниками-ангелами, оборачивающийся прекрасным целибатом, усталость, но одновременно очарование либидинальной экономикой соцсетей, попытка найти что-то по-настоящему нечеловеческое в пульсациях чатботов, всемирной сети и космоса.
***
«Куда мы направляемся?» — спросил Ши Цян.
«В самое тёмное место»¹.
Существует кечуанская загадка: El que me nombra, me rompe. Тот, кто назовёт меня, сломает меня. Отгадка, разумеется — «тишина». Но правда в том, что любой, знающий твоё имя, может сломать тебя надвое².
Интернет это тёмный лес. Корни растут вверх, крона тянется вниз: опутав планету, он циркулирует между спутниками и подводными кабелями. Интернет это осязаемое пространство, да, но также и ментальная бездна. Созданная для лунатиков, для будничного бреда. Для жертвенных ритуалов. Люди теряются в нём, освещая не те места, обнажая себя, общаясь импульсивно, безрассудно.
Можно войти через интерфейс, но и через карман. Можно войти через экран, но придётся себя чем-нибудь экранировать. Путник в лесу никогда не одна — глаза обвивают её, как изолента.
На входе в интернет лишь одна простая загадка: О чём ты думаешь?
Загадка, на которую мы вынуждены отвечать вновь и вновь.
Простой вопрос. О чём ты думаешь?
Приглашение для коммуникации.
*
В 1990‑х философское прочтение Марком Фишером киберпанк-романа подарило нам убедительную теорию киберпространства как протеза человечества, кибернетической природы, расширения нашей нервной системы. Для Фишера, подобно героям одурманенной киберпанк-классики Уильяма Гибсона «Нейромант», мы одержимы интернетом; живы лишь настолько, насколько цифровой ток циркулирует в наших венах. Мы лишены воли, инертны, как машины, с которыми сливаемся нейрологически, позволяя им взламывать наши эндорфиновые каналы и социальные импульсы, подсаживаясь на их стимуляторы³. Наши неврозы, эмоции и внимание упорядочены компьютерами. Как в трансе, мы следуем переданным нам коллективным паттернам чувств — коллективный гипноз, волны общего возмущения, страха, гнева, радости, катарсиса, мести, удовольствия. Онлайн даже безличные мировые события проживаются лично, будто мы в них участвуем. Мы интериоризируем всё, не в силах увидеть механизмы, не завязанные на нас. Интернет — клаустрофобия внутреннего мира, лишь притворяющегося нашим. Он «работает не через подавление, а через соучастие… не представляет и даже не «манипулирует» общественным мнением — он подменяет его»⁴. Все действия — реакции, предсказуемые реакции, бесконечные нервные системы, качающиеся в одном ритме.
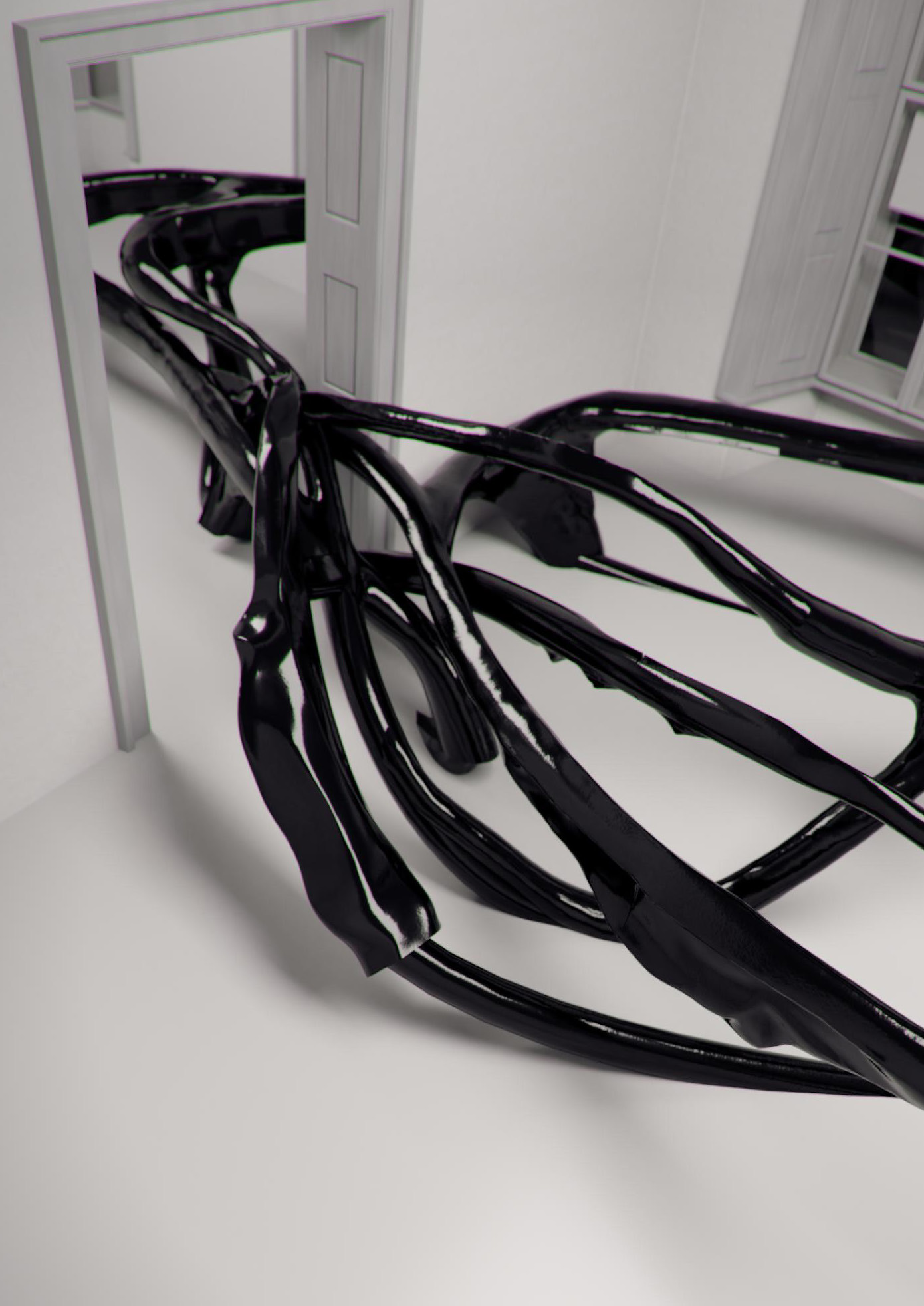
Большинство человеческих страданий рождается из преувеличенной веры в свободу воли и цель — веры, которую персонализированный аспект Web 2.0 лишь ускоряет. «Что делать и кто я?» — вопрос, который он без конца ставит, будто ответ имеет значение. О чём я думаю? Где мой разум? Выражает ли то, что я вижу на экране, мои мысли? Философия цифровой культуры разрывается между крайностями: объявить интернет благословенным местом продуктивной шизофрении, где мы теряем самозначимость для коммуникации с миром, или, напротив, осудить его как нарциссический бред, где всё лишь укрепляет наше эго⁵. Бенджамин Браттон ухватил этот современный парадокс: «паранойя и нарциссизм — две функции одной маски»⁶. Что делать и кто я?
С одной стороны, мы чувствуем себя множественными, составными, коллективными, постоянно потрясёнными многообразием человеческих натур, распластанных голышом на экранах, сопричастными чужим судьбам. Но инаковости слишком много, и мы решаем не доверять ей. Угрожающий хаос сжимает стены вокруг «я» вместо растворения во встрече с Другим. Укореняется эпистемологическая паранойя — что истинно? Кто на моей стороне? Где вообще моя сторона?
С другой, нам продают иллюзию цельности мира и себя — свободу воли, агентность, причинность, этику. Всё кажется личным, даже судьба мира, предстающего нам единым, общим миром, заточенным под наши персонализированные новостные ленты. Кажется, вне этого нарратива, объемлющего всё, но центрированного на нас, ничего нет. Каждый из миллионов пользователей сети ежедневно сталкивается с глобальными, космическими задачами через якобы уникальные ленты в соцсетях, транслирующие одну и ту же информацию.
Каждая новая среда одновременно расширяет и дробит человеческое эго, показывая нам вселенную, чтобы тут же свести её к нам. Обречённые обнаружить, что наше эго не может просто внедрить себя в активную социальную сеть и надеяться на то, что право выбора и этики будет даваться с лёгкостью, «каждое поколение обязано заново испытать этот ужас и познать его бессилие»⁷. Чем больше мир описывается теорией сложности и эмерджентным надчеловеческим поведением, чем больше наука ставит под сомнение свободу воли и причинность — тем догматичнее люди цепляются за детальные текстовые исповеди индивидуального мышления и морали как за паническое решение. В тюрьме внутреннего мира — интернете — всё зависит от нас, но никто не может совершить желаемых перемен. Неудивительно, что основой парадокса стал невроз: мы интериоризируем даже погоду и судьбу планеты, но можем лишь то, что позволяет среда — экстериоризировать, коммуницировать.
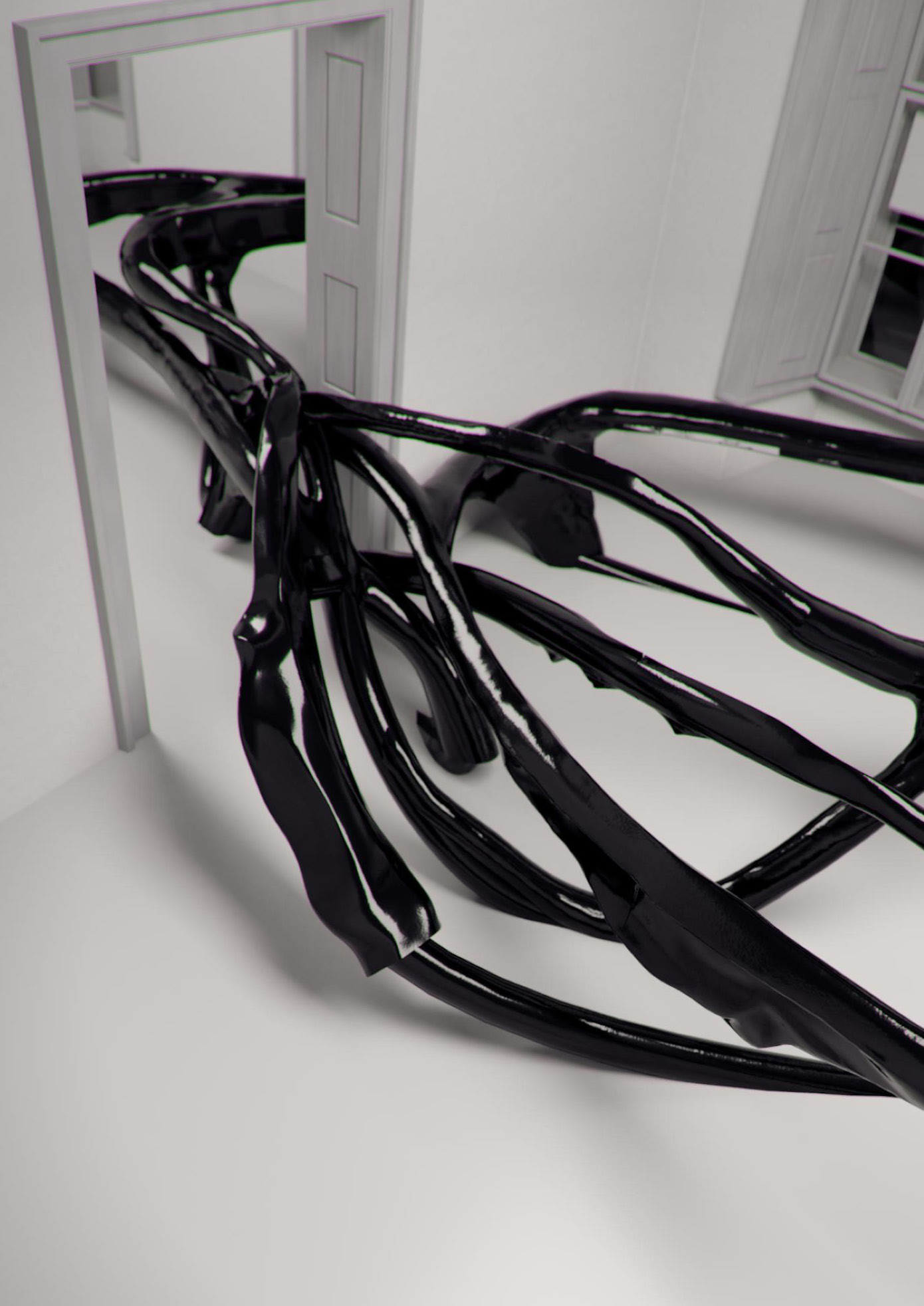
«Я мог бы выбрать общение с тобой».
«Если выберешь — знай цену: ты раскроешь мне своё существование»⁸.
Теория о том, что интернет это «тёмный лес» — о трагедии коммуникации: её принудительности, необходимости, тщетности и риске. Это эксперимент с «циничным гипер-нигилизмом выживальщика»⁹, где моделью киберпространства служит не киберпанк, а метафизическая научная фантастика. Если Марк Фишер хотел вычленить уникальность интернета, я стремлюсь описать его универсальность в космическом масштабе. Понять жестокость нашего положения: коммуникация — принуждение, но и источник конфликта.
Китайский фантаст Лю Цысинь развивает теорию «тёмного леса» в трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» как ответ на парадокс Ферми: если жизнь повсюду, почему вселенная безмолвна? Разве космос не должен быть шумной лентой соцсетей, где все борются за внимание? Теория «тёмного леса» переворачивает предпосылку: коммуникация, раскрывающая наше существование, — признак глупости, а не разума. Не потому что все инопланетные цивилизации враждебны, а потому что законы вселенной обрекают на смертельный конфликт все цивилизации, делящие одно измерение.
Выживание — главная потребность всех цивилизаций. Они расширяются, их ресурсные аппетиты растут, но материя космоса постоянна. «Экспоненты — дьяволы математики»¹⁰ — если жизнь множится, жаждая существования, а ресурсы не расширяются, за них придётся сражаться. «Вся вселенная получила смертельный расклад»¹¹. Вселенная — поле боя, существование — война. Во тьме космоса таится множество цивилизаций, каждая — и охотник, и добыча. В этой тьме лучше молчать. Коммуникация может привлечь внимание другой цивилизации. Когда они замечают друг друга, одна неизбежно погибнет. Умнейший молчит или бьёт первым. Почему столь жестоко? При ограниченных ресурсах, предполагать доброжелательность другого — слишком рискованная ставка в «космической цепи подозрений», где межзвёздное общение по сути рискованно. У инопланетян могут быть иные понятия истины, этики, общего блага. Конечно, ты можешь быть «доброжелателен» на мой взгляд, но стану ли я рисковать целой планетарной цивилизацией из-за этой предпосылки? А ты рискнёшь своей, дав мне объяснить моё видение «доброжелательности»? А если один из нас лжёт? Взаимозависимость быстро усложняется, но исход безжалостен: один из нас умрёт. Трилогия рассматривает сценарии предотвращения этой теории, в конечном итоге опровергая их все. Человечество поздно совершило это открытие, но для космических цивилизаций теория «тёмного леса» так же фундаментальна, как законы физики. Она автоматична, безрефлексивна, вне эмоций, воли, этики. «Энтропия во вселенной растёт, порядок убывает… Высший смысл? Бесполезно искать»¹².
Кто-то отвергнет холодный расчёт теории Лю. Но она лишь обобщает законы физики, выводя космическую теорию игр для цивилизационного развития. Предположение, что всё существование висит между конатусом и энтропией, подтверждает подчинённость человечества этим законам, как и любой сложной системе. Можно мечтать о ином мире, но у нас есть лишь этот. В понятии энтропии из статистической механики многие системы — биологические или социальные — описываются теми же инструментами, что и энтропия в физике. Любая изолированная система стремится к бес-порядку — к варианту с высокой энтропией. Так или иначе, конфликт и рассеивание энергии вплетены в ткань бытия. Вопрос «как» и «когда», а не «если». Анализ 600 лет истории это подтверждает: каждая «человеческая система» должна избавляться от своих излишков; рост сложности влечёт рост энтропии. «Война — просто один из методов, с помощью которого система сбрасывает энтропию максимально быстро»¹³. Рассеяние энергии — не просто следствие «плохих решений» или «неэтичных поступков», а неизбежная статистическая вероятность сложных систем. Чем сложнее и разумнее жизнь, тем выше цена, которую она, возможно, заплатит в конфликте.
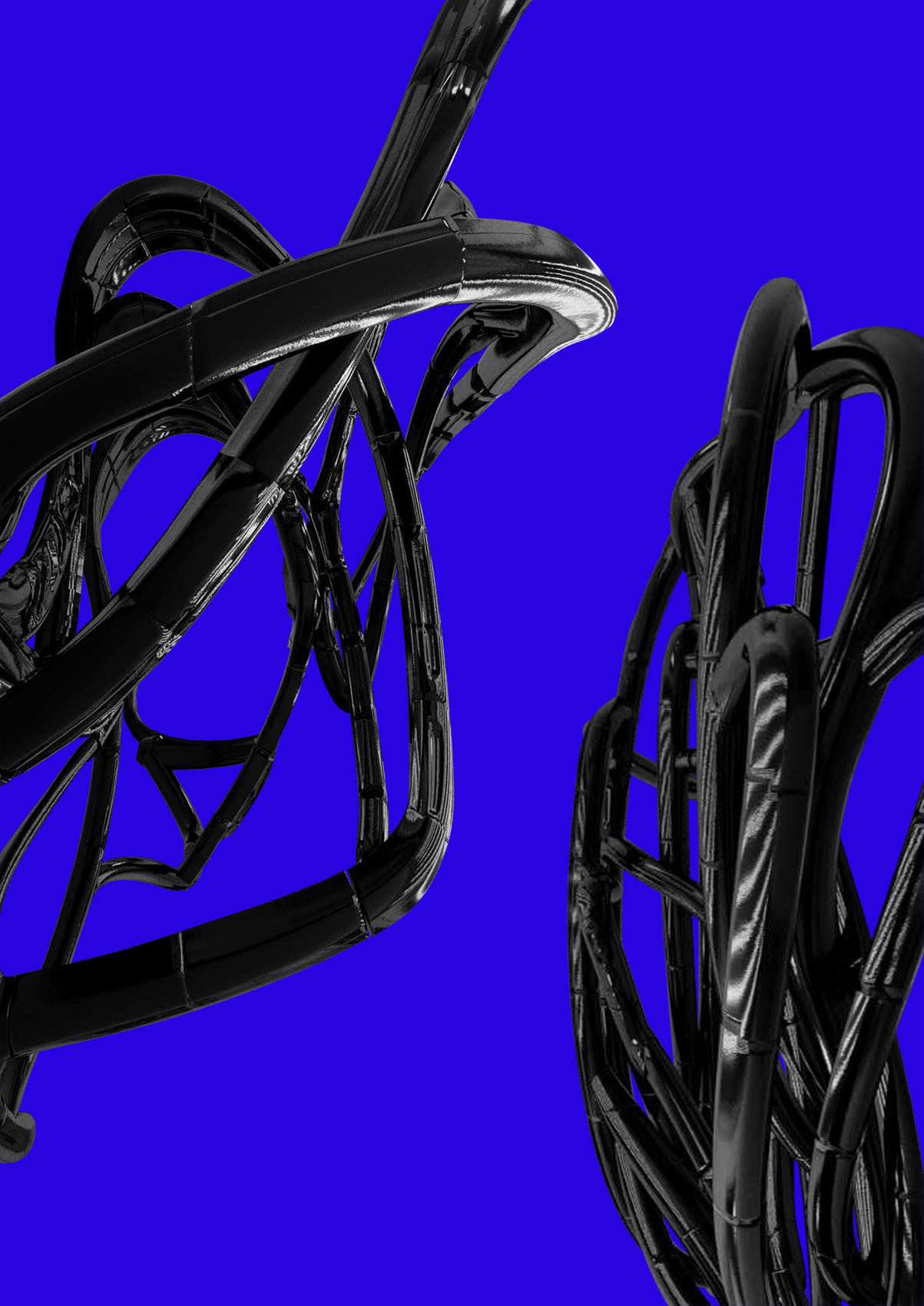
Цепь подозрений не зависит от морали и социальной структуры цивилизации. Достаточно представить каждую цивилизацию точкой на конце цепи. Не важно внутренне добры они или злы — попав в паутину цепей подозрений, они одинаковы… Итого: во-первых, дать вам знать, что я существую; во-вторых, позволить вам существовать дальше — оба варианта опасны для меня¹⁴.
Теория о том, что интернет это «тёмный лес» — о риске, связанным с «паспортом» для входа в повседневное киберпространство: коммуникации, экранирования себя, открытия или сокрытия о своих координат. Это не стратегия победы или план «перемен», а констатация. Нормативные теории о том, каким мир должен быть в идеале, оставим проповедникам и утопистам. Web 2.0 стоит на двух аксиомах. Во-первых, социальность — базовая человеческая потребность, коммуникация необходима для выживания. Во-вторых, социальность — носитель человеческих конфликтов. Больше социальности — больше энтропии. Наши нервные системы не различают социальность и выживание, потому мы приговорены друг к другу. Весь интернет получил тот самый «смертельный расклад».
Когда коммуникация — всё, мысли, выраженные языком, обретают особую силу. Мы чертим их, как карты, которые должны привести других в наш разум и сердце. Но разве мысли — отражение наших убеждений или нас самих? Мысли —это переживания в мозге. Они — то, как мы движемся от мгновения к мгновению, как мы переживаем проходящее мгновение. Им не обязательно запечатлеваться в нас, даже когда каждая застывает в безжизненном свечении киберпространства. И всё же, окаменев, они укрепляют галлюцинацию «я» — «доказательства», что оно «существует», верит, обладает убеждениями, должно действовать. Общая нам всем трансцендентальная иллюзия, поддерживаемая коммуникативным интерфейсом, через который мы живём. Придавая мыслям, особенно «нашим», чрезмерное значение, «мы не просто обманываемся — мы обманываемся, полагая, что у нас есть «я»»¹⁵.
Теория о том, что интернет это «тёмный лес», минует эту ловушку, описывая автоматические динамики коммуникации. Будучи изолированной системой, она стремится к высокой энтропии. Связь порождает конфликт. Намерения, враждебность или внутренняя доброжелательность не важны, когда каждый из нас — лишь узел в кибернетической цепи подозрений. Чтобы сигнализировать «безопасную» социальность, каждый пользователь должен быть читабелен в её самопрезентации; каждый должен заявить о себе. Система-лес должна уметь нас прочитывать, наравне с другими пользователями. Что у тебя на уме? Мы неустанно, детально описываем наши мысли. Но эта читаемость означает: наши координаты раскрыты. Нас можно увидеть, атаковать, управлять нами. Чем детальнее описание — тем легче контроль над нами. Чем больше нас видят — тем проще стать мишенью.
В космическом тёмном лесу те, кто нарушает безмолвие, вступают в рискованную игру с энтропией, притягивают взгляды, провоцируют атаки. Другие делают ставку на упреждающий удар: атакуй, пока не атаковали тебя. Лю оптимистично полагает, что у людей, в отличие от инопланетян, которые слишком метафизически непознаваемы, чтобы наладить эффективную коммуникацию, цепь подозрений «протянется на уровень-другой, а затем разрешится через коммуникацию»¹⁶. Но это предполагает, что коммуникация между людьми основана на правде. Вот почему одержимость установлением истины это главная паранойя интернета — что она на самом деле думает; но кто они, в глубине, неведомые себе — как и бесконечные интерпретации, саморазоблачения и декларации, чтобы не осталось сомнений в намерениях других или своих. Вот если бы мы описывали всё яснее, если бы общались неистовее, избыточнее — тогда бы доказали нашу доброжелательность и разорвали цепь подозрений! Потому каждый обмен рассчитан на предельную ясность, чтобы упредить допрос, но тем не менее требует бесконечных оговорок. Связь рождает сложность, сложность — конфликт: самоподдерживающийся механизм.
Но энтропия течёт и через нас. Распад банален, предсказуем, мягко убаюкивает нас. Любая система колеблется между порядком и хаосом. В тюрьме внутреннего мира — интернете — кто-то всегда должен быть отброшен: направляя энтропию от себя к Другому. Сложность — аргументов, человеческих групп — растёт, пока не становится чрезмерной, и требуется определённая жертва для возврата к краткому равновесию, где иллюзия доброжелательного общения ещё возможна. Что такое онлайн-«сообщество», как не изощрённая форма гарантированного взаимного уничтожения, зависшая между неврозом и нарциссизмом, прикованная к априорной потребности коммуницировать?

Безумие, хаос, эротический вандализм, опустошение бесчисленных душ — пока мы кричим и гибнем, История облизывает палец и перелистывает страницу¹⁷.
Символически и материально существование — конфликт, разлад, рождающий сложность. Теория «тёмного леса» обобщает на космическом уровне энтропийную природу коммуникации. Её корни прорастают всюду. Мы патрулируем лес, прислушиваясь к шагам друг друга, все — и охотники, и добыча.
В некоторых коренных американских онтологиях отношения между людьми и видами основаны на хищничестве, войне и каннибализме. «В Амазонии шаманизм так же жесток, как война сверхъестественна. Оба сохраняют связь с охотой как моделью перспективистской борьбы… проникнутой убеждением, что любая жизнедеятельность — форма хищнической экспансии»¹⁸. Существовать как растение или животное — значит пребывать в конфликте, определяемом потреблением, материальной и духовной войной, где один вид может завладеть телом и разумом другого. Охотник и добыча. Энтропия коренится в неизбежном потреблении чужих душ. На «противоположном» конце спектра христианский теолог Пьер Тейяр де Шарден признаёт: конфликт метафизически необходим человеческой природе; это «органический феномен антропогенеза»¹⁹, где человечество возвышается лишь в противоборстве. Люди охотятся друг на друга.
Трение рождает смысл в петле обратной связи, подобно тому как мнения часто формируются отрицанием текущей реальности, взаимозависимо создавая нас теми, кто мы есть. Солидарность и доброжелательность существуют, но обычно в защите одной группы против другой — так что даже лучшие части человеческой природы оплачены энтропией и конфликтом, устраняющим Другого (символически или реально).
Некоторые философы, как Жорж Батай, верили, что этот избыток можно изжить иначе, что мы можем использовать этот подспудный конфликт. Его вакхическая, анархическая концепция dépense («растрата») — «иллогичный и неудержимый порыв растратить материальные или моральные блага [которые могли быть использованы] рационально», чтобы допущенное в социальный порядок обретало смысл и ценность «лишь когда упорядоченные и сбережённые силы высвобождаются и растрачиваются ради целей, не подчинённых никакому расчёту»²⁰. Уничтожение материальных благ и подчинение нечеловеческому хаосу — формы энтропии, способные, по его мнению, высвободить энергию, циркулирующую внутри сложных социальных сетей. Но даже для Батая некоторая форма разрушения оставалась необходимой.
Человечество — форма энергии, подвластная энтропии. То же характерно и для других форм энергии. Концепция «тёмного леса» применима и к межгалактической теории игр, и к персонализированной коммуникации Web 2.0. Мы галлюцинируем «я» в её механизме, но процессу безразлично это «я». Интерфейс леса может считывать нас идеально, его растения выделяют дурманящий газ субъективности. Каждый узел в кибернетической цепи подозрений, питаемый коммуникативным интерфейсом, вопрошает: Что делать и кто я? Мы отвечаем снова и снова, через всё более сложные интерфейсы. Когда Тёмный лес приходит в движение, мы можем не разглядеть за туманом субъективности автоматизированный процесс экстракции, сводящий каждого из нас к генерируемой сложности, измеряющий наш энтропийный потенциал, стравливающий узлы друг против друга, проектирующий паттерны беспорядка. В этом лесу лучше молчать или готовиться к конфликту.
Что у тебя на уме?

Примечания
- Лю Цысинь. Тёмный лес/пер. с англ. Д. Накамура, издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018.
- Мачадо, Кармен Мария. Дом иллюзий. — Манн, Иванов и Фербер, — 2021.
- Фишер, Марк. Flatline Constructs: Gothic Materialism and Cybernetic Theory-Fiction. — Нью-Йорк: Exmilitary Press, 2018.
- Фишер обсуждает пример Жана Бодрийяра с опросами, но, вероятно, распространяет этот анализ на всё киберпространство (Fisher, Flatline Constructs: Gothic Materialism and Cybernetic Theory-Fiction, с. 24).
- Пример полемики: Хан Бён-Чхоль осуждает «цифровой оптимизм» Вилема Флюссера с хайдеггерианских позиций (Хан Бён-Чхоль, In the Swarm: Digital Prospects /пер. с нем. Эрика Батлера. — Кембридж: MIT Press, 2017. — С. 37–43).
- Браттон, Бенджамин. The Black Stack // e‑flux journal. — 2014. — № 53. — С. 9.
- Ферранте, Элена. Frantumaglia: A Writer’s Journey / пер. с итал. Энн Голдстейн. — Мельбурн: Text Publishing, 2016. Электронное издание.
- Лю, Тёмный лес.
- Фишер, Flatline Constructs: Gothic Materialism and Cybernetic Theory-Fiction, с. 17.
- Лю, Тёмный лес. «В начале 1990‑х годов Цысинь Лю написал программу, в которой каждая разумная цивилизация во Вселенной бала упрощена до оной точки. На пике своего развития он запрограммировал 350 000 цивилизаций в радиусе ста тысяч световых лет и заставил свои 286 компьютеров работать часами, чтобы рассчитать эволюцию этих цивилизаций. Хотя конечный вывод программы был несколько наивным, он сформировал основу и форму его мировоззрения» (журнал Peregrine, цит. по: Вандермир, Энн и Джефф (ред.), Большая книга научной фантастики. — Нью-Йорк: Vintage Books, 2016. цифровое издание).
- Там же.
- Лю Цысинь. Вечная жизнь смерти/Fanzon, 2022
- Мартеллони, Джанлука; Ди Патти, Франческа; Барди, Уго. Анализ паттернов мировых конфликтов за последние 600 лет// arXiv, e‑prints, 2018. — URL: https://arxiv.org/abs/1812.08071.
- Лю, Тёмный лес.
- Фишер, Марк. Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем. — Новое литературное обозрение, 2024.
- Лю, Тёмный лес.
- Лиготти, Томас. «Лекции профессора Никто о мистическом ужасе» // Песни мёртвого сновидца. Тератограф. — М.: АСТ, 2018 г.
- Вивейруш де Кастро, Эдуарду. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии / пер. Дмитрия Кралечкина. — AdMarginem, 2017. — С. 152. См. также: Виллерслев, Рейн. Soul Hunters: Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs. — Беркли: University of California Press, 2007. Прим. Пер.: см. Также: Вахтин, Н. Юкагисркие тосы/Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, — 2021.
- Вирилио, Поль. Speed and Politics / пер. с фр. Марка Полиццотти. — Лос-Анджелес: Semiotext (e), 2007. — С. 130.
- Батай, Жорж. The Notion of Expenditure//Visions of Excess: Selected Writings 1927–1939 / ред. Аллан Стокль, пер. Аллана Стокля, Карла Р. Ловитта и Дональда М. Лесли-мл. — С. 128.
Богна Кониор — исследовательница и писательница, чья работа посвящена новым технологиям. Доцент кафедры теории медиа в NYU Shanghai, автор книги Dark Forest Theory of the Internet.
