Кто такие государства, или как говорить о войне в ПНИ?

С началом полномасштабного вторжения России в Украину социальные работни_цы и специалист_ки помогающих профессий с антивоенной позицией оказались в ситуации конфликта между гражданской ответственностью, требующей выражения протеста, и ответственностью перед теми, с кем они работают. Как находить возможности выражения протеста, может ли он быть непубличным, как не изменить себе, сотрудничая с государственными институциями в социальной сфере? Возможно ли это в текущей политической ситуации? Нам кажутся важными и необходимыми эти и другие вопросы, поднятые в публикуемой дискуссии. По соображениям безопасности текст анонимизирован.
От авторо_в:
В начале марта 2022 года состоялся приватный разговор между специалистами/ками помогающих профессий, художниками/цами, исследователями/исследовательницами дизабилити стадиз и психологом о том, как в ситуации полной цензуры говорить о войне с людьми, проживающими в психоневрологических интернатах, жизнь которых полностью зависит от государства. Тогда беседа носила больше самоподдерживающий характер, но
АБВ: У меня сейчас, как у сотрудницы интерната, появился вопрос о том, как я могу говорить с проживающими ПНИ о войне. Это сложная ситуация, потому что безопасность всех участников/иц после таких бесед ставится под удар. На данный момент руководство интерната под угрозой увольнения запретило упоминать Украину даже в разговоре среди коллег, аргументируя это заботой о психическом здоровье проживающих и сотрудников/иц старше 55 лет. Те, кого я вовлекла в первые дни войны, предлагая порисовать антивоенные плакаты, не могут сейчас публично ни с кем эту информацию обсуждать и она стала для них очень тяжёлым бременем. Поэтому у меня возникли вопросы, во-первых, как я могу говорить с жителями интерната о войне, осознавая что такие сведения могут привести к ухудшению их состояния, как в плане психического и физического здоровья, так и их хрупкого статуса, где любое несогласие с официальной риторикой заканчивается принудительным лечением. Это первое что меня беспокоит.
А второй вопрос, возможно ли вовлечь людей, которые находятся в ПНИ, в современную политическую повестку или практики сопротивления? Этот вопрос можно переформулировать шире: как люди, лишенные юридических, экономических и социальных прав, могут быть политически активными и внести свой вклад в сопротивление? Или это совершенно утопическая идея?
А.Р.: Надо ещё напомнить, что пятого марта вступили в действие сразу несколько законов, где само упоминание войны в публичной сфере (при этом в формулировке закона «публичный» очень широко трактуют, вплоть до
Про фейсбук и инстаграм непонятно, как это будет действовать на практике. Кому могут вменить пособничество в экстремизме за репост и так далее, то есть, это всё уже не про самоцензуру, а про самосохранение для всех, кто находится на территории РФ, тем более, тех, кто находится в ПНИ.
Меня заботит момент вполне осязаемой безопасности. Тебе, как человеку, работающему в ПНИ известно на практике, что зависимость дисциплинарного воздействия на людей там огромная. Что будет, если проживающие, находящиеся буквально во власти людей осуществляющих контроль, озвучат повестку, которая не соответствует позициям администрации? Изоляция, я предполагаю, принудительное лечение. Меня лично сильно беспокоит эта сторона. С другой стороны, мы все осознаем риск и испытываем фрустрацию от беспомощности, от того, что мы не можем действовать. Риск выше того реального эффекта, который мы можем иметь на территории РФ, в результате каких-то публичных действий. А что говорить о людях, которые находятся в более уязвимом, в плане проявления себя, положении.
А.А.: У меня есть реплика. Мне непонятно, насколько высказывания проживающих могут восприниматься всерьез сотрудниками, именно за счёт их не самого «полноценного» статуса. Я не знаю, насколько сейчас ситуация изменится. Только ты сможешь это пронаблюдать. Насколько сейчас проживающий, который говорит что-либо про политику, внезапно проявится как субъект, которого нужно будет к
Я не знаю открывает ли какие-то возможности для партизанщины, потому что само положение людей делает их статус не совсем таким, какой статус у сотрудников, или тех, кто никогда не был лишён статуса также как они.
АБВ: Чтобы она состоялась, всё равно изначально люди должны знать, что идёт война.
А.К.: Я тоже подумала, что на приписываемом людям, проживающим в ПНИ, «неполноценном гражданском статусе» можно сыграть. К людям, проживающим в ПНИ, невозможно применение административных или уголовных наказаний. Во-первых, я хотела предложить делать какие-то занятия, семинары, просветительские, чтобы их проводил человек, который не находился на территории РФ. А с другой стороны, чтобы это была инициатива самих проживающих, для них последствий будет меньше, чем, например, для сотрудниц. Может быть, сотрудниками это будет воспринято, как а`ля, какой-то странный кружок, а не
АБВ: Я все равно должна буду присутствовать в интернате, включить компьютер, всех собирать. Это будет выглядеть, как будто это я организовала этот кружок и ответственность будет лежать на мне. Также, люди не могут выступить с такой инициативой, сделать запрос на такой кружок, потому что половина не знает, что идет война. Нет никакого информационного фона.
Выключили телевизоры, чтобы не было вообще никаких новостей: ни тех, ни тех. Поэтому реализация такого вопроса возможна через искусство. Например, у нас есть онлайн занятия, если в контексте обсуждения искусства, каким-то очень иносказательным языком, это возможно. Понятно, что мы все сейчас используем сплошные канцеляризмы: «эта ситуация», «когда это случилось.» Мне кажется, даже в моей речи я очень редко употребляю слово война.
Ю.К.: Для меня тоже возникает такой вопрос, потому что люди зависимы от тех, кто к ним приходит. Очевидно, что это зависимость напоминает тюремную иерархию между теми, кто внутри учреждения и теми, кто сопровождает их пребывание. Ресурс власти понятно у кого. Это тоже важный фактор, который для меня является необходимым для учитывания.
Если нам хочется, чтобы кто-то из проживающих выразил такую же позицию, как у нас, то мне эта идея не близка. Для меня важно донести информацию так, чтобы они оформили свою позицию. И это будет здорово, неожиданно, или, наоборот не здорово, если окажется, что проживающие скажут: «ну, так всё правильно, Путин же молодец, всё нормально делает, всё так и надо».
Что мы делаем, когда мы живем в открытом мире? Транслируем свою позицию и соединяем вокруг этой позиции людей, потом придут те, кто встанет рядом с тобой и скажет: «я думаю так же, как и ты». Для меня этот процесс скорее о том «а что же я вообще думаю на самом деле про это? Как звучит моя позиция? Какой у меня взгляд? Как я про это размышляю? Какой-то ценностью для меня является возможность прикоснуться к тому, что я вообще знаю изначально про политику? А я себе представляю, где находится Украина? Что это за страна такая? Почему нам это важно? Что нас связывает?» Я бы говорила о
АБВ: У тебя есть предложения в какой форме можно начать разговор об Украине?
Ю.К.: Я бы начинала с просмотра карты мира: на ней очень много стран. Вот это Россия, ещё есть США, ещё есть Европа, ещё есть Азия, ещё есть такие-то материки. Я понимаю, что уровень осведомленности людей настолько низок, что надо начинать сначала, про то, как вообще устроен мир, что такое страна, что её объединяет, какие разнообразные уклады у разных стран, как
АБВ: Образовательная программа!
А.А.: Я здесь поддержу, потому что у меня самой какое-то время назад были мысли об образовательной программе. АБВ, ты сама знаешь, что люди не знакомы с очень базовыми вещами, даже имеющими далекое отношение хоть к какой бы то ни было политике. В этом плане такая масштабная долгоиграющая образовательная история, о том, что такое государство, что оно делает, может быть очень здравой идеей. Действительно, очень долгий путь, к тому, чтобы прийти к
Ю.К.: И через эти открытия люди прикасаются к этой проблеме.
А.К.: То есть, получается, что все новости из внешнего мира надо упаковывать в образовательные блоки?
Ю.К.: Мне кажется, да. Давайте уберём политический, влияющий на эмоции, контекст всего происходящего. Представим себе, что взорвалась атомная электростанция в Коми АССР. Про это надо рассказать? А что ты про это будешь рассказывать? Наверно, надо понимать, что такое экологическая катастрофа? Какие последствия? Какие влияния? Почему так происходит? Откуда взялась эта атомная станция? Какие ещё есть в мире альтернативы атомной станции? Почему их больше нигде не строят? А что было, когда уже такое происходило? Прежде, чем просто сказать, что произошел взрыв на атомной электростанции, потому что это правдивая информация, должно возникнуть понимание как с этой новостью обойтись, если нет информационной площадки, на которую это сообщение ляжет. Иначе эта информация ни о чём, несколько слов на незнакомом иностранном тебе языке, вот, что это тогда.
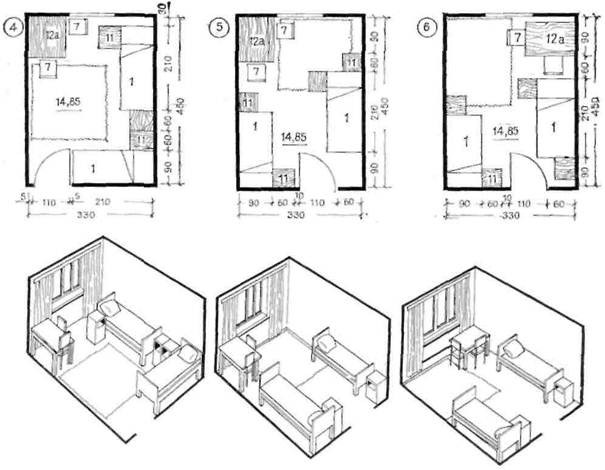
М.И.: У меня было два вопроса в голове, точнее мысли, пока сейчас слушала. Первое — это про то, что был ли когда-либо более-менее сформулированный запрос от проживающих в ПНИ, на политическую осознанность, на политизацию? А потом я вспомнила визуально из новостей вот эти буквы Z и V, выстроенные из тел школьников или сотрудников хосписа где-то в Казани. Можно вообразить себе то, что это как раз про две крайние точки проявления этой самой политической субъектности. Первое — это когда у меня есть сформулированный запрос на позицию, и я хочу, я понимаю, что я хочу её сформулировать, хотя бы, даже если ещё её нет или менять её, в зависимости от того, что происходит. И, другое, когда полностью ее лишён, буквально: из моего тела, сведённого к
Для того чтобы появилась возможность для другой крайности, то есть для осознанного желания формулировать свою позицию, действительно, необходима длительная подготовительная работа. Но мне интересно, АБВ, было ли такое в твоей практике, что помимо каких-то внутренних и внешних политик у проживающих в ПНИ было желание разбираться в их правах. То есть был ли сформулированный запрос на то, чтобы понимать свои права, как себя защитить, в
АБВ: Есть запрос на справедливость. Если я транслирую, что мы не воруем, например, или не перебиваем, то когда я сама нарушаю эти правила, меня ставят на место. Это круто, потому что все знают, что я сотрудница, а с персоналом так нельзя разговаривать.
Ю.К.: Я хочу сказать, М.И., что во мне вызвал твой вопрос. Я вспомнила, как люди голосуют в ПНИ. Приезжают в интернат урны и людям помогают поставить правильные галочки. Хотя бывает какое-то количество отдельных людей, которые очень по-своему заинтересованы новостной повесткой. Обычно это чей-то личный интерес, который не имеет специальной спонсируемой истории. Я сама встречала таких проживающих, которые постоянно смотрят новости, слушают политологов или философов, которые могут растолковать, что происходит.
АБВ: Да, это тоже есть. Но я никогда не слышала каких-то альтернативных мнений. В основном политический интерес хорошо вяжется с правительственной пропагандой или новостями, которые доносятся ещё с Советского Союза.
А.А.: Если я правильно понимаю, вопрос сегодняшнего вечера вызван тем, что тебе тоже хочется понимать, как тебе существовать в этой реальности сейчас и что делать. Правильно я понимаю? В смысле, ты ищешь какие-то ходы, которые тебе можно предпринять, находясь в ПНИ?
АБВ: Пока я вижу две стратегии. Первая стратегия — это вообще никак не поднимать эту тему и продолжать делать мастер-классы из туалетных втулок и обслуживать государственные праздники, которые идут нон-стопом. Вторая стратегия, которую я пыталась начать — это антимилитаристская повестка, но она полностью запрещена интернатом. И мой вопрос звучит так: имеют ли право люди, которые находятся в тотальной институции, знать, что существуют какие-то внешние новости, причём такие глобальные? Вроде бы напрашивается ответ, что имеют. Но, мы сейчас разобрали, что без подготовки, без контекста, куда было бы можно эту информацию уложить, она не имеет смысла. Но, какая стратегия возможна дальше: либо продолжать делать вид, что ничего не произошло, либо вкладываться в длительную образовательную программу? Мне кажется, что, если в такой замкнутой системе, где вообще ничего нельзя сделать, мы вообразим способ, хотя бы как об этом говорить, то всем людям на планете (хотя бы россиянам) станет понятнее, какие в заданных условиях, где они ограничены ипотекой, семейным бытом, бюджетной профессией, могут быть тактики сопротивления.
А.К.: У меня сейчас тоже появились две мысли, пока мы говорили. Во-первых, если делать какой-то цикл таких общеобразовательных занятий, что такое государство, что такое общество, я бы примкнула с удовольствием. Могу поспрашивать коллег социологов, кто бы тоже мог поучаствовать. Мне кажется, это интересный эксперимент, говорить супер просто о сложных материях, адаптировать для разных людей. Во-вторых, я подумала, что одна из возможных практик — письмо, хотя я знаю, что не все пишут в интернате. Я подумала про письма людей из российских ПНИ в украинские интернаты. Например, письма людям, которых ещё не эвакуировали, где-нибудь в Одессе, во Львове, ещё
АБВ: Да, это была бы хорошая практика. Мы с коллегами из Киева что-то такое хотели сделать до войны. Наша личная переписка началась с того, что они просили сделать опрос на тему историй наших стран, но я к этому не смогла подступиться, потому что почти никто ничего не знает. А
А.А.: У меня есть маленькая мысль, которая касается не ситуации войны с Украиной. Я подумала, что у проживающих есть свои определённые стратегии, как с этой системой взаимодействовать. Так или иначе у жителей интерната есть свои практики обхода самых разных вещей. То есть, вряд ли они обсуждаются между проживающими, но все знают о том, что если сделать вот это, то можно вот это обойти. Не понимаю насколько это безопасно — вынесение вашей группой, вашим кругом вообще разговора о том, «а как вы существуете внутри вот этой не простой системы» — что на самом деле есть выработанные тактики, которые передаются и работают годами, что на самом деле тоталитарная система вообще-то в некоторых местах оказывается не так тоталитарна. Может быть разговор с одной стороны об уязвимости, а с другой стороны о тактиках обхода, станет темой ваших бесед и темой твоей фиксации. Если ты это будешь фиксировать, в виде чего бы то ни было, фотографий с подписями, чтобы это претворялось в некотором художественном параллельном высказывании, которое может быть ты собираешь, может вы вместе собираете.
АБВ: Ты знаешь, А.А., у меня по этому поводу в последнее время большое разочарование, потому что я до последнего верила, что есть какие-то стратегии ускользания, и я пыталась их узнать, но
А.Р.: На самом деле да. Мне тоже кажется, что очень сложно говорить о перспективах. Буквально в режиме реального времени я наблюдаю, что происходит с университетами: отчисления, М. Р. уволили за то, что она на лекции сказала, какой-то очень сжатый антивоенный комментарий. Видимо, кто-то из студентов стукнул в деканат. Я лично слышал, как в разные вузы приходят все эти методички о том, как работать со студентами, с «правильной» повесткой, как мониторят соцсети и так далее. Мне кажется, если уж в университетах происходит такое, то в ПНИ я не вижу большого пространства для маневра.
Кроме того, как я говорил вначале, это может быть причиной потенциального конфликта проживающего в ПНИ и тех, с кем он дисциплинарно связан. Допустим, речь идёт либо о
Другой момент, то, что я услышал, АБВ рассказывала про проживающих, которые видят что-то по ТВ, допустим даже чисто из эстетических соображений, и они это себе присваивают. Я вижу в этом потенциальный источник конфликтов. Читал вчера, что расстались муж с женой: муж за, жена против. Она ушла на улицу без ничего. При всём мужестве этого поступка — ей было куда уйти. А мы рассматриваем ситуацию, когда люди находятся в замкнутом помещении. Уже даже политологи, социологи говорят, что сейчас очень сложный период: даже если у вас с домашними разногласия, пожалуйста, как-нибудь сглаживайте, чтобы беречь себя, потому что социальная ситуация будет ухудшаться. Мне кажется, что для ПНИ это тем более актуально. Я вижу очень много и внешних и внутренних рисков для проживающих, если анализировать ситуацию.
АБВ: Получается, что любую радикальную мысль невозможно проговорить в ПНИ, потому что она накладывает на людей ответственность, с которой они уже будут дальше жить. Например, можно пропагандировать вегетарианство, но если человек живет в системе интерната, и у него 9-й стол, значит всю жизнь ему будут давать гречку с мясом и не есть — нельзя. Или, конкретный пример: волонтеры рассказывали про раздельный сбор мусора и у одного человека начался припадок, потому что он стал осознавать, что в своей ситуации он ничего не может сделать, но теперь знает и про загрязнение, про глобальное потепление, про мусорные острова, которые в Тихом океане растут. И конкретно он в своей жизни никак не может повлиять на это.
А.Р.: Может быть оценивая быт и уклад конкретного ПНИ, надо думать, какую информацию и как именно можно дать, потенциально для человеку реализуемую. Но, вот конкретно эта острая, злободневная ситуация, на которую очень часто люди повлиять не могут на территории нашей страны. Я сильно сомневаюсь по этому поводу, именно с точки зрения социальной и психологической безопасности людей.
А.К.: Я тут хотела бы сделать неуместное сравнение, которое не имеет ничего общего с реальностью, но может навести на
А.Р.: У детей всё-таки другая ситуация: школа, они туда приходят-уходят. У них опять же очень много альтернативных источников информации.
Ю.К.: Чем-то близко, чем-то не близко. Я согласна, что дети всё равно имеют больший доступ к информации, как ни крути, в отличие от проживающих в интернате. А.К, у меня позиция про детей очень простая, что вообще-то дети и так всё знают. В том смысле, что, если есть какая-то семейная тайна, дети видят, что мы про это говорим шёпотом. Если они и так всё знают, и у них нет возможности это обсуждать, они вынуждены справляться с тем, что они слышат, чувствуют и понимают самостоятельно. Поэтому, у меня есть позиция, что важно чтобы дети были включены во все значимые процессы, которые в семье происходят, с учётом возраста, особенностей, каких-то ограничений.
Насколько это аналогично тому, что происходит в интернате… С одной стороны, приходят сотрудники, в жизни, которых война происходит. Я могу об этом не говорить, я буду про это плакать, возможно, буду с
Как психолог имею такую позицию: если какой-то процесс происходит во мне, рядом со мной, то как ни крути это уже влияет на окружающих. И тогда я могу как-то это обработать, что-то сообщить. Как? Исходя из того, как я считаю правильным. Я боюсь сейчас, тогда я могу сказать: «знаешь, я не могу про это говорить, потому что мне очень страшно, возможны последствия, которые могут случиться со мной или с тобой». И тогда я с этим как-то обошёлся и объяснил человеку, который рядом, что со мной происходит, — взаимодействие с этим явлением случилось.
Моё частное, индивидуальное, отдельное от всего остального контекста. «Я переживаю
Всё, что касается каких-то глобальных стратегических вещей… это конечно провальные идеи, потому что в рамках интерната всё очень сложно. Если я выхожу на уровень ПНИ и пытаюсь найти какое-то решение внутри системы, я становлюсь ровно тем, против кого все законы направлены. Если я частным образом, как человек сообщаю какие-то вещи, которые во мне творятся, это и защищает, и ограничивает, и
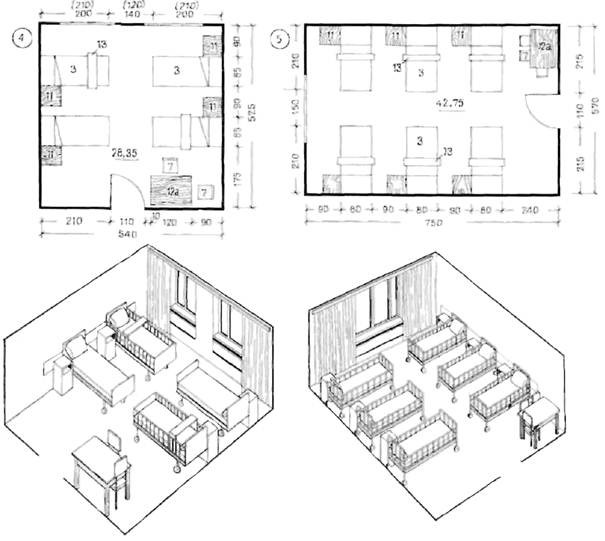
АБВ: Мне кажется, ты сейчас подсветила мою стратегию работы в ПНИ. Я пытаюсь периодически сформулировать, чем я там занимаюсь, особенно когда у меня наступает период не выгорания, а такой монотонности. Самое главное для меня — это физически присутствовать в интернате, то есть это работа с длительностью, со временем, с постоянством. Важно, что это конкретно я со своими серёжками, со своими лаками для ногтей, цветными волосами, стою тут на гранитном полу, помытым хлоркой. И моё присутствие немного изменяет окружающую среду, просто за счёт того, что я там существую, как-то реагирую, постоянно делаю выбор, на который обращают внимание проживающие, устанавливаю свои порядки, которые несут другие ценности. Например, обязанность мыть чашки после себя, или традиция совместно отмечать день рождения и всех угощать. Это ритуалы, которые я могу привнести, не выдавая своих оппозиционных взглядов и не ломая всю систему в целом.
Долгое время мне казалось, что это очень мощный партизанинг. Сейчас я думаю, что подобным инфраструктурным активизмом занимаются многие. Такая политика ускользания, невидимость в хорошем смысле слова. Например, наш кружок — студия в ПНИ — уже давно не кружок рисования, это такой островок свободы или творческий междусобойчик, как его называют проживающие, куда можно прийти с идеей, мыслью, что-то предложить, проявить инициативу. Я не знаю, может быть другие сотрудники тоже этим занимаются. Мне кажется, что конечно занимаются и многие тоже сильно вовлечены, например, заказывают одежду на Aliexpress для своих любимчиков, приносят конфетки, фотографии своих детей показывают, есть в этом что-то такое именно за счёт присутствия.
А.Р.: Да, я думаю, что это вообще сейчас единственная возможность в текущих условиях, не только для ПНИ на самом деле. Через
Ю.К.: Мне кажется и по отношению к сотрудникам тоже. Это тоже очень важно, я много работаю с государственной системой. Иногда начинают вставать волосы дыбом от того, в каком положении находятся специалисты органов опеки, службы сопровождения, сотрудники департаментов, министры. Для меня большой ценностью является поддержать что-то человеческое в том, как они смотрят на других, на свою работу, на своих подопечных. Наверно, здорово будет, когда вся эта система возьмет и поменяется. С другой стороны, прямо сейчас есть приёмные родители, которые берут детей, которым нужна поддержка. Прямо сейчас есть мама в трудном положении, с которой эти специалисты работают. Если этот специалист уйдёт, придёт другой, лучше не будет. Я понимаю, что единственное, что я могу сделать — по-человечески поддержать других людей, таков мой диалог с системой. Когда ты говоришь интернат, я вижу не только тех, кто там проживает. Да, это 500 человек, но это и 300 с лишним человек, которые там работают.
А.Р.: Ю.К. очень важный момент озвучила, да, действительно, если из персонала уйдёт кто-то
А.К.: Да, спасибо.
А.Р.: Это ответственность очень большая, это очень важно для людей, для проживающих.
Ю.К.: Сейчас, знаешь такое ощущение, что мы дружно негласно, не говоря об этом прямо, расписались в собственном бессилии.
А.Р.: Мы проговариваем зоны нашей уязвимости. Понимаем, где есть смысл идти на
Ю.К.: Я с тобой совершенно согласна. Я просто уже так ужасна пала, что я уже бессилие, знаешь, не считаю чем-то нехорошим, честно. Стала в последнее время замечать, что ко мне как к психологу люди приходят очень часто в ситуации бессилия. Они приходят, вроде как, за силой, но в реальности есть ситуации, в которых я могу только сказать: «я сочувствую, я бессильна». Это конечно вызывает много трудных чувств. Но, иногда встреча и признание бессилия моего и человека, который ко мне обратился, бывает единственным, что целительно во всём этом. Я в этом смысле к бессилию отношусь с большим уважением.
А.Р.: Я прошу прощения за банальную цитату, у меня просто всплыло. Дело не в том, что она авторитетна и так далее, я просто люблю фильм «Сталкер». Я вспомнил тот фрагмент, где Сталкер говорит «Там, где твёрдый ломается, мягкий гнется». Со ссылкой на
Ю.К.: Я сейчас просто представила себе людей, которые вокруг нашего кружка из пяти человек стоят и говорят: «Вы недостаточно радикально выражаете своё мнение, недостаточно громко.
А.Р.: Я сейчас обсуждал с одной художницей участие ее проекта в фестивале, созданного ещё до всех этих событий. Пришли к выводу, что есть вариант просто отказаться от участия, но если сейчас перестать говорить, то на месте этой тишины тут же зазвучит, то, что звучит и так везде. Поэтому мы пришли с ней к тому, что лучше, чтобы звучал адекватный рассказ, не такой лобовой, но адекватный.
АБВ: Мне кажется, что мы перешли к разговору о нас в большей степени сейчас.
М.И.: Важно сохранить своё несогласие, которое сейчас является, по сути, проведением политического субъекта, потому что в том числе задача пропаганды убедить нас всех в том, что нигде нет места этому несогласию. И запретить любые прямые способы его выражения. Значит нужно находить новые и новые способы эту позицию несогласного сохранить как возможную. И какие бы эти способы ни были, они хороши сейчас. Даже если они маленькие, негромкие, какие-то завуалированные, если они есть, это в любом случае вносит раскол, тревогу или, по крайней мере, лишает гомогенности поле политических высказываний, которое в
АБВ: Пример тоже из личной практики, неделю назад. Когда была масленица, меня попросили проживающие напечь блинов. Я обычно отказываюсь от всего сверх моих обязанностей, но они так взмолились, говорят: «Пожалуйста, пожалуйста. Так хочется домашних блинов». Я прихожу вечером, уставшая, пеку эти блины. Сковородка плохая, всё прилипает. Это была среда: все мои знакомые на Гостином дворе. Я стою и думаю: вот как так, я тут пеку блины, чем я занимаюсь, почему я не на улице. У меня была такая паника и чувство вины, что я с одной стороны недостаточно ярко и громко выражаю свою позицию, а с другой стороны, что мой максимум на сегодня — это испечь блинов. Хотя это был очень доверительный жест, что меня конкретно эти две женщины из интерната попросили о такой услуге. Я так переживала, потом смотрю, в Ночлежке акция: Напеки блинов и всем раздай. Ладно, думаю, вроде, как это входит в общую стратегию помогания.
А.К: АБВ, пока ты говорила, я тоже думала про более гибкие формы протеста. Я согласна с М.И в том, что главное сохранить это в себе, быть собой. И взамен прямого протеста, который позволяют себе люди, находящиеся за границей, важно придумывать и ценить маленькие шажочки, маленькие непрямые практики, которые ты можешь предложить. Рисовать карту Украины, писать письма людям в украинские интернаты, делать образовательные курсы для проживающих вроде бы о другом, но говорить о войне и политике тоже. В этом может как раз и проявиться творческая энергия — в нахождении способов коммуникации помимо прямого и уже нелегального протеста.
А.Р.: Остается огромное количество людей, которым нужна будет поддержка, и этой работы станет ещё больше. Потому что, те кто уязвим, в социальном плане, будут становиться ещё уязвимей. Сейчас тем, кто остался, не только ради заботы о себе, но и заботы о тех, о ком мы сегодня говорили, будет необходимо разрабатывать гибкие стратегии, чтобы иметь возможность транслировать, что-то более адекватное. Тонкие стратегии могут восстанавливать многие социальные связи, каналы коммуникаций, которые будут рваться. И это невозможно сделать непосредственно радикальными средствами, это требует гибких стратегий и высказываний, которые учитывают общий контекст работы.
АБВ: Будем штопать реальность. Спасибо большое. Мы уже с вами почти 2 часа. Я думаю, что пора заканчивать.
А.К.: Спасибо огромное. Целительная встреча, на самом деле.
Ю.К.: Спасибо большое. Я сейчас в очень размягчённом состоянии, довольно уязвимо себя чувствую. Много боли и сочувствия. Спасибо, АБВ, тебе за инициацию разговора. Я прикоснулась через тему ПНИ к такому большому количеству людей, которые в нашей стране не всегда видимые, и мысль о том, что они точно здесь останутся, точно никуда не уедут, она меня сейчас как-то пугает масштабом и при этом поддерживает ощущением своей нужности. Амбивалентное чувство.
А.Р.: Ситуация изоляции нас ставит в положение, когда только мы есть друг у друга.
М.И.: У меня было с начала войны ощущение, что как куратор, культурный работник, автор текстов я занималась совершенно не тем, чем нужно было. Это не обесценивание, а просто, мне кажется, довольно ясное понимание неправильно выбранных траекторий работы в сторону сложных теорий или локальных сюжетов. Но при этом есть абсолютное понимание того, что всё, что происходило в социальных художественных практиках, в социальной работе, не потеряло значимости. Ясность такая: как культурные работники мы не видели, действительно, проблем с колониальной политикой страны или разрывами между разными социальными группами, в
АБВ: Спасибо большое! Мне тоже кажется интересным наблюдение, что художники и художницы, которые были вовлечены ещё в социальные проекты, обозначили, что только это их сейчас поддерживает. Много чего обесценилось, а как раз этот труд и труд заботы непосредственно в интернате, в
Я вообще мечтаю, что когда у нас будет базовый доход, все люди на земле будут иметь возможность волонтёрить, помогать, оказывать поддерживающие практики. Пока мечтаю.