Диаспорическая близость
В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга профессора Гарвардского университета, филолога и антрополога Светланы Бойм «Будущее ностальгии» (перевод Александра Стругача). Обращаясь к истории ностальгии — “неизлечимой формы бытия эпохи модерна”, Бойм размышляет о противоречиях городской жизни, проблемах индивидуальной и коллективной памяти, национальных мифах, утраченных образах будущего и непредсказуемости прошлого.
Мы публикуем главу из книги, посвященную антиутопической близости изгнанников — разделяемому чувству “неудовлетворенности без принадлежности”, глубоким отношениям, осознающим свою эфемерность в неустойчивом окружающем мире.

Когда мы дома, нам не нужно об этом говорить. «Быть дома» — «to be at home» — это слегка неуклюжее выражение есть во многих языках [1]. Все мы знаем, как сказать это на родном языке. Чувствовать себя как дома означает знать, что все вещи на своих местах и ты — тоже; это состояние сознания, которое не зависит от фактического местонахождения. Объект неудовлетворенного ожидания, таким образом, это, в действительности, не место, называемое домом, но то самое чувство интимности по отношению к миру; это не прошлое как таковое, но тот воображаемый момент, когда у нас было полно времени и мы еще не знали томящего ощущения ностальгии.

Когда мы начинаем говорить о доме и о родине, мы испытываем первое разочарование при возвращении домой. Как передать боль утраты на иностранном языке? Зачем об этом беспокоиться? Можно ли снова полюбить, находясь вдали от дома? Интимный означает «глубоко личный», «трогающий до глубины души», «очень персональный», «сексуальный». Кроме того, «to intimate» в значении «намекать» также означает «общаться» с некой неявной подсказкой или иным непрямым знаком; давать скрытую подсказку [2]. Как ученые XVIII века, которые указывали на то, что поэты и философы, возможно, куда лучше подготовлены, чтобы анализировать ностальгию, так и некоторые психологи начала XX столетия, включая Фрейда, предполагали, что художники и писатели куда лучше понимают сны и страхи, связанные с образом дома. Читая фантастические сказки Э.Т.А. Гофмана [3], чтобы приоткрывать тайны личной сферы жизни человека, Фрейд исследовал различные значения слова «уютный» или «привычный» [4] (heimlich) — от «знакомый», «дружественный» и «интимный» до «потаенный», «аллегорический». Слово носит существенную амбивалентность, пока «знакомый» (heimlich) не сталкивается со своей противоположностью, словом «загадочный» [5]. Мы больше всего желаем именно того, чего больше всего боимся, а нечто хорошо известное нередко приходит к нам в замаскированном виде. Отсюда берут начало готические изображения домов с привидениями и известные голливудские истории пугающих пригородов, призрачная оборотная сторона американской мечты. На первый взгляд кажется, что загадочность — это страх перед привычным, в то время как ностальгия — это его томительное ожидание; вместе с тем для ностальгирующего человека и его утраченный дом, и его дом за рубежом часто кажутся населенными духами.
Тип «реставрирующих ностальгиков» — это те, кто отказывается принять загадочные и пугающие аспекты того, что некогда было для них привычным и домашним. Тип «рефлексирующих ностальгиков» — те, кто повсюду видит образы дома в искажении кривых зеркал и пытается как-то уживаться с двойниками и призраками.
Возможно, единственное лекарство или средство, временно снимающее симптомы тоски по дому, кроется в эстетической терапии, как предполагают некоторые художники и
Набоков, подобно многим другим писателям и обыкновенным изгнанникам, освоил искусство намека, повествования о самых личных и интимных горестях и радостях через «пелену загадочного». Играть в прятки с воспоминаниями и чаяниями, подобно тому как каждый из нас играл с друзьями в далеком и полузабытом детстве, кажется, — единственный способ отрефлексировать прошлое без обращения в столп соли.

В конце XX столетия миллионы людей находятся вдали от места рождения, проживая в добровольном или вынужденном изгнании. Их личный опыт формируется на заграничном фоне. Сами они существуют как соглядатаи иностранных сценических декораций, нравится им это или нет. Обычные изгнанники часто становятся мастерами жизнетворчества, переделывающими себя и свой второй дом с большой оригинальностью. Невозможность вернуться домой — одновременно личная трагедия и движущая сила. Это вовсе не означает, что не существует ностальгии по родине, а то, что этот вид ностальгии исключает реставрацию прошлого. Более того, иммигранты в Соединенные Штаты привозят с собой различные традиции социального взаимодействия, часто менее индивидуалистические; что до писателей, то они несут память о репрессиях, но также и о своей общественной значимости, которой они едва ли могут соответствовать на куда более «продвинутом» Западе.
Современная американская популярная психология сподвигает человека «не бояться искренности». Это предполагает, что частное общение может и должно вестись на простом языке и состоять из вопросов типа «что ты имеешь в виду?», заданных без иронии и без задней мысли. Иммигранты — и множество чувствующих отчуждение местных жителей — никак не могут перестать этому ужасаться.
Чтобы оценить их опыт, я буду говорить о том, что может показаться парадоксальным, — о «диаспорической близости», которая не противопоставляется оторванности от корней и остранению, а ими конституируется. Диаспорическая близость может достигаться только через девиантность и фамильярность, через истории и секреты. На иностранном языке о подобном говорят, как о
На контрасте с утопическими образами близости как прозрачности, подлинности и полной принадлежности к

В западной традиции открытие близости связано с рождением индивидуализма. В отличие от нашей интуиции, близость не связана с жизнью в традиционном обществе, но связана с открытием в позднем Средневековье и раннем Возрождении культуры приватности [7] и одиночества. Приватность больше не воспринимается как «понижение ранга» общественной и духовной значимости (как следует из оригинальной римской этимологии слова); она приобрела самостоятельное значение. Приватность приобретает заметную культурную значимость в Голландии XVII столетия и в Англии XVIII века, где не-трансцендентальные концепции понятия «дом» возникли примерно в то же время, когда впервые была диагностирована ностальгия. Географические карты близости расширялись на протяжении столетий, от небезопасных средневековых шкер — уголок у окна или в коридоре, уединенной поляны за рощей, опушки леса, до претенциозных буржуазных интерьеров XIX века с бесконечными курьезными шкафами, комодами и тумбами с ящиками, до промежуточных пространств XX века: заднее сиденье автомобиля, железнодорожное купе, бар в аэропорту, электронная домашняя страничка. Быть может, получается так, что близость находится на полях общественного, она локальная и индивидуальная, необязательная и неинструментальная. Вместе с тем в любой роман с близостью неизменно вмешиваются определенные культура и общество [8]. Близость, по природе своей, — не приватное понятие; близость может находиться под защитой, управляться или осаждаться государством, оформляться искусством, приукрашиваться памятью и остраняться критикой.
XX век обобщил близость до идеала и одновременно сделал это понятие поистине подозрительным. Ханна Арендт критиковала близость как бегство от открытости миру [9]. Не имеет значения, является ли это культом близости среднего класса или особыми отношениями, которые лелеет группа изгоев, формой братства, которая позволяет тебе выживать во враждебном мире.
Близость, как ее видит Арендт,—это сокращение опыта, что-то, что связывает нас с национальным или этническим сообществом (даже если это маргинальное сообщество), домом или родиной, а не с миром в целом [10].

Похожим образом Ричард Сеннет настаивает, что в современном американском обществе культ близости превратился в своего рода соблазнительную тиранию, которая обещала тепло, подлинное раскрытие, неограниченное сближение и фактически привела к разрушению публичной сферы и коммуникабельности [11]. Критика Сеннета направлена против характерной для конца XX столетия коммерциализированной версии протестантского культа подлинности, которая могла сделать повседневную жизнь блеклой, лишенной юмора, избавленной от мирской суеты и общественной значимости. Это также связано с американской мечтой и культом «семейного дома». В таком случае близость больше не является бегством от
Диаспорическая близость не обещает уютного восстановления идентичности через разделенную ностальгию по утраченному дому и родине; в таком случае справедливо противоположное. Диаспорическая близость может рассматриваться как взаимное притяжение двух иммигрантов из разных частей мира или чувство незащищенного уюта заграничного дома.
Просто, по мере того каккто-то начинает жить с чувством отчуждения и настраивает себя на неустойчивость окружающего мира и на странность человеческого контакта, происходит сюрприз, острая боль близкого узнавания, надежда, которая проскакивает через заднюю дверь в тумане привычной отстраненности повседневной жизни за рубежом.

Опыт жизни в современном метрополисе, одновременно отчуждающем и будоражащем, стал значительным привнесением в развитие диаспорической близости. В конце концов, первые мигранты были внутренними, обычно — это деревенские люди, которые приехали жить в город. Эта урбанистическая «любовь с последнего взгляда», открытая Беньямином и Бодлером, которая создает сексуальные судороги с одновременным шоком узнавания и утраты, — больше, чем меланхолическая страсть; она проявляется как чудо возможностей [12]. «Любовь с последнего взгляда» поражает городского странника, когда этот человек осознает, что он или она на сцене, одновременно в роли актера и зрителя [13].
То, что для «местных» может выглядеть как эстетизация социального поведения, поражает иммигранта как точное определение состояния изгнания. Это, конечно, уже тогда, когда первые трудности закончились, и иммигрант может наконец позволить себе роскошную и расслабленную рефлексию. Иммигранты всегда ощущают себя на сцене, их жизнь состоит из некоторого количества банального фикшена с периодическими романтическими всплесками и серой повседневностью. Порой они видят себя в роли персонажа романа, но эти иронические воплощения не останавливают их от прохождения через абсолютно все литературные коллизии их собственной жизни. Что касается шокирующего опыта, о котором говорил Беньямин, они становятся общим местом. Что же куда менее знакомо — это осознание определенного вида нежности, который может быть куда более ярким, чем сексуальная фантазия. Любовь с последнего взгляда — это боль утраты после высвобождения; нежность изгнанников, прежде всего, про высвобождение возможностей после утраты.
Только когда утрата принимается всерьез, человек может быть удивлен, что вовсе не все потеряно.
Нежность — это не тогда, когда кто-то говорит то, что имеет в виду, сближаясь все больше и больше; это не

Диаспорическая близость относительная и никогда не окончательная; объекты и места были утрачены в прошлом, и человек осознает, что они могут быть потеряны вновь. Иллюзия абсолютной принадлежности теперь нарушена. Тем не менее человек открывает, что по-прежнему остается много того, чем можно поделиться.
Иностранный контекст, память о предшествующих утратах и осознание скоротечности не скрывают шок близости, а скорее даже доставляют наслаждение и силу эффекта сюрприза.
В век глобализации, часто воспринимаемой как верховенство американизированного свободного рынка и массовой культуры, наблюдается возрождение национализма и новый подъем «культурной близости». Культурная близость — это новая концепция; она определяется как социальная поэтика, которая характеризует бытие малого народа и переносит на национальное сообщество то, что исторически относилось к сфере приватных, личных и семейных взаимоотношений [17]. Культурная близость определяется как оппозиция глобальной культуре, а не «открытости миру» [18], характерной для сферы публичных отношений. Иногда иммигранты сами по себе, особенно те, кто приезжает в развитые страны не по политическим, а по экономическим причинам и не был объектом судебного преследования, воссоздают малые-национальные-государства на зарубежной земле, не видя диаспорическое измерение, которое питает их причудливо определенную культурную близость.

Выстраивание прямой связи между родным домом и родиной [19] и проецирование личных чаяний на историческое и коллективное прошлое может оказаться проблематичным. Бенедикт Андерсон [20] сравнивает национальное воспроизведение прошлого с индивидуальной автобиографией. Оба рассматриваются как нарративы идентичности и личной идентификации, которые проистекают из забвения, отстранения и утраты воспоминаний о доме. Возвращение домой — возврат в воображаемое сообщество — это способ заделывания бреши отчуждения, превращение личных ожиданий в принадлежность [21]. В лирическом отступлении критик выводит развернутую метафору юного человека, который хочет позабыть детство, и зрелого, который хочет вновь обрести его, смотря на старое фото ребенка, который, предположительно, напоминает его самого или ее саму [22]. Не все биографические нарративы отсылают к воображаемой родине, только чистые образцы, укорененные в местной почве, которые начинаются с «семейных обстоятельств родителей, бабушек и дедушек» и следуют реалистическим конвенциям XIX столетия. За пределами андерсоновского повествования остаются истории внутренних и внешних изгнанников, неспособности адаптироваться, смешения кровей, которые составляют отступления и ответвления от мифологической биографии нации. Развитие их самосознания начинается не с дома, но с момента покидания дома. В конце концов, каждый подросток мечтает сбежать из дома, и часто это первое бегство определяет карту мечтаний человека в той же степени, что и архитектура дома. Эти внутренние и внешние изгнанники из воображаемых сообществ также жаждут дома, но с меньшим набором иллюзий и, быть может, могут ощущать общность с такими же скитальцами, как они сами. Воображаемое сообщество мечтающих странников? В ряду существующих утопий эта, быть может, наименее опасная.
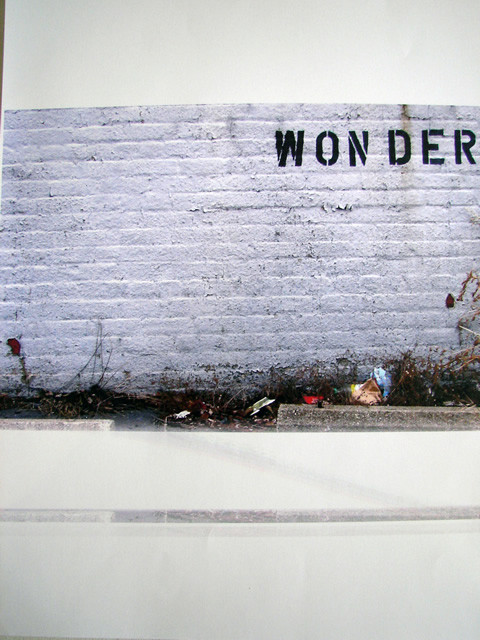
Все иммигранты знают, что изгнание куда более привлекательно как поэтический образ, чем как реально переживаемый опыт. Оно выглядит на бумаге куда как лучше, чем в жизни. Более того, для тех, кто реально покинул свою родину, этот опыт не уникален; люди, которые прошли через значительные исторические потрясения и переходные периоды, могут легко к нему обращаться. Слово изгнание «exile» (от
Как метафора, изгнание сильно устарело и поизносилось. Она служит для обозначения состояния человека и для языка в максимально широком смысле: первая семейная пара, Адам и Ева, в конце концов, была впервые изгнана из Эдем- ского сада. После выдворения из Рая и крушения легендарной Вавилонской башни возникло разнообразие человеческих языков. В западной традиции, от Античности до модернизма, примером изгнанника часто становился поэт, выдворенный из своей страны, как Овидий или Данте. В конце XIX — начале XX столетия «трансцендентальная бесприютность» [23] и перманентное изгнание назывались хроническими заболеваниями.
Основная черта изгнанника — это двойное сознание, двойная экспозиция различных времен и пространств, постоянное раздвоение. Изгнанники и билингвы всегда воспринимались с подозрением и описывались как люди «двойной судьбы» или половинчатой судьбы, так же как развратники, изменники родины, торговцы мертвыми душами, призраками. Для писателя, изгнанного из его или ее родной земли, изгнание едва ли является просто темой или метафорой; обычно отрыв от корней и перемещение в иной культурный контекст является главным вызовом как для творческой концепции мастера в целом, так и для всех художественных форм его авторства. Иными словами, опыт реального изгнания является универсальной проверкой для метафор автора; в данном случае следует говорить не о поэтике изгнания, а об искусстве выживания.

Билингвальное самосознание или самосознание полиглота часто описывается как сложная ментальная география, которая существует вне поля зрения и находит свое наилучшее выражение в произведениях искусства. «Археолог-любитель, пытающийся понять, что скрывает эта геологическая формация, обнаружит, что это слияние двух рек, которые, будучи пересохшими, все еще выделяются в ландшафте их единой сдвоенной поймой», — пишет Жак Хассан [24], описывая на французском два своих родных языка — иврит и арабский [25]. Джордж Стайнер [26] предлагает образ «меняющихся складок и взаимопроникающих геологических страт в поверхности ландшафта, который развивался под разнонаправленным горным давлением» [27]. В обоих случаях ясно, что родной язык не является затерянной Атлантидой или пейзажем золотого века. Некоторые писатели и лингвисты отмечают, что билингвы часто испытывают сложности с самопереводом либо потому, что разные языки занимают разные ментальные страты, либо по той причине, что между ними существуют причудливые переплетения, которые человек не может легко распутать. В психогеографии родной дом и обретенная земля либо слишком далеко разнесены, либо слишком близки для обеспечения зоны комфорта. Двуязычное самосознание — это не сумма двух языков, но совершенно иной тип ментальности; нередко писатели-билингвы рефлексируют на тему иностранности всех языков и придерживаются странной веры в «чистый язык», свободный от изгнаннических изменений.
Вальтер Беньямин видел основную задачу переводчика в том, чтобы выявлять непереводимое и «сближаться с иностранностью языка». В попытке спастись от изгнания Беньямин возвращается к идее изгнания как главной метафоры языка и человеческого бытия.
На практике тем не менее иммигранты могут быть билингвами, но крайне редко они могут избавиться от акцента. Несколько неверно расставленных предлогов, немного пропущенных артиклей, определенных или неопределенных, предают синтаксис родного языка. Изгнание вовне из Советской России имело дополнительные сложности, помимо очевидных политических угроз и рисков. В традиции русской философии от Чаадаева до Бердяева трансцендентальная бесприютность рассматривается не как особенность модернистского самосознания (по определению Георга Лукача), но как составная часть русской национальной идентичности. Метафорическое изгнание (обычно прочь от временного повседневного бытия) — это предтеча странствий «русской души»: в результате непосредственное изгнание из

Воображаемые родины современных русско-американских писателей и художников, исследуемые здесь, хрупкие и неопределенные, но они хотя бы не имеют охраняемых границ и внутренних паспортов и не предлагают комфортабельного проживания в условиях коммунального быта. Вместо того чтобы лечить отчуждение — а это именно то, что предлагает воображаемое сообщество нации, — художники-изгнанники используют отчуждение само по себе в качестве персонального антибиотика от тоски по дому. В определенной степени, все трое исследуемых мною автора — Набоков, Бродский и Кабаков — могут быть признаны офф-модернистами; они смотрятся эксцентрично на общем фоне художественного мейнстрима, они экспериментировали с понятием времени и обратили прием остранения в стратегию выживания. Их автобиографические тексты и произведения искусства были не только нежными воспоминаниями о прошлом, но также и осознанными рефлексиями на тему ностальгического нарратива. Все трое были одержимы домом и возвращением домой, и никто из них так и не вернулся в Россию. Напротив, невозвращение домой стало движущей силой их искусства. Набоков в своей художественной литературе воссоздавал возвращение домой во множестве всевозможных жанров; Бродский создал обширную поэтическую империю, необитаемую землю, несущую отпечатки его родины и обретенной иной страны. Кабаков в своих работах подвергал советский дом бесконечному ремонту. Все трое создавали не только пространственные, но и временные лабиринты: Набоков помышлял об обратимости времени; Бродский осмыслял исходную точку изгнания; а Кабаков пытался схватить медленное течение советского времени стагнации в своих тотальных инсталляциях. Более того, эти три художника живут в определенной «диаспоре памяти», если использовать выражение писателя и критика Андре Асимана [30], память, которая больше не имеет единой привязки к родному городу, но раскрывается через взаимное наложение родной и чужой земель.
Набоков, Бродский и Кабаков предлагали альтернативные перспективы не только для России, но также и для Соединенных Штатов и противостояли сентиментализации иммигрантской истории и коммерциализации ностальгии. Они совмещали любовь с отстраненностью, настаивали на разделении чувственного и сентиментального и развивали этику воспоминаний. В интервью с иммигрантами из бывшего Советского Союза я заметила, что их способы обживания домов на чужбине часто следуют аналогичным дуалистическим принципам разделения отстраненности и нежности.

Арджун Аппадураи [31] предположил, что в свете глобализации, массовой миграции и развития электронных медиа человеку необходимо переосмыслить значение понятия «locale» [32]. Это больше не определенное место, к которому принадлежит человек, но скорее — социальный контекст, который человек может привнести в диаспору. Тем не менее ностальгия зависит от материального начала места, чувственного опыта, запахов и звуков. Мне ничего не известно о ностальгии по домашней страничке; скорее, объектом ностальгии является невиртуальный низкотехнологичный мир [33]. В этом ключе locale — это не только контекст, но также и воспоминания об ощущениях и материальные осколки прошлой жизни.
Литературные и метафорические дома, конкретные места и воображаемые родины, так же как и их проницаемые границы, будут исследованы совместно. Нет на свете места лучше родного дома, но в некоторых случаях дом сам по себе перемещается и намеренно переосмысливается. В своей фантазии о глобальном аукционе ностальгии Салман Рушди не находит пути назад в Канзас: «…подлинный секрет рубиновых туфелек, а он состоит совсем не в том, что „нет на свете места лучше родного дома“. Скорее, „нет на свете такого места, как родной дом“, за исключением, конечно, тех домов, которые мы сами для себя устроили или кто-то устроил для нас — в стране Оз (а она повсюду, куда ни посмотри), да и в любом другом месте, кроме того, откуда мы начали» [34].
Примечания
[1] В русском языке «не все дома» означает отнюдь не неприкосновенность частной жизни, а форму индивидуального помешательства. По
[2] American Heritage Dictionary. Boston: Houghton Miffin, 1985. Р. 672.
[3] В оригинальном тексте даются именно инициалы трех имен писателя — Эрнст Теодор Амадей Гофман. Изначально третьим именем немецкого писателя, композитора, художника и юриста было имя Вильгельм. Но в 1805 году в дань уважения к композитору Моцарту он взял имя Амадей. — Примеч. пер.
[4] В оригинальном тексте здесь используется английское слово «homey», которое в современном английском языке является синонимом таких слов, как familiar, welcoming, comfortable, cozy, friendly, comfy, downhome, homelike и др. — Примеч. пер.
[5] FreudS. The Uncanny // Studies in Parapsychology. NewYork: CollierBooks, 1963. Р. 19–63. По теме готических образов изгнания см.: Зиник З. Роман ужасов эмиграции // Синтаксис. 1986. No 16; Slobin G. The «Homecoming» of the First Wave Diaspora // Slavic Review. 2001. Fall. В оригинальном тексте здесь используется английское слово «uncanny», которое в современном английском языке является синонимом таких слов, как mysterious, eerie, unearthly, extraordinary, supernatural и др. — Примеч. пер.
[6] Игра слов «longing» — «belonging». — Примеч. пер.
[7] В оригинальном тексте здесь употребляется важное для понимания излагаемой концепции английское слово «privacy». Неоднократно обсуждалось в научной и популярной литературе, что это слово, именно в силу существенной разницы между «соборной» восточной традицией и «индивидуалистической» западной, не имеет точного перевода на русский язык. Возможно, стоит переводить это слово как «личное пространство», «личная сфера» и т. п. Для сохранения в русском переводе более адекватного авторскому стилю построения мысли и текста характера здесь и далее будет использоваться слово «приватность». — Примеч. пер.
[8] Aries Ph. Introduction to History of Private Life. Vol.3 / Arthur Goldhammer, transl. Cambridge; London: Harvard University Press, 1989. Р. 1–7; и Ranum O. The Refuges of Intimacy // Ibid. P. 207.
[9] В оригинальном тексте здесь использован термин «worldliness», который в трактовке Ханны Арендт, как принято считать, имеет коннотацию «having a world» (см., например, Gómez N. B. A critical approach to Hannah Arendt’s concept of worldliness and its applicability in the social sciences // Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2016. Vol. 26. Is. 2). Таким образом, термин «worldliness» можно понимать как «единение с миром», «открытость всему миру», «принадлежность к народу мира» и т.д. В концепции Арендт это слово может выражать возможность человека быть частью общемирового бытия, включаться во всемирную демократию, народ мира и т. д. Национализм, диаспорические тенденции и создание замкнутых изолированных локальных сообществ, соответственно, в контексте критики Арендт, противопоставлены этой «всемирной» открытой парадигме. — Примеч. пер.
[10] Arendt H. On Humanity in Dark Times: oughts About Lessing in Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace & World, 1968. Р. 15–16.
[11] Sennett R. The Fall of Public Man. London; Boston: Faber & Faber, 1977. Р. 337–340.
[12] Benjamin W. Some Motifs in Baudelaire // Illuminations. New York: Schocken Books, 1978.
[13] Simmel G. Sociability / Donald Levine, ed. On Individuality and Social Forms. Chicago; London: University of Chicago Press, 1971. Р. 130. Я благодарна Габриелле Тернатури за то, что обратила мое внимание на эту публикацию.
[14] Barthes R. A Lover’s Discourse: Fragments, Richard Howard, transl. New York: Hill and Wang, 1978. P. 224–225.
[15] Ibid. P. 225.
[16] Calvino I. Lightness // Six Memos for the Next Millenium. Cambridge; London: Harvard University Press, 1988. Р. 3–31.
[17] Как отмечает Майкл Херцфельд, культурная близость играет в прятки с коллективными структурами памяти, при этом она одновременно может являться объектом манипуляции со стороны государственной пропаганды и обеспечивать пути повседневного неповиновения. См.: Herzfeld M. Cultural Intimacy. New York: Routledge, 1996.
[18] Здесь в оригинальном тексте вновь используется термин «worldliness» в контексте теоретических концепций Ханны Арендт. — Примеч. пер.
[19] В оригинальном тексте игра слов «home»—«homeland». — Примеч. пер.
[20] Бенедикт Ричард О’Горман Андерсон (Benedict Richard O’Gorman Anderson, 1936–2015) — британский социолог и политолог, профессор, автор труда «Воображаемое общество». Занимался исследованиями в области общественных наук, изучал современные тенденции в национализме, регионализме, демократии, изучал так называемые виртуальные или воображаемые общества. — Примеч. пер.
[21] В оригинальном тексте здесь игра слов «longing» — «belonging». — Примеч. пер.
[22] Anderson B. Imagined Communities. New York; London: Verso, 1991. Р.204.
[23] Романная форма, понятие из «Теории романа», введенное в научный и литературный обиход Д. Лукачем. — Примеч. пер.
[24] Жак Хассан (Jacques Hassoun, 1936–1999) — французский психоаналитик, историк и мыслитель египетского происхождения, развивавший в своих работах идеи Жака Лакана. Занимался изучением депрессии, исследовал специфические особенности формирования психологии детей мигрантов, на сознании которых, по его мнению, сказывались родительские нарративы перемещения, утраты дома, изгнания и отчуждения. — Примеч. пер.
[25] Hassoun J. Eloge a la disharmonie, цит. по: Beaujour E.K. Alien Tongues: Bilingual Russian Writers of the «First Wave». Ithaca: Cornell University Press, 1989. Р. 30–31.
[26] Джордж Стайнер (George Steiner, р.1929) — современный французский и американский писатель, литературный критик и культуролог. — Примеч. пер.
[27] Steiner G. After Babel. New York: Oxford University Press, 1975. Р. 291.
[28] В оригинальном тексте использовано англоязычное название «Republic of letters»—самопровозглашенное международное сообщество ученых, писателей и мыслителей эпохи Просвещения, существовавшее в конце XVII-XVIII веке. В сообщество входили крупные научные организации, такие как академии в Париже и Лондоне. Участниками и руководителями были в разные времена Исаак Ньютон, Генри Ольденбург и др. — Примеч. пер.
[29] В оригинальном тексте, очевидно, присутствует игра слов «republic of letters»—«empire of letters», отражающая разницу между республиканским и имперским типами государственности. — Примеч. пер.
[30] Андре Асиман (André Aciman, р.1951) — современный американский писатель, преподаватель и литературный критик египетского происхождения, автор известного романа «Зови меня своим именем» и др. — Примеч. пер.
[31] Арджун Аппадураи (Arjun Appadurai, р. 1949)—современный американский антрополог, культуролог и исследователь общества эпохи глобализации индийского происхождения. Среди прочего занимался темой «воображаемых ландшафтов» в глобальном информационном обществе. — Примеч. пер.
[32] Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
[33] С этим утверждением сегодня уже можно смело полемизировать, так как в социальных сетях и киберпространстве уже сложилось немало субкультур, связанных с воспоминаниями об исчезнувших интернет-ресурсах и «олдфаговым» интернетом. — Примеч. пер.
[34] Rushdie S. The Wizard of Oz. NewYork: Vintage International, 1996. Фрагмент эссе Салмана Рушди «Из Канзаса» («Out of Kansas»), впервые опубликованного в 1992 году в журнале The New Yorker — по книге «Шаг за черту», 2010. Перевод: В. Белов. — Примеч. пер.
В оформлении использованы фотографии Светланы Бойм из проектов Instant Allegories и Diptych Enigmas
