Хито Штейерль. The (W)hole of Babel: магические географии глобального*
Публикуем эссе Хито Штейерль, написанное в 1999 году и посвященное проблеме глобального — в культурном, информационном и языковом смысле. Эссе входит в книгу «По ту сторону репрезентации», которая недавно вышла в издательстве «Красная ласточка». Перевод Евгении Маленинской.
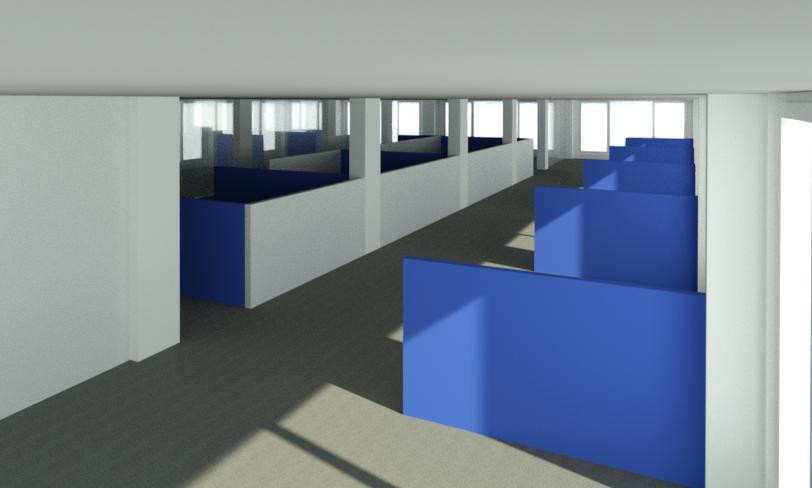
К началу 1920-х относится таинственный фрагмент, написанный Францем Кафкой: «Что ты строишь? Я хочу выкопать ход. Должен произойти прогресс. Слишком высоко наверху я стою. Мы копаем вавилонскую шахту» [1]. Удивительным в этом отрывке является превращение метафоры Вавилонской башни в образ земляной ямы. Это призыв к активному творению отсутствия вместо сооружения монументального присутствия: необходимо что-то выкопать, чтобы что-то сдвинуть с места и достичь прогресса. Как известно, строительство Вавилонской башни окончилось катастрофой. Общечеловеческий язык был утерян, а народы рассеялись по всему миру. Однако загадочный проект Кафки по углублению в землю указывает на то, что не построенная башня, а скорее вырытая яма может помочь осуществлению давней мечты человечества об универсальной коммуникации и взаимопонимании. Создание этих архитектурных конструкций приводит к прямо противоположным результатам. Башня обеспечивает точку обзора на возвышении — желательно достаточно высокую для того, чтобы осуществился прогресс. С нее открывается вид и появляется возможность наблюдения. Подземный ход, напротив, лишает обзора, единственно доступная для него призрачная возможность — это установление связи.
В рассказе «Как строилась Китайская стена» кафкианский проект Вавилонской башни обретает еще более сложную и причудливую конструкцию: Китайская стена должна стать фундаментом для возведения новой башни [2]. Рассказчик считает этот план невразумительным и задается вопросом, как можно использовать стену в качестве фундамента для башни, тем более что в самой стене пока еще имеются большие бреши. Поэтому главная цель возводимой стены — защита от кочевых народов севера — оказывается недостижимой. Вместо этого строительство служит цели создать ощущение органического единства и даже кровного родства среди возводящих стену китайцев.
Кафкианские концепции Вавилонской башни характеризуются рядом противоположностей: башня и шахта, открывающаяся с возвышения перспектива и местоположение под землей, вышестоящее и подчиненное положение. Далее противопоставленными друг другу оказываются стены и бреши, т. е. присутствие и отсутствие. Текст строится на географических антитезах «север — юг» и «восток — запад», и к тому же в нем проводится различие представителей оседлых и кочевых народов. Наконец, здесь мы находим указание на возможность другого, подземного способа универсальной коммуникации.
Низкие перегородки
Эта своеобразная концепция полустен стала реальностью в начале 1990-х — и совсем не в Китае, а, скажем, в Берлине, где в течение чуть более года дыры в стене становились всё больше, пока она, наконец, не исчезла. Однако в то время как такие отчетливые бинарные оппозиции, как, например, «восток — запад», теряли актуальность на поверхности и уступали свое место представлениям о новом глобальном порядке, на локальном уровне одновременно с этим возникали новые, нечеткие и пересекающиеся границы. Оппозиция «не-немецкий — немецкий» переняла почти все коннотации, которые ранее связывались с противоположностью «восток — запад»: «недоразвитость — передовая техника», «(почти ориентальная) деспотия — демократия», «государственный фундаментализм — гибкость и толерантность». Эта оппозиция работала как идиосинкразическая система зеркал для насильственного установления новой немецкой идентичности.
Возвращаясь к образу Кафки, можно было бы сказать, что вавилонская мечта о всеобщем взаимопонимании возродилась в новых представлениях о глобальной коммуникации, основанием которой, однако, остается расколовшийся фундамент локальных противоречий и полуграниц. Последние приводят к появлению географической ориентированности и расистской дифференциации между мигрантами и коренными немцами. Таким образом, возникает оппозиция двух перспектив — сверху и снизу. Первая устанавливается в рамках глобализации и дискуссий о новых технологиях универсальной коммуникации — и с этой башни открывается вид на повсеместные изменения после падения Железного занавеса. С описанной же Кафкой перспективы — из глубины — отчетливо видны частично сохранившиеся, хрупкие границы, а также сложные бинарные констелляции отсутствия и присутствия.
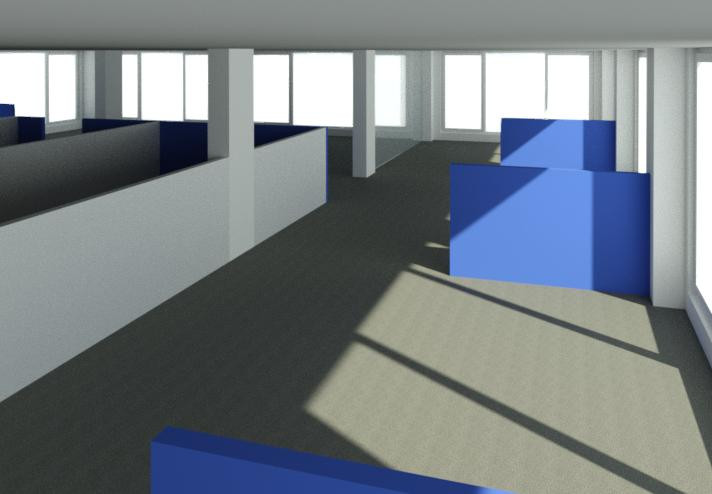
Цифровой ориентализм
Подобное распределение географических оппозиций лежит в основе развития единственного универсального языка нашего времени — двоичного кода. При ближайшем рассмотрении кода, разработанного Готфридом Вильгельмом Лейбницем в конце XVII века, обнаруживается причудливая форма цифрового ориентализма [3]. Чтобы доказать, что его изобретение действительно способно отражать универсальные принципы метафизики и науки, он сравнивает свой код с китайскими символами так называемой «Книги Перемен». Заменив цельные черты в этих символах единицами, а прерывистые — нулями, Лейбниц пришел к неверному заключению о том, что обе эти системы идентичны и являются выражением универсальных принципов. Стремясь продемонстрировать универсальность собственного кода, Лейбниц просто спроецировал его на код в «И цзин» [4].
Тошия Уэно описывает такой процесс отзеркаливания как машину образов: отражаясь в полупрозрачных зеркалах [5], представители Запада и многие другие уже бесчисленное количество раз ошибались в понимании традиционно иллюзорной восточной культуры, видя в ней самих себя. Кроме того, проецирование бинарных оппозиций на географические зоны Востока и Запада приводит к появлению пучка новых стереотипов [6]. Ярким примером одного из таких стереотипов является периодически всплывающий образ «универсального чужого» — некоего лица, которое, несмотря на свою принадлежность к иной культурной нише, выражает универсальные ценности. В этом образе объединяются несовместимые противоположности: представление о всеобщей системе ценностей передается именно через противопоставленную ему идею абсолютно неизвестного. Исключение лишь подтверждает правило. Этот стереотип работает как интерфейс — меж-лицо — для осуществления контроля над (идеологическими) отношениями между универсальным и партикулярным, новыми и старыми кодами, глобальным и локальным [7].
Во времена Лейбница роль «универсального чужого» в европейском воображении отводилась китайцам. Более того, знаки китайского письма
Универсальные чужие
В отличие от азиатов, которые де-факто оставались в географическом отдалении и редко появлялись в европейских странах, евреи воспринимались как “Orientals within” [9]. Антисемитский стереотип постепенно развился в могущественную аллегорию глобальной капиталистической сети. Как пишет Филип Коэн, стереотипы о евреях отражают экономическую трансформацию и реорганизацию феодального экономического уклада в буржуазный капитализм [10]. Метафоры невидимой руки, вампира и паразита придали форму динамическим и деструктивным силам капитализма и скрыли его противоречия под маской людей, которые были неотъемлемой частью современного общества и одновременно исключались из него. Скитающийся еврей стал символом неограниченной циркуляции капитала и отчуждения современного интеллектуала, утратившего свои корни.
В бесславном пропагандистском фильме Фрица Хипплера «Вечный жид» (1940) мировой еврейский заговор представлен посредством анимационных эффектов: «Угрожающие стрелы летят из одного конца мира в другой. Белые стрелы на темном фоне множатся до тех пор, пока весь мир не оказывается опутанным их сетью: это паук, плетущий паутину, и одновременно — раковая опухоль, которая пожирает мир изнутри, умерщвляя его по мере своего роста» [11]. Аллегорией коварства глобальных сетей становится изображение потоков мигрирующих крыс, преодолевающих на своем пути все препятствия.
В анализе немецких военно-пропагандистских фильмов Зигфрид Кракауэр рассматривает анимационный прием оживления географических форм, посредством которых инсценируются глобальные движения и потоки [12]. Перспектива подобных изображений указывает на расположение камеры на предельной высоте, что создает впечатление доминирования и осуществления контроля. С этой точки зрения графические паттерны сетей и течений порождают «магическую географию» глобального.
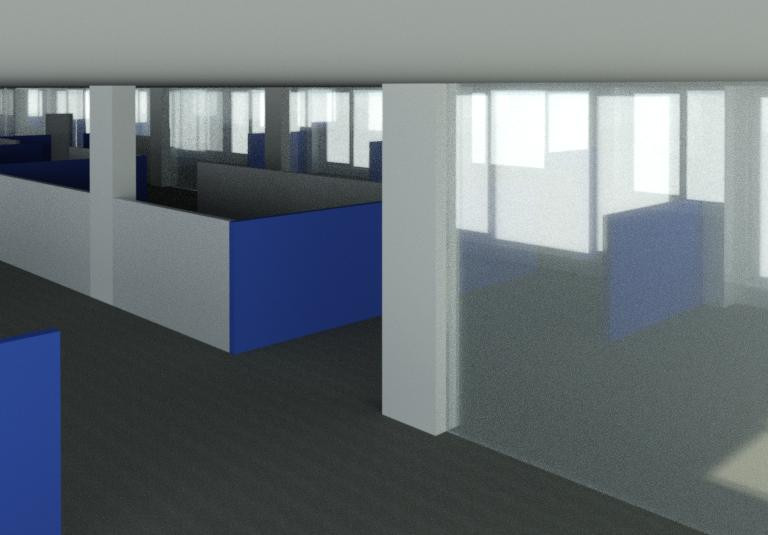
Магические географии
Идея глобальных сетей и универсальных коммуникационных систем в разное время оценивалась по-разному: как представляющий опасность тайный заговор или, наоборот, как выражение предустановленной гармонии мировой культуры. Однако в конкретных символических констелляциях использовалась та же самая терминология. В представлениях об «универсальном чужом» противоречивые определения глобальной стандартизированной коммуникации объединяются с перманентными антагонизмами и дифференциациями на локальном уровне. Все эти дивергентные концепции содержались в стереотипе «универсального чужого», который, по словам Славоя Жижека, представляет собой живое противоречие, часть системы, которая одновременно и принадлежит ей, и не принадлежит — и таким образом действует как заменитель всеобщности [13].
Поэтому неудивительно, что произошедшее по окончании Холодной войны перераспределение ролей не повлекло за собой значительных изменений в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что статичное противопоставление «восток — запад» пришло в движение, бинарные оппозиции оказались спроецированными на другие, более сложные и неоднозначные географические границы, образовав таким образом новый пучок стереотипов. Но на этот раз отождествление обернулось своей противоположностью: если раньше «универсальный чужой» представлял собой исключение, то теперь он стал центральным символом фрагментирования постмодернистских идентичностей [14]. Поскольку все участники сложившейся ситуации одинаково воспринимались как отчужденные и лишенные корней, казалось, что они имеют общую основу. Во всяком случае, именно таким представлялось положение с высоты верхних этажей новой вавилонской конструкции. При взгляде с возвышения казалось, что индивидуальное распыление формирует новые паттерны глобального движения. Потоки мигрантов, потоки капитала, информационные и прочие потоки [15] выглядят одинаково и порождают новую магическую географию глобального. С этой точки зрения мигранты и перемещенные лица являлись идеальной персонификацией глобальной мобильности и отчуждения, телесным воплощением абстрактного различия.
С нижней, локальной перспективы, однако, становилась очевидной уже ранее известная формация бинарных оппозиций: мигранты и другие не-немцы оказывались заложниками лабиринта противоречивых полуграниц, свидетельствуя собой об эффекте отчуждения, характерном для новой фазы глобального капитализма. Итак, если фантазии идеальных мигрантов служили интерфейсами, посредством которых новая верхушка общества могла себя идентифицировать с глобальным, то реальным мигрантам была уготована роль козлов отпущения с возложенными на них негативными последствиями глобализации на локальном уровне.
Интерфейсы мира
Эти противоположные точки зрения на новую фазу глобализации проявились в Германии в двух противоречивых и противонаправленных движениях. На локальном уровне прошла волна расистских нападений и погромов, направленных против не-немецкого населения. В то же время сильно возрос интерес к глобальным моделям культуры, представленным, например, в концепции гибридности и так называемых постколониальных исследованиях.
Перенос теорий, возникших преимущественно в англоязычном пространстве, в немецкий контекст привел к появлению известной формулы: все культуры гибридны и потому одинаковы. Очевидно, что такое нивелирование существующих отношений неравенства и дискриминации могло произойти только с предельно высокой точки зрения и только при условии, что все локальные и специфические аспекты сравниваемых культур были оставлены без внимания. Целью перевода этих культурных моделей на немецкий язык было, таким образом, не перемещение в немецкий контекст, а включение в жаргон, считавшийся универсальным языком глобального. Это был расчет, реализующий всё более гибкие и мобильные компиляции различных культурных знаков, бредовую ars combinatoria эры информационного капитализма. Его функция по-новому имитировала глобальное координирование рассеянных по всему миру товарных производств, создавая одновременно новую форму международного разделения труда. В культурных центрах глобализированный общественный класс технических специалистов в сфере символического производства осуществлял перераспределение культурного сырья с периферии и перерабатывал его, превращая в строительные камни изящных цепочек значения и таинственных кодов, которые представляли собой мощные инструменты интерпретации, воображения и символического вмешательства и проникали в иерархии доступа и артикулированности.
Идеальным воплощением нового «универсального чужого» часто становились представители англо-американской диаспоры или те, кто считались таковыми. Их артефакты действовали как полупрозрачное зеркало противоречий и сломов формировавшейся новой Западной Европы и как интерфейсы локальной доминантной культуры, стремившейся оставаться конкурентоспособной на международном уровне.
Следствием новой версии старого стереотипа «универсального чужого» стала серия конфузных ситуаций и, в конце концов, создание новых культурных иерархий вкуса и различения, которые опять-таки сильно напоминали старые бинарные оппозиции. Нововведенное различие касалось глобальных и локальных меньшинств. Первые представляли собой модель идентификации с новой парадигмой глобальной культуры и считались способными выражать ее динамичные и гибкие свойства. Локальные же меньшинства считались безнадежно устаревшими, ретроградными, примитивными, эссенциалистскими, фундаменталистскими и фольклористскими. Под концепциями глобальной культуры образовался другой подземный фундамент бинарных различий — на этот раз между глобальными и локальными меньшинствами, а также между идеальными и реальными мигрантами. Если фантазии идеальных мигрантов действуют по принципу полупрозрачного зеркала и служат саморепрезентации нового глобального класса универсальных, динамичных и отчужденных управленцев, то реальные мигранты берут на себя роль носителей статичных, аутентичных и локальных ценностей. С другой стороны, представители меньшинств всё больше обращаются к тому же зеркальному механизму и используют его проекции в своих интересах, стремясь занять позицию «универсального чужого» [16].
Магическая география глобального репрезентировалась с помощью стрелок в диаграмме мировых потоков и связанных с ними гибридных глобальных интерфейсов, а доминантная точка зрения на эти транслокальные структуры породила магическую географию реорганизации локальных городских пространств, которая привела к повторному появлению географических оппозиций и границ, как, например, различие между центром города и запущенным гетто на его окраине. С верхней перспективы интернационалистские объединения меньшинств видятся как субкультурные модусы, которые выдвигают на передний план маскулинно-ориентированные фантазии мультинациональных мелких преступников и ретерриториализируют интернационалистские устремления в культурных гетто. Поэтому культурная репрезентация этих объединений неизбежно остается спорной территорией, а различные перспективы их восприятия порождают определенные формы географического ориентирования, бинарных оппозиций и иерархий. В отличие от этого, в нижней перспективе современное появление транснациональных сообществ обнаруживает пространство для полемики — подземный ход. Важнейшей задачей этого пространства является объединение людей самого разного происхождения в точечном узле связи для того, чтобы подорвать специфический и локальный фундамент исключения.
Загадочная конструкция кафкианской Вавилонской башни продолжает осуществляться на новом уровне. Новые коды глобального значения переводятся в локальные географические и социальные границы. Универсальный язык, который на поверхности создает видимость преодоления границ, в то же самое время порождает глубинные бинарные оппозиции и устанавливает систему низких перегородок или полуграниц, которая инсценирует видимость и невидимость, а гулу голосов глобального противопоставляет всё более глубокое молчание.
Джордж Стайнер в конце своей книги «После Вавилонского смешения» пишет: «В учении Каббалы, в котором вопросам множественности и происхождения языков всегда отводилось важное место, говорится об особом дне искупления, который упразднит само дело перевода. Все человеческие языки вновь сольются в единую, светопрозрачную насущность предвечной, но некогда утраченной нами речи, на которой Бог говорил с Адамом. <…> Впрочем, в Каббале говорится еще об одной, более эсотерической вероятности: бытует домысел (скорее всего еретический), согласно которому наступит день, когда перевод станет не просто ненадобен, но даже немыслим. Слова восстанут против человека. Они сбросят с себя оковы необходимости обозначать. Они станут „только лишь сами собой, и в устах наших обратятся в мертвые камни“. Так или иначе, мужчины и женщины будут навсегда освобождены от бремени и великолепия вавилонского крушения. Любопытно, однако, какому из двух молчаний суждено стать бездонным и безотзывным?» [17]
Ссылки:
*Используя скобки в англоязычном названии, автор устанавливает связь между омофонами и частичными омографами “whole” («целое») и “hole” («дыра», «яма», «скважина» и т. п.). — Прим. пер.
[1] Kafka F. Ich entlief ihr [1922]. In: Kafka F. Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlaß. Frankfurt am Main: Fischer, 1994. S. 94–95.
[2] Kafka F. Beim Bau der Chinesischen Mauer [1917]. In: Kafka F. Sämtliche Erzählungen. Frankfurt am Main: Fischer, 1970. S. 289–299. Пер.: Кафка Ф. Как строилась Китайская стена // Процесс. Рассказы. М.: Эксмо, 2019. С. 473–489. Ср. также анализ кафкианского образа Китая как «языковой фигуры еврейской диаспоры»: Meng W. Kafka und China. München: Iudicum, 1986. S. 20, 24–26.
[3] Fischer M. W.K. Leibniz und die chinesische Philosophie. Conceptus. — 1988. — Jahrgang 22, № 56. S. 13–14.
[4] Breuer H. Kolumbus war Chinese. Frankfurt am Main: Societäts-Verlag, 1970. S. 33.
[5] Имеется в виду зеркало Гезелла, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой — как затемненное стекло. — Прим. пер.
[6] Toshiya U. Japanimation and Techno-Orientalism. Documentary Box. — December 31, 1996. — № 9 (http://www.yidff.jp/docbox/9/box9–1-e.html).
[7] Bauman Z. Moderne und Ambivalenz [1991]. Frankfurt am Main: Fischer, 1995. S. 103–105.
[8] Katz D.S.
1982. P. 43–88.
[9] Morley D., Robins K. Techno-Orientalism: Japan Panic. In: Morley D., Robins K. Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London: Routledge, 1995. S. 156. (В буквальном переводе с английского языка “Orientals within” означает «жители Востока внутри», «представители Востока внутри» Европы. — Прим. пер.)
[10] Cohen P. Gefährliche Erbschaften. Studien zur Entstehung einer multirassistischen Kultur in Großbritannien [1988]. In: Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Herausgegeben von A. Kalpaka, N. Räthzel. Köln: Dreisam, 1994. S. 88.
[11] Friedman R.M.
[12] Kracauer S. Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films [1947]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. S. 326–327. Пер.: Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино. М.: Искусство, 1977. (В переводе на русский язык отсутствует Приложение, на первую часть которого ссылается Хито Штейерль. — Прим. пер.)
[13] Žižek S. Ein Plädoyer für die Intoleranz. Wien: Passagen, 1998. S. 88–89.
[14] Bauman Z. Moderne und Ambivalenz [1991]. Frankfurt am Main: Fischer, 1995. S. 123–125.
[15] Gregory S. Land der Ströme, Land der Burgen, Flusslandschaften mit wanderndem Personal. In: Ausstellungskatalog Öffentlicher Raum / Public Space. Salzburg Lehen. Salzburg: Anton Pustet, 1998. S. 139–155.
[16] Terkessidis M. Neorassismus revisited. Partikulare Identifizierung und universalistische Politik.
17⁰ C. Zeitschrift für den Rest. — Februar–April 1999. — № 17. S. 6–14.
[17] Steiner G. After Babel: Aspects of Language and Translation. New York, London: Oxford University Press, 1975. P. 474. Пер.: Стайнер Дж. После Вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. М.: МЦНМО, 2020. С. 597–598.
