Сцилла и Харибда сексуальной этики
Дэвид Бенатар широко известен как автор книги «Лучше никогда не рождаться», которая небезосновательно считается одной из самых интересных и продуманных работ в защиту антинатализма. Но спектр интересов южноафриканского философа куда шире. В одной из своих статей на тему сексуальной этики он формулирует своего рода дилемму для сторонников либеральных взглядов на секс. Бенатар старается показать, что последовательное одобрение неромантического секса несочетаемо с осуждением изнасилований и педофилии.
Специально для Insolarance Константин Морозов подробно разбирает аргументы Бенатара и защищает либеральный взгляд на сексуальную этику.
Читайте эту и другие статьи на сайте Insolarance:
https://insolarance.com/scylla-and-charybdis-in-sexual-ethics/

Примечание: 18+.
Дэвид Бенатар широко известен как автор книги «Лучше никогда не рождаться», которая небезосновательно считается одной из самых интересных и продуманных работ в защиту антинатализма. Но спектр философских интересов Бенатара не ограничен антинатализмом. Он очень продуктивный автор, в числе прочего занимавшийся такими вопросами, как этика телесных наказаний, оскорбительный юмор, допустимость детского обрезания, сексизм в отношении мальчиков и мужчин, расовые проблемы в ЮАР, жестокое обращение с животными, этический веганизм и так далее. Сексуальная этика — один из интересов Дэвида Бенатара.
В своей статье «Два подхода к сексуальной этике: Распущенность, педофилия и изнасилование» Бенатар рассуждает о непоследовательности тех людей, которые морально осуждают изнасилования и педофилию, но при этом не считают аморальным секс между двумя людьми, которые не состоят в романтических отношениях. Философ проводит различие между двумя подходами к сексуальной этике: «подходом значимости» и «подходом небрежности».
Согласно подходу значимости, секс — это особый тип физического взаимодействия двух людей, который выражает исключительную романтическую близость. Поэтому любой половой акт, который не выражает эту близость, является аморальным. Бенатар не приводит возможных аргументов в пользу этой позиции, поэтому что это не играет особой роли для целей его статьи. Однако этот взгляд определённо соответствует позиции неоклассического естественного права по вопросам сексуальной морали, представленной такими философами, как Джон Финнис, Жермен Гризе и Роберт Джордж.
Согласно же подходу небрежности, секс — это такое же обычное, приносящее удовольствие физическое взаимодействие, как приятный массаж, совместный ужин или танец. Поэтому в моральной оценке половых актов важны те же самые критерии, которые мы применяем в оценке любых других телесных взаимодействий. Принуждение другого человека к совместному ужину будет аморально, поэтому аморально и принуждение другого человека к сексу. Этот взгляд достаточно близок «либеральной» позиции по вопросам сексуальной морали, представленной, например, Эндрю Коппельманом и Стивеном Маседо.
Терминология Бенатара явно не является удачной. Хотя сторонники подхода значимости действительно придают сексу особое и исключительное значение, сторонники подхода небрежности явно не относятся к любому сексуальному акту небрежно. Норвежский биоэтик близких Бенатару взглядов Оле Мартин Моен иллюстрирует это с помощью любимой аналогии Бенатара — совместного ужина. Совместный ужин может ничего не значить для его участников и восприниматься просто как совместный приём пищи. Но романтический ужин при свечах имеет для его участников особое значение — он выражает их глубокую взаимную привязанность. Тем не менее, одни и те же люди могут участвовать как в ничего не значащих ужинах, так и романтических. Так и сторонники подхода небрежности могут иногда не придавать сексу романтического значения, но в других ситуациях они будут рассматривать половой акт таким образом.
Сам Моен использует эту иллюстрацию, чтобы предложить альтернативные обозначения двух взглядов: «подход исключительной значимости» и «подход ограниченной значимости». Но можно подобрать ещё более удачную альтернативу. В сущности, подход значимости — это консервативный взгляд. Очевидно, что большинство сторонников подхода значимости — это люди, придерживающиеся условно консервативных взглядов на сексуальные вопросы. Это не обязательно влечёт за собой политический консерватизм или даже моральный консерватизм по другим вопросам, помимо сексуальной этики. Стоит также учесть, что не любая позиция, которую принято называть «консервативной», будет являться традиционной для любого общества. И всё же «консервативная позиция» кажется более удачным выражением, чем «подход значимости». Аналогично и подход небрежности лучше было бы обозначить как «либеральную позицию». Разумеется, это также автоматически не влечёт за собой ни политического либерализма, ни морального либерализма по вопросам, не связанным с сексом.
Непоследовательность, о которой пишет Бенатар, состоит в том, что принятие либеральной позиции неизбежно ведёт к ослаблению морального осуждения изнасилований и педофилии, однако большинство сторонников этого взгляда поддерживают это осуждение приблизительно на том же уровне, что и сторонники консервативной позиции. Речь не идёт о том, что сторонники либеральной позиции вообще не должны считать изнасилования и педофилию аморальными. Как было подмечено ранее, они просто применяют в отношении них те же самые моральные принципы, что и в отношении других телесных взаимодействий. Непоследовательность состоит в том, что, как правило, люди рассматривают принуждение к сексу как большее моральное зло, чем принуждение к другим физическим взаимодействиям, будь то принуждение к совместному ужину, танцу, массажу и так далее. Кроме того, замечает Бенатар, в некоторых случаях педофилия вовсе не связана с принуждением в том же смысле, что и изнасилование, а потому некоторые случаи растления и вовсе не могут получить морального осуждения от последовательных сторонников либеральной позиции.
Сторонники консервативной позиции, напротив, могут рассматривать изнасилования и педофилию как особые виды морального зла, более ужасные, чем принуждение к совместной трапезе. Поскольку для сторонников консервативной позиции секс — это обязательно выражение романтической близости, то изнасилование — это особый вид морального зла, поскольку это не только принуждение, но и осквернение особой романтической природы сексуальной связи. Кроме того, сторонники консервативной позиции также могут осуждать и не связанную с принуждением педофилию, поскольку они также могут утверждать, что детям не хватает способности вырабатывать особую романтическую привязанность, необходимую для морально-приемлемого секса. Поэтому любое сексуальное взаимодействие с ребёнком будет аморально, даже если оно не сопряжено с принуждением.
Дэвид Бенатар не предлагает выбрать конкретную позицию из представленных двух. Он ставит нас перед выбором: занять позицию, допускающую неромантический секс, но при этом ослабляющую моральное осуждение изнасилований и педофилии, либо занять позицию, которая особенно сильно осуждает изнасилования и педофилию, но при этом также осуждает и неромантический секс. Так мы оказываемся зажаты между «Сциллой развращающего либерализма» и «Харибдой закрепощающего консерватизма».
Хотя аргументация Бенатара небезынтересна, всё же у нас нет необходимости соглашаться с навязываемой им дилеммой. Мы можем проплыть между Сциллой и Харибдой сексуальной этики, не жертвуя ни моральным осуждением изнасилований и педофилии, ни сексуальной свободой взрослых и сознательных людей. Какая позиция может нам это обеспечить?
Есть ли «третий путь»? Нужен ли он?

В своей статье Дэвид Бенатар также рассматривает возможные варианты «третьей позиции», которые бы могли поддержать сильное моральное осуждение изнасилований и педофилии, но оставили бы неприкасаемым неромантический секс. Всего Бенатар предлагает три таких позиции: одну гибридную и две негибридные промежуточные.
Гибридная позиция — это «подход симпатии». Согласно этому взгляду, секс не должен быть выражением глубокой романтической привязанности, но
Первая промежуточная позиция — это «подход интимности». Бенатар выявляет две его формы. В первой секс допустим только между близкими людьми. Но это, очевидно, является всего лишь замаскированной формой либо подхода значимости, либо подхода симпатии, либо промежуточным вариантом между ними. В любом из трёх случаев практики секса с незнакомцами или случайными знакомыми оказываются исключены. Хотя это может показаться кому-то привлекательной позицией, это не та позиция, на которую согласились бы защитники либерального подхода к сексуальной морали.
Во второй форме подхода интимности секс оказывается допустим в том числе между незнакомцами и случайными знакомыми, а его уникальность состоит в том, что секс должен быть частным, то есть происходить вне поля зрения других людей. Хотя Бенатар признаёт, что эта позиция может считаться промежуточной между подходами значимости и небрежности, он не видит в ней ничего, что бы указывало на особую моральную зловредность принуждения к интимным занятиям и аморальность интимных занятий с детьми. Таким образом, подход интимности всё ещё уязвим к тем же самым возражениям, что и либеральная позиция. Во всяком случае до тех пор, пока обоснование особой интимности секса не связывается с его романтической природой, что эквивалентно принятию консервативной альтернативы.
Вторая промежуточная позиция — это «подход вовлечённости». Согласно этому взгляду, секс — это всё-таки не совсем простое физическое взаимодействие. Он особым образом лично вовлекает участников, что обуславливает его особый статус. Но что это за особый статус? Каким образом он допускает секс между слабо знакомыми людьми, но в то же время поддерживает сильное осуждение секса с детьми или по принуждению? Без уточнения позиции не кажется очевидным, что подход вовлечённости — это не просто ещё одна переформулировка подхода значимости, сохраняющая все его недостатки. Но уточнённый подход вовлечённости действительно может быть решением проблемы, перед которой нас ставит Дэвид Бенатар. Хотя даже в таком случае это не столько самостоятельная промежуточная позиция, сколько важное уточнение либеральной позиции и её основных моральных выводов относительно неромантического секса, изнасилований и педофилии.
Само же решение состоит в том, что секс действительно отличается от иных физических взаимодействий в силу особой вовлечённости участников в процесс. Эта вовлечённость необязательно предполагает наличие романтической связи двух людей, однако она делает принуждение к сексу более ужасным, чем некоторые другие виды принуждения. Педофилия, в свою очередь, просто морально-эквивалентна принуждению к сексу, а потому столь же аморальна и аморальна по тем же причинам, что и изнасилования.
Изнасилование как особый вид зла

Сторонники либеральной позиции могут предложить сразу несколько ответов на дилемму Бенатара. Не все из них будут полагаться на уточнённый подход вовлечённости. Есть смысл рассмотреть все доступные стратегии ответа, чтобы выбрать из них наиболее перспективную. Всего таких стратегий может быть три: две из них предполагают некоторое согласие с Бенатаром, а третья использует уточнённый подход вовлечённости.
Во-первых, сторонники либеральной позиции могут просто согласиться с Бенатаром в том, что принятие этого взгляда ведёт к ослаблению морального осуждения изнасилований. Но с чего мы взяли, что это ослабление нежелательно? Оно действительно противоречит распространённой моральной интуиции. Но мы можем привести немало примеров, когда распространённая моральная интуиция явно ошибочна.
Так, сам Дэвид Бенатар считает, что аборт — это неприкасаемое право (и даже моральная обязанность) любой беременной женщины. Однако среди людей широко распространена моральная интуиция, что аборт — это убийство невинного человека, а потому должен быть запрещён. С точки зрения самого Бенатара, эта интуиция не соответствует реальному моральному статусу эмбриона, а потому ошибочна. На самом деле, взгляды Бенатара — это кладезь позиций, которые явно противоречат моральным интуициям большинства. Большинство не считает морально-неправильным деторождение или поедание мяса. Это не значит, что большинство право в этом отношении. Когда-то огромное число людей разделяло моральное убеждение о допустимости насилия в отношении иноверцев, но сегодня людей, согласных с этим, называют «экстремистами» и судят по закону. Возможно, Бенатар прав и некоторые доминирующие сегодня моральные воззрения недостаточно корректно отражают реальный моральный статус тех или иных вещей и действий, а потому подлежат пересмотру в будущем, как это случилось с нашим отношением к религиозной нетерпимости.
Почему бы нам не предположить, что отношение к изнасилованию как особому виду зла столь же некорректно отражает реальный моральный статус сексуальных взаимодействий между людьми? В таком случае мы действительно будем вынуждены признать, что изнасилование не более аморально, чем другое принуждение. Нас не должно волновать, что это противоречит чьим-то моральным интуициям, как нас уже не волнует, что чьи-то моральные интуиции в прошлом допускали, что исповедание «еретических» вероучений оправдывает насилие в отношении человека. Мы должны допустить, что моральная интуиция действительно обманывает нас
Но мы также можем смягчить некоторые нежелательные последствия, от которых нас предостерегает Бенатар. Так, из приравнивания изнасилования к простому физическому взаимодействию следует, что в ряде случае изнасилование будет даже меньшим злом, чем избиение, поскольку физический вред будет меньше. Но физические повреждения — это не единственный тип вреда, который может быть нанесён жертве принуждения. Мы должны принимать во внимание в том числе психологический ущерб. Изнасилование часто ведёт к более продолжительным и тяжким психологическим последствиям, чем избиение, даже если последнее наносит больший физический вред. Не стоит забывать, что многие жертвы даже единоразового сексуального насилия нуждаются в более продолжительной реабилитации и психотерапии, чем жертвы единоразового избиения. Не стоит забывать и о том, что жертва изнасилования с большей вероятностью покончит с собой и будет заниматься продолжительным селфхармом, чем жертва единоразового избиения [1].
Дэвид Бенатар подмечает, что возможной причиной такого большого психологического вреда, наносимого изнасилованием, может являться та же самая патриархальная культура сакрализации секса. То есть изнасилование не само по себе наносит столь внушительный психологический вред, а потому что жертвы изнасилований склонны рассматривать секс как нечто интимное и сакральное. Поэтому простое физическое взаимодействие, не более специфичное, чем принудительный массаж стоп, наносит психологические травмы, так как рассматривается как вторжение в особую и неприкасаемую зону человеческой сексуальности.
На это замечание Бенатара можно привести несколько ответов. Для начала, это всё ещё открытый эмпирический вопрос: действительно ли психологический вред от изнасилования вызван исключительно патриархальной культурой и сакрализацией секса? Уверенность в этом может пошатнуть исследование Мелиссы Фарли и Говарда Баркана Prostitution, Violence, and Posttraumatic Stress Disorder, выявляющее высокую зависимость между сексуальным насилием и посттравматическим стрессовым расстройством у
Но если замечание Бенатара верно и люди действительно сложнее переживают изнасилование именно
Кроме того, сам Бенатар при этом соглашается, что степень нашего осуждения изнасилований может зависеть от того, воспринимает ли сама жертва секс как нечто особенное в сравнении с другими типами взаимодействий. Однако его рассуждения здесь несколько запутаны и противоречивы. Бенатар предполагает, что мы должны учитывать то, сколько сексуальных партнёров было у жертвы насилия, чтобы судить о его/её взглядах на сексуальную мораль. Но в действительности это не имеет значения даже в том случае, если мы действительно считаем насилие против сторонников консервативной позиции более серьёзным, чем насилие против сторонников либерального взгляда [2]. Более показательной является степень психологического вреда. Хотя есть очевидные трудности в её оценке, это по-прежнему что-то подающееся приблизительному сравнению. В таком случае имеет важность не то, насколько активна половая жизнь жертвы, а то, насколько разрушительным для психики было покушение на её половую неприкосновенность. Избиение с тяжкими повреждениями воспринимается нами как более осуждаемое, чем лёгкое поколачивание. Аналогично и изнасилование следует воспринимать как более осуждаемое, чем избиение, в зависимости от степени наносимого им вреда.
На самом деле, уже на этом этапе дилемма Бенатара может быть досрочна закрыта уже на том основании, что у нас нет причин ограничивать «значимость» секса его восприятием как исключительно романтического акта. Можно представить себе либерализованную версию «подхода значимости»: изнасилование — это особый тип зла, потому что оно покушается на особую значимость секса, но каждый человек сам для себя определяет, что делает секс для него значимым способом человеческих взаимодействий. Для кого-то таким критерием будет романтическая привязанность, но у нас нет причин распространять этот критерий на всех людей. Нет ничего непоследовательного в том, чтобы люди сами определяли (не без фактора доминирующих культурных установок и воспитания), в чём для них состоит значимость сексуальных взаимодействий, покушением на которую является изнасилование.
Во-вторых, мы можем пойти обратным путём. Мы можем согласиться, что изнасилование — это то же самое, что и избиение. Но с чего мы взяли, что избиение — это не очень серьёзно? Возможно, проблема не в том, что мы слишком серьёзно воспринимаем изнасилования. Возможно, проблема в том, что мы недостаточно серьёзно воспринимаем любые другие физические нападения. На протяжении истории многие вещи воспринимались людьми как нечто обыденное, но сегодня считаются серьёзным аморальным действием. Например, были исторические периоды и места, когда и где рабство воспринималось как нормальное и естественное положение дел. Когда-то секс с подростками не считался чем-то аморальным, но сегодня (на что и указывает Бенатар) повсеместно распространена интуиция против подобных действий. Ещё более явная трансформация произошла с нашим восприятием сексуальных домогательств: то, что ещё несколько лет назад воспринималось как нечто просто слегка грубое или даже безобидное, сегодня приводит к дискредитации морального облика той или иной персоны.
То же в определённой степени касается и изнасилований. Во многих странах некогда изнасилование не считалось преступлением, если совершалось одним супругом против другого. На самом деле, даже сейчас есть люди, чья моральная интуиция предполагает, что не любой секс по принуждению — это изнасилование. Некоторые люди не склонны считать изнасилованием секс с лицом в сильного состоянии алкогольного опьянения, тогда как другие всё же классифицируют это как сексуальное насилие [3]. Так что нет ничего удивительного, если распространённая моральная интуиция недостаточно строго осуждает определённые аморальные действия.
Почему бы нам не предположить, что изнасилование — это ужасный и мерзкий аморальный поступок, но с той же самой степенью крайнего отвращения мы должны воспринимать и те физические нападения, которые кажутся большинству обыденными? Быть может, проблема не в том, что мы осуждаем изнасилование больше, чем принуждение съесть помидор, а в том, что мы недостаточно осуждаем принуждение съесть помидор? А, может быть, нужно более аккуратно подходить к сравнениям по таким сложным темам, ведь некоторые метафоры излишне упрощают и манипулируют?
Наша позиция не будет противоречивой, если мы любое нападение будем рассматривать как настолько же ужасное и мерзкое, как и изнасилование. Даже если мы сохраним некоторую дифференциацию разных нападений в зависимости от наносимого ими вреда, что также позволит нам выделять хотя бы некоторые изнасилования по наносимому ими психологическую вреду как особенно ужасные нападения на физическую неприкосновенность людей.
В-третьих, мы всё же можем настоять на том, что изнасилование отличается от других типов нападений, но это отличие не связано с сексуальностью как таковой. На самом деле, выше уже были очерчены некоторые соображения в пользу такого различия. Как минимум, что является неоспоримым эмпирическим фактом, некоторые изнасилования наносят сильный психологический вред жертве, что мы не можем сказать о, например, простом принуждении съесть помидор. Если бы принуждение к еде наносило (и в тех случаях, когда оно это делает) такой же психологический вред, мы должны бы были осуждать его в той же степени, в какой осуждаем изнасилования.
Если психологический вред от изнасилований можно снизить, продвигая культуру легкомысленного отношения к сексу, то это стоит только приветствовать. Но, как показывает приведённое выше исследование Фарли и Баркана, есть причины сомневаться в том, что весь психологический вред будет нивелирован «легкомысленным» отношением к сексу. И до тех пор, пока этот вред не нивелирован, мы должны осуждать изнасилования как особый тип морального зла, потому что он наносит особый вред. То, что он может гипотетически наносить меньший ущерб, не является причиной, по которой мы должны ослабить моральное осуждение уже сегодня, пока этот эффект ещё не был достигнут.
Наконец, причина, по которой сексуальное насилие наносит больший вред, а сам секс многими воспринимается как нечто особенное, состоит в том, что секс требует большого личного вовлечения. Само по себе это не делает секс чем-то, допустимым лишь между людьми, которые имеют крепкую эмоциональную связь. Но это делает секс чем-то, принуждение к чему наносит больший ущерб личности жертвы. И именно поэтому «подход вовлечённости» вбивает клин между неромантическим сексом и изнасилованием. Можно заниматься чем-то, требующим большого вовлечения, с людьми, с которыми вас ничего не связывает — можно играть в шахматы или заниматься боксом с людьми, которые не являются вашими близкими или хорошими знакомыми. Но заставлять человека участвовать с вами в занятии, требующем высокой степени личной вовлечённости (а секс, кажется, требует большей степени, чем шахматы или бокс), более аморально, чем принуждать его к
На самом деле, можно продолжить эту линию рассуждения. Мы можем выявить множество основанных на степени вовлечения критериев, отличающих изнасилование от других типов нападений, но при этом не связанных с сексом напрямую. Более того, чаще всего мы также сможем проследить определённую связь между этими критериями и тем, как мы обычно обсуждаем различные типы несексуального насилия. Наконец, при подобном рассмотрении мы увидим, что разные формы сексуального и несексуального насилия фактически оцениваются нами как более и менее морально-неправильные в зависимости от данных критериев. Сам факт дифференциации наших моральных оценок разных проявлений одних и тех же типов насилия уже показывает, что любимое Бенатаром (и определённо чисто риторическое) сравнение изнасилования с принуждением к еде абсолютно безосновательно.
Так, мы интуитивно воспринимаем принуждение к совместному ужину как менее морально-неправильное, чем изнасилование. Но мы можем также представить себе два противоположных случая такого насилия: случай Синдзи Икари и случай Аски Лэнгли. В первом случае молодой юноша пробирается в больничную палату молодой девушки и мастурбирует, разглядывая её обнажённое тело, пока она спит. Во втором случае уже сама девушка пытается заставить юношу, находящегося в подавленном состоянии, немного поесть, но после множества безуспешных попыток силой проталкивает еду ему в горло. Случай Синдзи Икари — это случай сексуального насилия, а случай Аски Лэнгли — случай принуждения к еде. Но случай Синдзи Икари многими не будет восприниматься в качестве столь же морально-неправильного действия, как проникающее изнасилование. Так и случай Аски Лэнгли многими будет восприниматься как более морально-неправильное действие, чем простое удержание человека за обеденным столом до тех пор, пока он сам не поест.
Почему наша моральная оценка склонна меняться в таких ситуациях? Есть множество нюансов, которые подталкивают наши интуиции к большему или меньшему осуждению. Проталкивание еды в рот более морально-неправильно, например, потому что оно инвазивно — оно более грубым образом покушается на телесную автономию, чем удержание человека на месте. Проталкивание еды также несёт в себе больше рисков нанесения тяжкого вреда здоровью и даже смерти, если еда попадёт в дыхательные пути и человек задохнется. Если фактический (физический или психологический) вред будет нанесён, то это само по себе заставит нас сильнее осуждать такие действия, но даже если он не будет нанесён, недобровольное наложение на невинного человека рисков и особенно рисков вреда здоровью и смерти — это уже достаточное основание для более серьёзного осуждения.
Точно так же неинвазивное изнасилование многими воспринимается как менее ужасное, чем инвазивное. А некоторые и вовсе не считают неинвазивное сексуальное насилие изнасилованием, и это даже отражено в российском уголовном делопроизводстве, где неинвазивные акты классифицируются как отдельное от изнасилования преступление — насильственные действия сексуального характера. Изнасилование, которое влечёт за собой вред здоровью в виде разрыва ануса или влагалища, тяжких увечий, венерических заболеваний и ВИЧ, а также психотравм, может рассматриваться как более предосудительное, чем изнасилование, которое не влечёт такого вреда. А может и не рассматриваться, ведь оно в любом случае влечёт за собой огромные риски такого вреда. Не говоря уже о рисках нежелательной беременности, которая, согласно антинаталистической же позиции Бенатара, особенно ужасна, потому что подвергает риску не только жертву изнасилования, но и потенциального ребёнка.
Таким образом, сторонникам либеральной позиции не нужно ослаблять моральное осуждение изнасилований, чтобы поддерживать нормализацию неромантического секса. Есть немало факторов, отличающих сексуальное насилие от других типов нападений и в особенности таких малозаметных, какие использует в качестве примера Дэвид Бенатар. Изнасилование — это по-прежнему жестокое, инвазивное, влекущее за собой большие риски физического и психологического вреда нападение, что отличает его от более тривиального принуждения к совместному ужину. По крайней мере, пока последний не превращается в попытки насильно протолкнуть кусок пищи в горло жертвы.
Конечно, на это можно возразить, что эти характеристики сексуального насилия не объясняют полностью ту степень, в которой люди выделяют его на фоне других форм насилия. Но это по-прежнему достаточно серьёзно, чтобы не признавать изнасилование чем-то тривиальным и незначительным. К тому же мы всё ещё можем согласиться, что некоторое (весьма незначительное) ослабление морального осуждения возможно и желательно. Но только в том случае, если особый психологический вред от изнасилований полностью обусловлен культурой сакрализации секса, а его полная десакрализация полностью нивелирует этот вред. В конце концов, нашей целью должно быть достижение моральной истины (если она существует), а не простое согласование наших некритично воспринятых моральных интуиций.
Педофилия как изнасилование

Проблема педофилии сложнее, чем проблема изнасилований. Достаточно просто понять, что такое изнасилование. Изнасилование — это принуждение кого-то к сексу, занятие сексом с человеком против его воли и без его согласия. Расхождения людей насчёт того, является ли та или иная ситуация реальным изнасилованием, чаще всего обусловлены тем, что не всегда грань между добровольным согласием и принуждением является явной. На какой, например, степени алкогольного опьянения люди теряют способность давать осознанное согласие на секс? От ответа на этот вопрос зависит, какие ситуации будут считаться изнасилованием, а какие — нет. Но это не требует никакого переопределения того, что такое «изнасилование».
Педофилия — это менее явное сексуальное преступление, чем изнасилование. В общих чертах так же несложно понять, что такое педофилия. Это секс с ребёнком. Но где проходит грань между ребёнком и взрослым? Многие, например, приравнивают нарушение 134 статьи Уголовного кодекса РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») к педофилии. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, определяет педофилию как «половое влечение к детям допубертатного возраста» (приблизительно до 10 лет). Как ни странно, по 134 статье вообще невозможно посадить педофила по версии ВОЗ, так как секс с ребёнком младше 12 лет классифицируется как изнасилование (статья 131 УК РФ).
Итак, будет ли секс с подростком педофилией? Или его корректнее обозначить как гебефилию для раннепубертатных подростков (приблизительно от 11 до 14 лет) и как эфебофилию для постпубертатных подростков (приблизительно с 15 до 19 лет)? Соответственно, должны ли мы вообще оценивать сексуальные взаимодействия с детьми и подростками по разным критериям? Эти вопросы становятся ещё более животрепещущими в свете статьи Бенатара. С одной стороны, Дэвид никак не пытается очертить рамки того, что он сам подразумевает под педофилией. С другой стороны, Дэвид также говорит о том, что в некоторых случаях сами дети способны к зачатию детей и могут испытывать половое влечение. Но это не относится к детям, то есть лицам допубертатного возраста. Бенатар говорит о подростках.
Это немного затрудняет нам всестороннее рассмотрение вопроса. Нет никаких причин, почему мы должны считать секс с ребёнком и секс с подростком морально эквивалентными. Понимая, что это утверждение можно понять очень двусмысленно, подчеркну: я не говорю, что между ними есть асимметрия в том смысле, что одно из этих взаимодействий должно быть запрещено, а другое — нет. Но если секс с подростком должен быть запрещён, то не по тем же самым причинам, по которым должен быть запрещён секс с ребёнком. Невозможно сохранять интеллектуальную честность и последовательность, игнорируя очевидные отличия между детьми и подростками в вопросах сексуальности и согласия. Необходимо ссылаться на дополнительные доводы в пользу запрета на секс с подростками, а не просто ссылаться на запрет секса с детьми, включая подростков в категорию детей. В конце концов, тот же самый Уголовный кодекс РФ, как и правовые документы других государств, проводит явную грань между детьми и подростками как в этом, так и других правовых вопросах.
Для простоты изложения мы отложим вопрос о подростках и остановимся на педофилии. Тем более, что Бенатар ничего не говорит о подростках прямо. В его статье фигурирует только слово «педофилия», поэтому мы будем использовать его. Разница лишь в том, что для нашего рассмотрения мы исключим двусмысленные и
Итак, что может сторонник либеральной позиции возразить, чтобы не признавать, что его взгляд ведёт к нормализации педофилии? На самом деле, стандартное возражение против педофилии ничем не отличается от стандартного возражения против изнасилований:
1. Занятие сексом с
2. Изнасилование аморально;
3. Педофилия — это занятие сексом с ребёнком;
4. Ребёнок в силу возраста не может дать согласия на секс;
5. Педофилия аморальна.
Разумеется, Бенатар знает об этом аргументе. И он предпринимает попытку показать, что этот аргумент ошибочен. В первую очередь, Бенатар утверждает, что раз секс — это просто физическое взаимодействие, в моральном смысле ничем не отличающееся от любого другого, то нет причин считать, что дети не могут давать на это своё согласие. Дети могут дать согласие на участие в играх с другими детьми и взрослыми, которые также предполагают физическое взаимодействие. Если секс, как гласит либеральная позиция, не должен восприниматься как особенное взаимодействие, что делает согласие ребёнка недействительным?
Существует определённое отличие между игрой и сексом. Оно состоит в том, что ребёнок может знать и чаще всего знает, что такое игра, но не может знать, что такое секс. Изменится ли ситуация, если взрослые, например, расскажут ребёнку, что это такое? Нет, ведь ребёнку по-прежнему не будет хватать «внутреннего понимания». Ребёнок, не достигший полового созревания, не может в полной мере понять и иметь мотивацию к занятиям сексом, а потому любое его согласие на такие занятия не будет в полной мере полным и информированным.
Кажется, Дэвид Бенатар отвечает и на это возражение. Он говорит, что ребёнок не должен знать и понимать мотивацию взрослого, чтобы согласиться на игру с ним. Ребёнок не обязан знать, что взрослый играет с ним только для того, чтобы доставить ему удовольствие, а, возможно, даже поддаётся с той же целью. Значит, и в случае с сексом ребёнку не нужно знать и понимать мотивацию взрослого, чтобы дать согласие. Но это совершенно иное возражение. Бенатар говорит о понимании ребёнком мотивации взрослого. Действительно, в сексе стороны не обязаны знать мотивы друг друга, чтобы давать на него согласие. Проблема в том, что ребёнок не может понять и даже иметь собственную мотивацию к занятиям сексом. Независимо от мотивов взрослого, ребёнок может иметь и понимать собственную мотивацию к игре. Он понимает, что игра доставит ему удовольствие, а потому соглашается участвовать. Но в силу неразвитости своего организма ребёнок не может ни иметь, ни понять мотивацию для занятий сексом. Ребёнок может быть инициатором игры со взрослым, но не может быть инициатором секса со взрослым — только сам взрослый может это сделать.
Именно поэтому мы можем уверенно говорить, что ребёнок не способен дать согласия на секс. Дело не в том, что секс выражает особую романтическую привязанность, которую ребёнок не в состоянии осознать. На самом деле, интуитивным кажется противоположное: ребёнок может осознать романтическую привязанность. Но он определённо не может осознать сексуальное влечение, ведь он не может его испытывать в силу физической незрелости.
Однако Бенатар также возражает, что, если мы приняли либеральную позицию, то нас вообще не должно волновать согласие детей на секс. Это определённо странный тезис, особенно в свете того, что Бенатар не спорит с необходимостью согласия на секс как такового (когда речь идёт о взрослых). Поэтому проясним его немного. Бенатар сравнивает секс с такими действиями, как посещение оперы или занятия спортом, подмечая, что в ряде случаев мы не рассматриваем принуждение детей к занятиям спортом или посещению оперы как нечто аморальное. Если секс не является специфичным занятием, то почему принуждение к нему со стороны родителей отличается от принуждения к занятиям спортом и оперой?
Бенатар приводит и другие ситуации, в которых, как ему кажется, мы не воспринимаем как из ряда вон выходящее делегирование прав ребёнка его родителю, который от его имени может проводить оценку рисков и давать согласие: употребление алкоголя, чтение определённых книг, занятия рискованным спортом. Я плохо знаком с культурными обычаями ЮАР, но мне кажется, что большинство людей всё же не считают, что родители на своё усмотрение могут разрешить детям пить алкоголь, читать порнографическую литературу и заниматься спортом, сопряжённым с большими рисками для здоровья. На самом деле, таких родителей большинство справедливо сочло бы безответственными, а некоторые даже задумались бы о том, не стоит ли лишить их родительских прав. Иными словами, ошибка Бенатара состоит в том, что родители не имеют (не должны иметь) прав решать за своих детей. Следствия из этого утверждения могут быть довольно радикальными. Например, мы можем вывести из этого, что родителям в принципе должно быть запрещено принуждать детей даже к посещению оперы или занятиям спортом. Это противоречит тому, как большинство людей сегодня воспитывает своих детей, но это кажется более трезвой и непротиворечивой позицией.
Если занять позицию, предлагаемую Бенатаром, то следствия из неё покажутся большинству откровенно чудовищными, а не просто неудобными для общераспространённых практик воспитания, как отказ от принуждения детей к
В обсуждаемой статье Бенатар, конечно, не говорит, что он занимает позицию, что родители вправе распоряжаться телом своих детей. Однако в других своих известных работах, где Дэвид защищает физические наказания и детское обрезание, он фактически соглашается с тем, что у родителей есть определённые права распоряжаться телом своего ребёнка. Из этого не следует, что они, по мнению Бенатара, также могут распоряжаться согласием ребёнка на секс — только если бы профессор при этом принял либеральную позицию, чего он не сделал. Здесь нет места для обсуждения его аргумента, но я нахожу нужным заметить, что аргументы Бенатара в защиту телесных наказаний и детского обрезания в целом очень слабые [4].
Однако, надо полагать, Дэвид Бенатар не считает, что родители могут дать от имени ребёнка согласие на что угодно. Как минимум, им надлежит исходить из интересов самого ребёнка при принятии подобных решений. Лишение органов, очевидно, противоречит долгосрочным интересам ребёнка жить полной и здоровой жизнью. Это несколько противоречит утверждению Бенатара о том, что родители могут исходить из собственного видения того, что есть благо для ребёнка. Напротив, мы исходим из того, что есть нечто объективно полезное и вредное для ребёнка, а родители должны опираться на это в принятии решений от его лица. Более того, если родители не делают этого, потому что не знают, в чём состоит объективная польза и вред, или потому что не согласны с этим, мы обоснованно можем счесть таких родителей безответственными и (опять же) рассмотреть перспективу лишения их родительских прав.
Таким образом, даже если мы допустим некоторое принуждение со стороны родителей против ребёнка, у нас по-прежнему есть ограничение такого принуждения — польза для ребёнка. И речь не о том, что приносит пользу ребёнку по мнению родителей, как предлагает Бенатар, а о том, что объективно для него полезно. Если люди могут абсолютно произвольно решать, что в их картине является пользой, а что — вредом, мы никак не сможем получить универсальные для всех правила взаимодействия, регулирующие непричинение друг другу вреда, поскольку взаимные претензии легко будут аннулированы заявлением, что в картине мира человека, наносящего кому-либо вред, это действие не является вредоносным. Как минимум, Бенатар не может согласиться на такую перспективу, потому что это подорвёт его защиту антинатализма, основанную на аргументе о том, что начало бытия ощущающего существа — это вред. Учитывая непопулярность этой позиции, сложно было бы понять, что означает этот аргумент, если каждый сам для себя может решить, что является и не является вредом.
Родители по меньшей мере должны исходить из того, что приносит пользу или вред ребёнку. Секс взрослого с ребёнком может нанести физический вред, поскольку организм детей недостаточно сформирован. На это Дэвид Бенатар отвечает тем, что не любой (и, возможно, большая его часть) секс взрослого с ребёнка инвазивный, а потому он необязательно будет наносить физический вред. Даже в таком случае он может наносить психологический вред. На это Дэвид также отвечает, что открытым остаётся вопрос, вызван ли этот психологический вред стигматизацией педофилии или педофилией как таковой. Однако здесь Бенатар заходит слишком далеко и делает поспешные выводы. Вопрос действительно является спорным среди психологов, но Дэвид говорит об этом так, будто наличие споров само по себе свидетельствует в пользу утверждения, что этот вред не может быть вызван педофилией как таковой.
Напротив, корректнее было бы обозначить наличие неразрешённой дискуссии и отложить дальнейшие рассуждения до тех пор, пока не будут предоставлены неопровержимые аргументы в защиту какой-либо из позиций в споре. Таким образом, мы должны сказать: пока сложно сказать, в какой степени психологический вред растления связан с самими педофильскими действиями, а в какой — со стигматизацией. Если вред действительно связан только со стигматизацией, то мы можем поддержать устранение стигмы. Но до тех пор пока она не будет устранена и не появится убедительных доводов в пользу того, что педофилия психологически безвредна для детей, мы не должны ослаблять моральное осуждение педофилии, даже если мы поддерживаем либеральную позицию по вопросам сексуальной морали. Тем более, что научное сообщество склоняется к тому, что, хоть стигма и усугубляет негативные последствия растления, такие действия сами по себе наносят вред ребёнку [5].
При этом сам Бенатар несколько непоследователен в этом вопросе. Так, оспаривая связь между растлением и психологической травмой, он всё же допускает, что сексуальные впечатления «могут быть глубоко сбивающими с толку и травмирующими» для ребёнка, с точки зрения консервативной позиции, поскольку ребёнок ещё не способен распознавать романтическую привязанность. Но, как было подмечено ранее, ребёнок явно может распознавать романтическую привязанность, но не сексуальное влечение. Поэтому этот довод более органично сочетается не с консервативной позицией, а с либеральной — он даёт дополнительное серьёзное обоснование того, почему педофилия должна быть запрещена и осуждаться, несмотря на то, что секс не является специфическим телесным взаимодействием. Любое травмирующее детей физическое взаимодействие обосновано должно быть запрещено, а лица, сознательно провоцирующие такое взаимодействие, должны быть признаны злонамеренными преступниками.
При этом консервативная позиция, какой она описана Бенатаром, не может предоставить столь же сильного осуждения педофилии. Сам Бенатар признаёт, что подход значимости лишь может выступать против педофилии, но не обязательно будет это делать. Однако в действительности описанный Бенатаром подход значимости в принципе не может обеспечить осуждение педофилии по выявленному им критерию, поскольку дети явно могут испытывать что-то вроде романтических чувств. Многие люди относят свою первую влюблённость к периоду детства, а некоторые дети даже влюбляются во взрослых, например, учителей или воспитателей. В таком случае консервативная позиция действительно одобряет педофильские акты, когда они происходят между влюблёнными друг в друга взрослыми и детьми [6]. На самом деле, консервативная позиция в интерпретации Бенатара также может смягчить осуждение изнасилований, если насильник влюблён в свою жертву или если жертва влюблена в насильника [7].
Либеральная же позиция, даже без соображений насчёт рисков психологического вреда растления, всё ещё может считать педофилию аморальной по причинам, указанным выше — ребёнок не способен дать осознанного согласия на секс, как он не может дать согласия на продажу собственных органов, а потому любой секс между ребёнком и взрослым является изнасилованием. Причины, по которым изнасилование является особым видом морального зла, были рассмотрены в предыдущем разделе.
Определившись с педофилией, как бы мы могли охарактеризовать гебефилию и эфебофилию? Подростки, по крайней мере постпубертатные, способны распознать половое влечение и потому у нас нет причин считать, что они не могут дать согласия на секс. Значит ли это, что секс с подростком ничем в моральном плане не отличается от секса со взрослым? Я не думаю, что возможно выдвинуть столь же убедительный довод против гебефилии и эфебофилии, как против педофилии, но эти сексуальные взаимодействия также не в полной мере эквивалентны сексу двух (и более) взрослых.
Дело в том, что подросток (как и ребёнок) всё ещё сильно экономически и психологически зависим от взрослых. Это не может сделать его согласие на секс недействительным, ведь взрослые тоже могут быть зависимы друг от друга и в этом не всегда есть что-то проблематичное. Но такая зависимость и часто сопутствующее ей доминирование делает согласие подростка менее прозрачным (а также дополнительно обесценивает любое согласие, какое мог бы дать ребёнок). Это не значит, что гебефилия и эфебофилия всегда аморальны, но они определённо морально-проблематичны. Мы могли бы углубиться в вопрос, чтобы дать более однозначный и исчерпывающий ответ, но это выходит за пределы обсуждаемого нами вопроса. В конце концов, различие педофилии и гебефилии/эфебофилии ничего не добавляет к спору о том, какой из двух подходов к сексуальной морали мы должны принять.
Однако моя собственная антиэфебофильская интуиция состоит в том, что помимо физической зрелости право самопринадлежности может быть ограничено определёнными соображениями о моральной и психологической зрелости. Если это так, то помимо физической способности испытывать, распознавать и понимать половое влечение подросткам для полноценного осознанного согласия на секс необходима некоторая личностная зрелость. Это не делает секс уникальным, ведь ровно тем же образом подростки не могут принять решения о продаже своих органов или эвтаназии. Подобная позиция даже необязательно противоречит (близкому мне) этическому либертарианству, поскольку последнее признаёт патернализм в отношении незрелых детей [8].
Дилемма Бенатара решена?
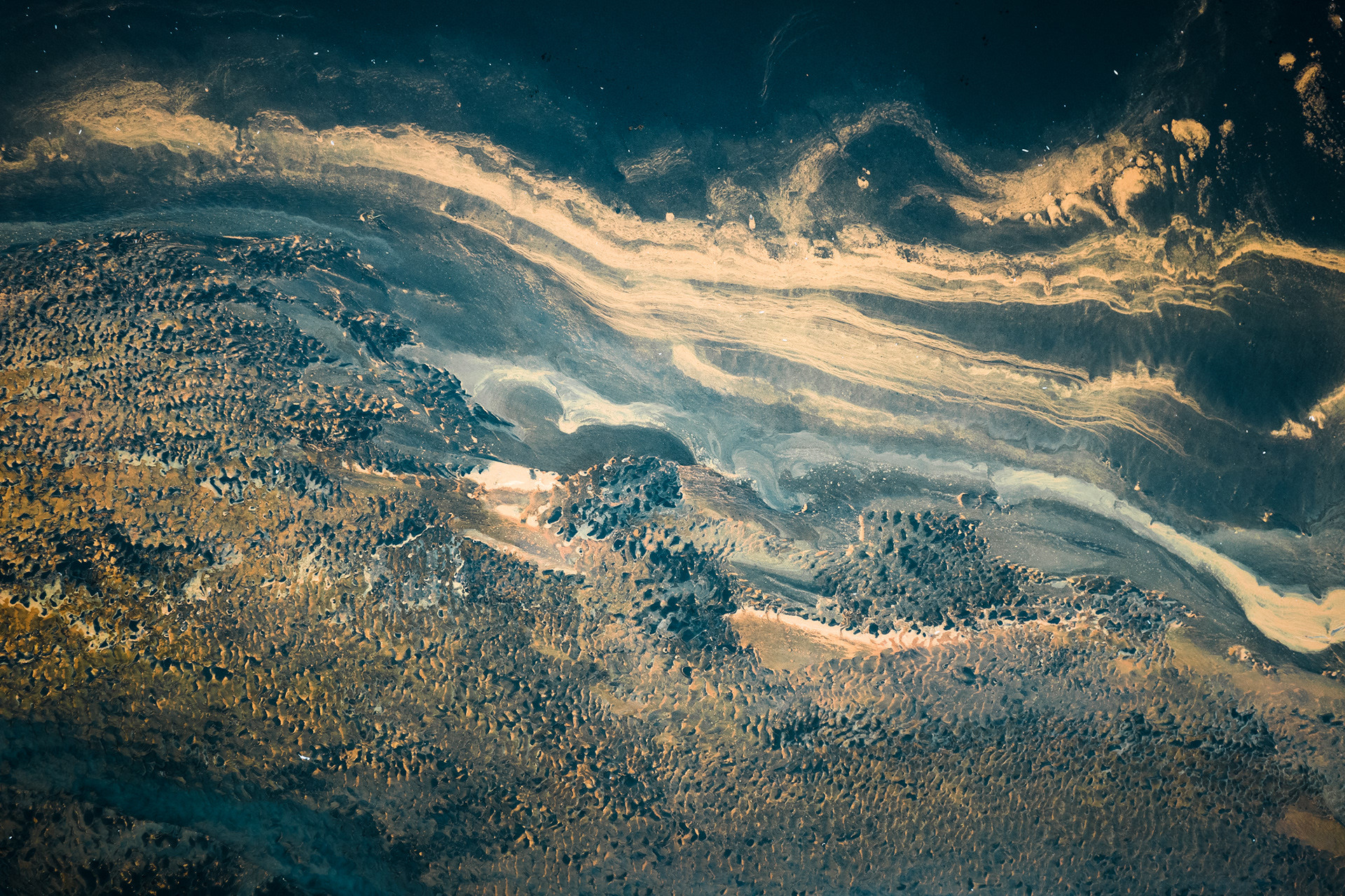
Мы выявили три стратегии ответа на дилемму Бенатара с позиций либерального взгляда на сексуальную этику. Мы можем согласиться, что изнасилования не более аморальны, чем любое другое принуждение, и ослабить наше осуждение изнасилований. Мы можем согласиться, что изнасилования не более аморальны, чем любое другое принуждение, и усилить наше осуждение других посягательств. Но даже в этих случаях некоторая дифференциация морального осуждения всё ещё возможна, так что сильная версия дилеммы Бенатара просто несостоятельна.
Но более перспективна третья стратегия: мы можем выработать более всесторонний взгляд на секс как процесс, требующий высокой степени личного вовлечения. Различные аспекты секса делают принуждение к нему более ужасным нападением на физическую неприкосновенность, чем несексуальное насилие. Это позволяет разработать сложную систему дифференциации наших моральных оценок в вопросах, касающихся принуждения к сексу и иных телесным взаимодействиям. И, таким образом, мы можем отличить изнасилование от принуждения к ужину, не принимая наивной предпосылки о сакральном и
Поэтому у сторонников либеральной позиции по вопросам сексуальной морали нет никакой необходимости ослаблять моральное осуждение изнасилований и педофилии или осуждать неромантический секс. Ничто не мешает сочетать сильное осуждение сексуального насилия с невмешательством в частную жизнь людей и свободой в выборе сексуальных партнёров. Сексуальные отношения взрослых и сознательных людей — это их частное дело, даже если они не состоят в романтических отношениях. И из этого никак не следует, что изнасилование не более серьёзно, чем принуждение съесть помидор.
Автор текста: Константин Морозов.
Примечания:
[1] См., например: Mason F., Lodrick Z. “Psychological consequences of sexual assault”, Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology 27 (1): 27–37; McLean I. A. “The male victim of sexual assault”, Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology 27 (1): 39–46; Jina R., Thomas L. S. “Health consequences of sexual violence against women”, Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology 27 (1): 15–26.
[2] Дело не в том, что мы признаём моральный статус сторонников консервативной позиции более высоким, чем у сторонников либеральной позиции. Здесь речь идёт о том, что принятие определённой позиции по сексуальной этике (или скорее культурных предпосылок этой позиции) определяет то, насколько серьёзный вред нанесло сексуальное насилие. Допустим, произошла драка, в которой А избил Б, а В избил Г. При этом Б отделался лёгкими ушибами, а Г попал в больницу со множеством переломов. То, что А заплатит меньшую компенсацию, чем В, никак не связано с неравенством морального статуса Б и Г. Даже если причина, по которой Б получил меньший урон, чем Г, связана с его внутренними особенностями, а не действиями А (например, если у него просто более крепкие кости, потому что он хорошо питается и у него хорошие гены). Такая оценка открыта для критики, но её нельзя обвинить в том, что она рассматривает жертв насилия как неравных. Сам Бенатар аналогично приводит в пример человека, которого силой заставляют съесть кусок ветчины. Если жертва — этический веган, мусульманин или еврей, то принуждение наносит больший вред, поскольку не только вторгается в автономию человека, но и заставляет его пойти против собственных этических или религиозных принципов.
[3] Конечно, это спор о степени: почти все согласны, что не способный стоять на ногах человек вряд ли может дать согласие, но между этим состоянием и полной трезвостью очень много промежуточных степеней опьянения. И разные люди по-разному оценивают, в какой именно момент согласие выпившего человека перестаёт быть достаточно осознанным, чтобы иметь моральную силу.
[4] Чтобы моё утверждение не звучало голословно, я сошлюсь на статью, в которой представлена обстоятельная и серьёзная критика аргументов Бенатара — Rio Cruz, Leonard B. Glick, John W. Travis, “Circumcision as Human-Rights Violation: Assessing Benatar and Benatar”, American Journal of Bioethics (2003 / 05 Vol. 3; Iss. 2).
[5] См., например: Levitan R. D., Rector N. A., Sheldon T., Goering P. “Childhood adversities associated with major depression and/or anxiety disorders in a community sample of Ontario: issues of co-morbidity and specificity”, Depression and Anxiety 17 (1): 34–42; Nelson E. C., Heath A. C., Madden P. A., et al. “Association between self-reported childhood sexual abuse and adverse psychosocial outcomes: results from a twin study”, Archives of General Psychiatry 59 (2): 139–145; Kendler K. S., Bulik C. M., Silberg J., Hettema J. M., Myers J., Prescott C. A. “Childhood sexual abuse and adult psychiatric and substance use disorders in women: an epidemiological and cotwin control analysis”, Archives of General Psychiatry 57 (10): 953–959.
[6] Эта позиция не понравится современным политическим консерваторам, но она действительно консервативна в том смысле, что исторически в традиционных обществах люди начинали половую жизнь достаточно рано по меркам современных западных обществ.
[7] Я надеюсь, не нуждается в объяснении тот факт, что влюблённость в другого человека и даже романтические отношения с ним не равнозначны согласию на секс в любое время. Супружеское изнасилование — реально существующая практика. От супружеского изнасилования был рождён, например, немецкий философ-антинаталист Филипп Майнлендер. Консервативная позиция в интерпретации Бенатара действительно может осуждать изнасилование как вторжение в личную автономию, но когда оно происходит между людьми, связанными романтическими узами, это осуждение становится столь же слабым, как и в либеральной позиции, как её интерпретирует Бенатар. В этом смысле Бенатар явно искажает не только взгляды сторонников либеральной позиции, но и взгляды сторонников консервативной позиции.
[8] Это может шокировать в свете позиции Мюррея Ротбарда и особенно её искажённого изложения Михаилом Световым. Однако, как подмечает Карл Видерквист в своей статье «Либертарианство: правое, левое и социалистическое», сегодня все мейнстримные либертарианцы признают патернализм в отношении детей.
